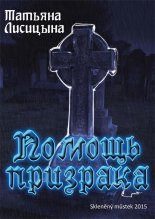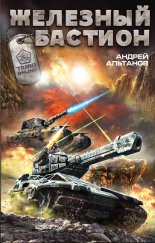Долг: первые 5000 лет истории Гребер Дэвид

Хартализм нередко считался популистской версией экономической теории, которая пользовалась популярностью у разных чудаков[41]. Забавно, что традиционные экономисты часто устраивались работать при правительствах и советовали им, как осуществлять политику вроде той, что описывали сторонники хартализма, а именно налоговую политику, которая преследует цель создавать рынки там, где их раньше не было. И это несмотря на то, что в теории они придерживались положения Смита о возникновении рынков стихийно, по собственному почину.
Особенно ярко это проявлялось в колониальном мире. Вернемся на мгновение на Мадагаскар: я уже упоминал, что одной из первых вещей, которую сделал французский генерал Галльени, покоритель Мадагаскара, после завершения завоевания острова в 1901 году, стало введение подушного налога. Этот налог не только был высоким, но еще и должен был выплачиваться в новых малагасийских франках. Иными словами, Галльени напечатал деньги, а потом стал требовать, чтобы каждый житель страны вернул ему часть этих денег.
Но самым поразительным было то, как описывался этот налог. Он назывался “impot moralisateur”, «воспитательный», или «приучающий к нравственности», налог. То есть он был призван, выражаясь языком той эпохи, втолковать аборигенам ценность работы. Поскольку «воспитательный налог» нужно было уплачивать вскоре после сбора урожая, крестьянам было проще всего получить деньги, продав часть собранного риса китайским или индийским торговцам, которые быстро обосновались в мелких городках страны. По очевидным причинам после сбора урожая рыночные цены на рис были минимальны; если кто-то продавал слишком много риса, это означало, что ему могло не хватить на пропитание семьи в течение всего года и тогда он должен был покупать собственный же рис в кредит у тех же самых торговцев, но уже по гораздо более высокой цене. В результате крестьяне влезали в огромные долги (торговцы брали ростовщические проценты). Было легче всего выплатить долг, начав выращивать какую-нибудь товарную культуру на продажу — кофе или ананасы — или отправляя одного из детей на заработки в город или на одну из плантаций, которые устраивали на острове французские колонисты. Весь этот проект может показаться не более чем циничной схемой эксплуатации дешевого крестьянского труда. Таким он и был, но у него была еще и другая цель. Колониальное правительство откровенно говорило (по крайней мере в документах, предназначенных для внутреннего пользования) о том, что у крестьян должно оставаться на руках хоть немного денег и что они должны привыкнуть к безделушкам вроде зонтиков, губной помады и печенья, которые продавались в китайских магазинах. Важно было привить им новые вкусы, привычки и создающие потребительский спрос ожидания, которые сохранятся после ухода завоевателей и навсегда привяжут Мадагаскар к Франции.
Но люди в массе своей не идиоты, и большинство мальгашей прекрасно поняли, что пытались сделать с ними завоеватели. Некоторые решили сопротивляться. Через шестьдесят с лишним лет после покорения острова французский антрополог Жерар Альтаб наблюдал, как жители деревень на восточном побережье послушно приходили на кофейные плантации, чтобы заработать деньги на уплату подушного налога, а уплатив его, намеренно игнорировали товары, продававшиеся в местных лавках, и отдавали все оставшиеся деньги старейшинам рода, которые покупали на них скот для принесения жертв предкам{37}. Многие вполне открыто говорили, что, по их мнению, так они избегали ловушки.
Однако такое сопротивление редко когда длится вечно. Постепенно рынки появились даже в тех частях острова, где никогда прежде не существовали, а с ними неизбежно возникла и сеть мелких лавок. Когда я оказался там в 1990 году, поколение спустя после отмены подушного налога революционным правительством, логика рынка настолько проникла в сознание людей, что даже духовные медиумы произносили речи, которые казались заимствованными у Адама Смита.
Такие примеры можно приводить до бесконечности. Нечто подобное произошло во всех завоеванных европейцами частях света, где еще не было рынков. Так и не обнаружив меновой торговли, они в конце концов стали использовать приемы, отвергавшиеся классическими экономистами, для того чтобы создать нечто похожее на рынки.
В поисках мифа
Антропологи жаловались на миф о меновой торговле почти целое столетие. Иногда экономисты отмечали с легким раздражением, что они продолжают рассказывать несмотря ни на что все ту же историю по одной простой причине: антропологи так и не предложили ничего лучшего{38}. Возражение вполне понятное, но на него есть и простой ответ. Антропологи так и не смогли предложить ясную и убедительную историю происхождения денег потому, что, судя по всему, такой истории вообще не было. Деньги никто не изобретал, точно так же как не были «изобретены» музыка, математика или ювелирное искусство. То, что мы называем «деньгами», вовсе не «вещь», а лишь способ математического сравнения вещей, подобный пропорции: например, один икс равен шести игрекам. Такое использование денег, возможно, возникло уже тогда, когда человек научился думать. Когда мы пытаемся выяснить детали, то обнаруживается, что существует множество различных обычаев и практик, которые слились в то, что мы теперь называем «деньгами», и именно по этой причине экономистам, историкам и всем остальным так трудно предложить их единое определение.
Долгое время приверженцам кредитной теории мешало отсутствие у них столь же убедительной версии, как традиционная. Но это не значит, что все участники споров о деньгах, которые велись между 1850 и 1950 годами, не могли прибегнуть к собственному мифологическому оружию. Это хорошо видно на примере Соединенных Штатов. В 1894 году гринбекеры, настаивавшие на том, что доллар необходимо отвязать от золота, чтобы позволить правительству свободно тратить деньги на создание рабочих мест, решили устроить марш на Вашингтон — эта идея впоследствии стала в США очень популярной. Книга Л. Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», изданная в 1900 году, считается иносказательным рассказом о популистской кампании Уильяма Дженнингса Брайана, который дважды баллотировался на пост президента, выступая с программой «свободного серебра». Суть ее заключалась в замене золотого стандарта на биметаллическую систему, которая дала бы возможность свободно выпускать серебряные деньги наряду с золотыми[42]. Как и в случае гринбекеров, одними из главных сторонников движения стали должники, особенно семьи фермеров со Среднего Запада вроде семьи Дороти, многие из которых утратили право выкупать свое заложенное имущество во время тяжелой рецессии 1890-х годов. В популистском прочтении Злые Ведьмы Востока и Запада представляли собой банкиров Восточного и Западного побережий (инициаторов политики ограничения денежного предложения и ее выгодополучателей), Страшила воплощал фермеров (у которых не было мозгов, чтобы избежать долговой ловушки), Железный дровосек был промышленным пролетариатом (у которого не было сердца, чтобы поддержать фермеров), а Трусливый Лев отражал политический класс (у которого не хватило смелости вмешаться). Дорога из желтого кирпича, серебряные башмачки, изумрудный город и незадачливый Волшебник говорят сами за себя[43]. «Оз» — это стандартная аббревиатура «унции»[44]. Как попытка создать новый миф история Баума оказалась на редкость удачной, а вот как политическая пропаганда — не очень. Уильям Дженнингс Брайан в общей сложности трижды провалился на президентских выборах, серебряный стандарт так и не был принят, и сегодня мало кто помнит, с какой целью изначально задумывался «Удивительный волшебник из страны Оз»{39}.[45]
Для сторонников теории государственных денег это было проблемой. Истории о правителях, которые используют налоги для создания рынков на завоеванных территориях, для выплаты жалованья солдатам или для покрытия других государственных нужд, не сильно вдохновляют. Немецкие идеи о том, что деньги — это воплощение национального духа, тоже не обрели особой популярности.
Вместе с тем всякое крупное экономическое потрясение наносило очередной удар по общепринятой либеральной теории. Кампания Брайана стала реакцией на Панику 1893 года. Во времена Великой депрессии 1930-х годов сама мысль о том, что рынок может сам себя регулировать, а правительство должно обеспечивать прочную привязку денег к драгоценным металлам, полностью себя дискредитировала. Приблизительно с 1933 по 1979 год правительства всех крупных капиталистических стран полностью сменили курс, приняв кейнсианство в той или иной форме. Кейнсианская теория отталкивалась от предположения о том, что капиталистические рынки могут функционировать лишь тогда, когда капиталистические правительства берут на себя заботу о них, т. е. стимулируют экономику за счет наращивания дефицита во время спада. В 1980-х годах Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США устроили целый спектакль, отвергнув этот принцип на словах, но неясно, действительно ли это произошло на деле[46]. В любом случае, они действовали уже после того, когда по классической монетарной теории был нанесен еще более мощный удар: им стало решение, принятое Ричардом Никсоном в 1971 году и заключавшееся в том, что доллар был полностью отвязан от драгоценных металлов, международный золотой стандарт был отменен, а на смену ему пришла система плавающих валютных курсов, которая с тех пор доминирует в мировой экономике. Это означало, что все национальные валюты теперь стали, по выражению экономистов неоклассической школы, «фиатными деньгами», обеспеченными лишь общественным доверием.
Джон Мейнард Кейнс прислушивался к доводам «альтернативной традиции», как он ее называл, кредитной и государственной теорий намного больше, чем любой другой экономист его масштаба (а Кейнс остается крупнейшим экономическим мыслителем XX века) до или после него. До некоторой степени он и сам погрузился в эту традицию: в 1920-х годах он несколько лет изучал месопотамские клинописные банковские записи, пытаясь выявить происхождение денег, — это было его «вавилонское безумие», как он говорил позднее{40}. Его выводы, изложенные в самом начале «Трактата о деньгах», его самой известной работы, более или менее соответствовали единственному заключению, к которому только можно прийти, если опираться не на базовые принципы, а на тщательное исследование исторических свидетельств. Состояли эти выводы в том, что точка зрения чудаков была верной. Какими бы ни были более ранние истоки денег, в последние четыре тысячи лет они были творением государства. Люди, отмечал он, заключают друг с другом контракты. Они берут кредиты и обещают их выплатить.
Таким образом, государство выступает прежде всего как законная власть, которая добивается оплаты того, что соответствует контракту по названию или по описанию. И выступает в этой роли вдвойне, когда к тому же присваивает себе право определять и провозглашать, что именно соответствует этому названию, и право время от времени менять это определение, т. е. менять смысл слов. Это право присваивают себе все современные государства и присваивали их предшественники на протяжении по меньшей мере четырех тысяч лет. Когда была достигнута эта стадия эволюции денег, хартальная теория Кнаппа, в соответствии с которой деньги создаются государством, в полной мере подтвердилась… Все сегодняшние цивилизованные деньги, вне всякого сомнения, являются хартальными{41}.
Это не означает, что государство обязательно создает деньги. Деньги — это кредит, они могут появляться благодаря частным договорным соглашениям (например, кредитам). Государство просто обеспечивает их выполнение и диктует юридические условия. А вот следующее утверждение Кейнса: банки создают деньги, и ничто их в этом не ограничивает — ведь сколько бы они ни давали в долг, заемщику не остается ничего, кроме как опять положить деньги в какой-нибудь банк, а значит, с точки зрения банковской системы в целом дебет и кредит взаимно уравновешивают друг друга[47]. Последствия этого были радикальными, только вот Кейнс радикалом не был. Он всегда старался формулировать проблему так, чтобы ее можно было реинтегрировать в экономическую науку его эпохи.
Да и мифотворцем Кейнс не был. Альтернативная традиция смогла предложить ответ на миф о меновой торговле благодаря усилиям не самого Кейнса (он в конечном счете решил, что вопрос о происхождении денег не имел особого значения), а отдельных современных неокейнсианцев, которые не побоялись максимально развить некоторые из его наиболее радикальных идей.
Самым слабым звеном в государственно-кредитных теориях денег был вопрос о налогах. Одно дело — объяснить, почему ранние государства требовали уплаты налогов (чтобы создать рынки). Совсем другое — задаться вопросом «А по какому праву?». Если признать, что древние правители не были обыкновенными бандитами, а налоги не были банальным вымогательством (насколько мне известно, ни один сторонник кредитной теории не придерживался столь циничной оценки ранних правительств), то нужно выяснить, чем они это оправдывали.
Сегодня все мы думаем, что знаем ответ на этот вопрос. Мы платим налоги, чтобы правительство могло нам предоставлять определенные услуги. Первая из них — обеспечение безопасности: военная защита зачастую была единственной услугой, которую были в состоянии оказывать ранние государства. Конечно, сегодня правительство предоставляет много чего еще. Считается, что все это восходит к некоему изначальному «общественному договору», на который каждый согласился, хотя никто точно не знает, когда и кто это сделал и почему мы должны быть связаны решениями наших далеких предков в этой области, тогда как мы не считаем себя особо связанными их решениями, касающимися всего остального[48]. Все это имеет смысл, если вы полагаете, что рынки появились раньше правительств, но обращается в ничто, когда вы понимаете, что это не так.
Есть и альтернативное объяснение, которое согласуется с государственно-кредитным подходом. Оно носит название «теории изначального долга». Ее разрабатывала группа французских исследователей — не только экономистов, но и антропологов, историков и специалистов по классическим языкам, которые изначально объединялись вокруг Мишеля Аглиетты и Андре Орлеана[49], а позже вокруг Бруно Тере. Затем ее взяли на вооружение неокейнси-анцы в США и Великобритании{42}.
Эта теория появилась относительно недавно — в ходе споров о природе евро. Создание общей европейской валюты породило острые споры не только между интеллектуалами (подразумевает ли общая валюта появление общего европейского государства? или общей европейской экономики? или общества? это в общем и целом, одно и то же или нет?), но и среди политиков. Идею о создании еврозоны отстаивала прежде всего Германия, центральный банк которой по-прежнему видит свою главную цель в борьбе с инфляцией. Более того, поскольку политика ограничения кредита и необходимость достижения сбалансированного бюджета использовалась как главное оружие в борьбе за сворачивание государства всеобщего благосостояния в Европе, она стала основным предметом споров между банкирами и пенсионерами, кредиторами и должниками, накал которых был не меньшим, чем в Америке 1890-х годов.
Главный аргумент теории изначального долга состоит в том, что любая попытка отделить монетарную политику от социальной в корне ошибочна, поскольку они являются единым целым. Правительства могут использовать налоги для создания денег потому, что они стали хранителями долга всех граждан друг перед другом. Этот долг — основа общества как такового. Он появился задолго до денег и рынка, которые служат лишь для того, чтобы раздробить его на мелкие части.
Изначально, гласит теория, это чувство долга выражалось не государством, а посредством религии. Чтобы обосновать эту идею, Аглиетта и Орлеан обратились к некоторым ранним религиозным санскритским произведениям — гимнам, молитвам, стихотворениям, собранным в Ведах, и к Брахманам, комментариям Вед, которые были составлены жрецами в последующие столетия и ныне считаются первоисточником индуистской мысли. Выбор не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Эти тексты представляют собой самые древние известные нам размышления о природе долга.
Даже в самых ранних ведийских поэмах, сочиненных приблизительно между 1500 и 1200 годами до н. э., речь постоянно заходит о долге, который выступает синонимом вины и греха[50]. Есть множество молитв, которые обращены к богам с просьбой освободить молящегося от оков или уз долга. Иногда это относится к долгу в прямом смысле. Например, в Ригведе (10.34) дается длинное описание бедственного положения, в котором оказывается игрок: «Обремененный долгами, испуганно ищущий денег, // Идет он ночью в дом других (людей)»{43}. В других местах это чистая метафора.
В этих гимнах важную роль играет Яма, бог смерти. Быть в долгу значило нести бремя, возложенное Смертью. Иметь какое-либо невыполненное обязательство или неисполненное обещание по отношению к богам или к людям означало жить в тени Смерти. Даже в самых ранних текстах в понятие «долг» вкладывался более широкий смысл внутреннего страдания, об избавлении от которого человек молил богов, в первую очередь Агни, воплощавшего жертвенный огонь. Лишь в Брахманах комментаторы попытались связать все это в полноценную философскую концепцию. Вывод из нее вытекал такой: человеческое существование само по себе является формой долга.
Человек рождается в долгу; сам по себе он рожден для Смерти, и, лишь принося жертвы, он выкупает себя у Смерти{44}.
Поэтому жертвоприношение (а эти ранние комментаторы сами были жрецами) называется «данью Смерти». Ну или так оно обозначалось. На самом деле жрецы лучше, чем кто-либо другой, знали, что жертва приносится всем богам, а не только Смерти, которая была лишь посредником. Однако такая постановка вопроса неизбежно порождала проблему, которая возникает всякий раз, когда человеческая жизнь определяется таким образом. Если наши жизни — это заем, кто захочет выплачивать такой долг? Жить в долгу означает быть виновным, неполноценным. Но полноценность может означать уничтожение. Значит, жертвенная «дань» может рассматриваться как своего рода уплата процентов, при этом жизнь животного заменяет то, что является предметом долга, т. е. нас самих, — это лишь способ отсрочить неизбежное[51].
Комментаторы-жрецы предложили несколько путей выхода из этой дилеммы. Некоторые дальновидные брахманы стали говорить своим клиентам, что при правильном исполнении ритуал жертвоприношения позволяет полностью освободиться от человеческого существования и обрести вечность (а перед лицом вечности все долги теряют значение)[52]. Другой способ — расширить понятие долга, так чтобы все виды социальной ответственности стали долгами разного рода. В двух знаменитых отрывках из Брахман утверждается, что, рождаясь, мы оказываемся в долгу не только перед богами, с которыми мы расплачиваемся, принося жертву, но и перед мудрецами, которые создали ведийское учение и которым мы должны отплатить учением; перед нашими предками («Отцами»), с которыми мы должны расплатиться, родив детей; и, наконец, перед «людьми», что, видимо, означает перед всем человечеством, с которым мы расплачиваемся, предоставляя кров чужестранцам[53]. Всякий, кто ведет праведный образ жизни, постоянно выплачивает экзистенциальные долги разного рода; в то же время понятие долга вновь обретает смысл простого обязательства перед обществом, а значит, перестает быть таким страшным, как в значении, предполагающем, что само существование человека — это заем, взятый у Смерти[54]. Не в последнюю очередь потому, что обязательства перед обществом носят двусторонний характер. Например, когда у человека появляются дети, он становится и должником, и кредитором.
По сути, авторы теории изначального долга предположили, что идеи, изложенные в этих ведийских текстах, не принадлежат к определенной интеллектуальной традиции, которой придерживаются специалисты, изучающие ранний железный век в долине Ганга, а являются основой самой природы и истории человеческой мысли. Вот, например, отрывок из эссе с многообещающим названием «Социокультурные измерения денег: предпосылки перехода к евро», которое французский экономист Бруно Тере опубликовал в «Журнале потребительской политики» в 1999 году:
В основе денег лежит «отношение представления» смерти как невидимого мира, лежащего до и за пределами жизни. Это представление является порождением присущей человеческому роду символической функции, которая рассматривает рождение как первородный долг, возложенный на всех людей, долг перед вселенскими силами, создавшими человечество.
Уплата этого долга, полное возвращение которого на Земле находится за пределами человеческих возможностей, приобретает форму жертвоприношений. Восполняя кредит существования, они позволяют продлить жизнь, а в некоторых случаях — даже достичь бессмертия и примкнуть к сонму богов. Но эта начальная предпосылка веры также связана с появлением верховной власти, чья легитимность основана на способности представлять собой весь изначальный космос. Именно эта власть изобрела деньги, служившие средством возвращения долгов. Абстрактность этого средства позволяет разрешить парадокс жертвоприношения, поскольку превращает убийство в постоянный инструмент защиты жизни. Благодаря этому институту вера находит воплощение в монетах с изображением суверена — так деньги пускаются в обращение, а их возврат обеспечивается другим институтом, коим является налог/уплата долга за жизнь. Так деньги приобретают также функцию средства платежа{45}.
Этот отрывок, по крайней мере, ясно показывает, насколько отличается характер дебатов в Европе от тех, что ведутся в англо-американском мире. Невозможно даже представить себе, чтобы американский экономист любого направления написал что-то в таком духе. Между тем автор предлагает здесь весьма тонкий синтез. Человеческая природа не подталкивает нас «к ведению обмена». Она скорее выражается в том, что мы создаем символы, такие как деньги. Мы считаем, что в космосе нас окружают невидимые силы и что мы находимся в долгу перед Вселенной.
Оригинальность этого рассуждения, безусловно, выражается в том, что оно вплетается в государственную теорию денег: «верховная власть» Тере означает именно «государство». Первые цари были священными и сами считались богами или выступали в роли привилегированных посредников между людьми и высшими силами, управляющими космосом. Это подталкивает нас к постепенному осознанию того, что наш долг перед богами на самом деле всегда был долгом перед обществом, которое сделало нас такими, какие мы есть.
«Изначальный долг, — пишет британский социолог Джеффри Ингем, — это обязанность живущих поддерживать преемственность и прочность общества, которое обеспечивает их индивидуальное существование»[55]. В этом смысле «долг перед обществом» есть не только у преступников — все мы до определенной степени виновны и даже являемся преступниками.
Например, Ингем отмечает, что, хотя нет надежных доказательств того, что деньги появились именно так, «это косвенно подтверждается этимологическими данными»:
Во всех индоевропейских языках слово «долг» является синонимом слов «грех» и «вина», что демонстрирует связь между религией, платежом и посреднической функцией денег [как] между сферами священного и мирского. Так, есть связь между деньгами (германское Geld), возмещением или жертвоприношением (староанглийское Geild) и, разумеется, виной (английское guilt)[56].
Или вот еще одна интересная связка: почему скот так часто использовался в качестве денег? Немецкий историк Бернард Лаум давно отметил, что у Гомера стоимость кораблей или доспехов всегда оценивается в волах, — хотя если происходит обмен вещами, никто за них волами не платит. Отсюда напрашивается вывод: так происходило потому, что волов часто приносили в жертву богам. То есть они представляли собой абсолютную ценность. И в Шумере, и в Античной Греции храмам жертвовали золото и серебро. По-видимому, повсюду деньги появлялись из тех вещей, которые считались самым уместным подношением богам[57].
Если царь просто взял на себя управление нашим изначальным долгом перед обществом, которое нас создало, то это очень точно объясняет, почему правительство считает себя вправе взимать с нас налоги. Налоги — это просто мера нашего долга перед обществом, выпестовавшим нас. Но это не объясняет, каким образом абсолютный долг за жизнь может быть переведен в деньги, которые по определению являются средством оценки и сравнения стоимости различных предметов. Эта проблема встает и перед сторонниками кредитной теории, и перед экономистами неоклассической школы, хотя формулируют они ее каждый по-своему. Если отталкиваться от меновой теории денег, нужно решить, как и почему вы выбираете определенный товар для измерения того, сколько вы хотите получить от остальных. Если исходить из кредитной теории, возникает проблема, которую я описал в первой главе: как преобразовать нравственное обязательство в конкретную сумму денег, как простое осознание того, что вы кому-то обязаны услугой, может превратиться в систему учета, в которой можно точно вычислить, сколько именно овец, рыбы или серебряных чушек требуется для погашения долга. И как перейти от абсолютного долга перед Богом ко вполне конкретным долгам перед родственниками или барменом.
Приверженцы теории изначального долга и здесь предлагают оригинальный ответ. Если налоги воплощают наш абсолютный долг перед создавшим нас обществом, то первым шагом к созданию реальных денег является исчисление намного более конкретных долгов перед обществом, систем штрафов, взысканий и пеней или даже долгов перед конкретными людьми, которым мы причинили какой-либо ущерб и с которыми мы находимся в отношениях «греха» или «вины».
Это вовсе не так невероятно, как кажется. Одна из деталей, которая больше всего сбивает с толку во всех рассмотренных нами теориях о происхождении денег, заключается в том, что они почти полностью игнорируют данные антропологии. Антропологи собрали огромное количество информации о том, как функционировали экономики в обществах, не имеющих государства, и как они продолжают функционировать там, где государства и рынки еще не сумели полностью разрушить существующий строй. Бесчисленное количество исследований посвящено, например, использованию в качестве денег скота в Восточной или Южной Африке, раковин в обеих Америках (вампум — самый известный пример этого) или в Папуа — Новой Гвинее, бус, перьев, железных колец, раковин каури или спондилуса, латунных трубок или скальпов дятлов[58]. Причина, по которой экономисты, как правило, игнорируют эти исследования, проста: «примитивные деньги» такого рода редко когда служат для купли и продажи вещей; даже если их и употребляют в этих целях, то никогда не используют для купли и продажи бытовых предметов вроде куриц, яиц, ботинок или картошки. Их используют не для приобретения вещей, а в основном для налаживания отношений между людьми, прежде всего для заключения браков или решения споров, особенно тех, которые возникают на почве убийства или личного оскорбления.
Есть все основания верить, что именно так и появились наши деньги. Даже английский глагол “to pay” («платить») происходит от глагола «умиротворять, успокаивать», т. е. дать другому человеку нечто ценное, чтобы выразить свое сожаление по поводу того, что вы убили его брата в пьяной драке, и дать ему понять, что вы очень хотели бы избежать кровной мести с его стороны[59].
Последнему варианту теоретики долга уделяют особое внимание, отчасти потому, что, пренебрегая антропологической литературой, они обращаются к древним судебникам. Дорогу в этом направлении им проложили фундаментальные труды Филипа Грирсона, одного из крупнейших нумизматов двадцатого столетия, который в 1970-х годах предположил, что деньги могли возникнуть на основе раннего процессуального права. Специалист по европейским «темным векам», Грирсон особенно увлекался «Варварскими правдами», которые в VII–VIII веках, после гибели Римской империи, составляли германские народы — готы, фризы, франки и другие; позднее подобные правды появились повсюду от Руси до Ирландии. Конечно, это уникальные документы. С одной стороны, они со всей очевидностью показывают, насколько ошибочны традиционные версии истории, в соответствии с которыми Европа в ту эпоху «вернулась к меновой торговле». Почти во всех германских правдах пени указывались в римской монете; штрафы за воровство, например, почти всегда сопровождаются требованием, чтобы вор не только вернул украденную собственность, но и выплатил упущенную ренту (или, в случае кражи денег, проценты) за тот срок, на протяжении которого он ею владел. С другой стороны, судебники, которые позднее появились у народов, никогда не живших под римской властью: в Ирландии, Уэльсе, странах Северной Европы, на Руси, еще более показательны. Они были на редкость изобретательны как в определении средств платежа, так и в точном указании видов телесных повреждений и оскорблений, которые требовали компенсации:
В валлийских законах для выражения размеров компенсации использовался прежде всего скот, а в ирландских — скот или крепостные (кумалы); и в том и в другом случае также широко использовались драгоценные металлы. В германских правдах штрафы указывались в основном в драгоценных металлах… В русских правдах эту роль выполняли серебро и меха, от куньих до беличьих в зависимости от характера штрафа. Такая точность тем более примечательна, что касается не только телесных повреждений — отдельные компенсации предусмотрены за потерю всей руки, кисти, указательного пальца, ногтя, за такую тяжелую рану на голове, что видна кость или мозг, — но и собственности личных домохозяйств. Раздел II Салической правды посвящен краже свиней, раздел III — краже рогатых животных, раздел IV — овец, раздел V — коз, раздел VI — собак, и всякий раз тщательно указывается разница между животными различного возраста и пола{46}.
Это имеет большое психологическое значение. Как я уже отмечал, сложно представить себе, как система точных эквивалентов (одна молодая и здоровая молочная корова точно равна 36 цыплятам) могла возникнуть из большинства форм обмена подарками. Если Генри дает Джошуа свинью и считает, что взамен получил не соответствующий ей подарок, он может выставить Джошуа скрягой, но вряд ли сможет вывести математическую формулу для определения того, насколько Джошуа жадный. С другой стороны, если свинья Джошуа разорила сад Генри и особенно если это привело к драке, в которой Генри потерял палец ноги, и теперь семья Генри обвиняет Джошуа на деревенском сходе, то это как раз те условия, в которых люди обычно цепляются к каждой мелочи и негодуют в том случае, когда считают, что получили на грош меньше, чем им полагалось по справедливости. Это означает точное математическое выражение, например возможность измерить точную стоимость двухлетней беременной свиноматки. Более того, взыскание штрафов должно постоянно требовать установления эквивалентов. Допустим, штраф выражен в куньих шкурках, но у клана обидчика нет куниц. Сколько беличьих шкурок они должны отдать? Или серебряных украшений? Такие проблемы должны были возникать постоянно и приводили к выработке общих правил, пусть и приблизительных, относительно того, какие предметы соответствовали друг другу по стоимости. Это помогает объяснить, почему, например, в средневековых валлийских судебниках подробно указывалась не только стоимость молочных коров разного возраста и физического состояния, но и денежная стоимость любого предмета, который можно было найти на обычном крестьянском дворе, вплоть до последнего полена, — несмотря на то что нет оснований верить, что в те времена большая часть этих вещей продавалась на открытом рынке[60].
Все это звучит очень убедительно. Это предположение исходит из интуиции. В конце концов, всем, что у нас есть, мы обязаны другим. Это чистая правда. Язык, на котором мы говорим и даже думаем, наши привычки и суждения, еда, которая нам нравится, технология, которая зажигает лапочки и спускает воду в туалете, даже наши формы протеста и бунта против общественных условностей — все это мы получили от других людей, большинство из которых уже умерло. Если бы все, чем мы им обязаны, мы представляли в виде долга, то он был бы бесконечен. Вопрос вот в чем: имеет ли смысл считать все это долгом? В конце концов, долг по определению является чем-то таким, что мы чисто теоретически можем выплатить. Довольно странно хотеть рассчитаться со своими родственниками — это скорее будет означать, что ты просто больше не желаешь считать их таковыми. Хотели ли бы мы на самом деле рассчитаться со всем человечеством? Что это вообще значило бы? И действительно ли подобное желание является ключевой особенностью человеческого мышления?
Это можно выразить иначе: описывают ли приверженцы теории первоначального долга миф или они открыли истину человеческой природы, которая справедлива для всех обществ? Действительно ли эта истина столь очевидно вытекает из некоторых древних индийских текстов? Или же они придумывают собственный миф?
Разумеется, второе. Они придумывают миф.
Выбор ими ведийского материала весьма показателен. Дело в том, что мы почти ничего не знаем о людях, составивших эти тексты, и очень мало — об обществе, которое их создало[61]. Мы даже не знаем, существовали ли процентные ссуды в Индии ведийской эпохи — что, безусловно, влияло на то, действительно ли жрецы видели в жертвоприношении уплату процентов по займу, который берется у смерти[62]. А значит, этот материал может служить пустым полотном или полотном, покрытым неизвестными иероглифами, — мы можем наносить на него все что угодно. Если мы посмотрим на другие древние цивилизации, о которых мы знаем несколько больше, то обнаружим, что они не рассматривали жертвоприношение как уплату долга[63]. Если мы обратимся к трудам древних богословов, выяснится, что большинство из них были знакомы с мыслью о том, что жертвоприношение — это способ вступить в коммерческие отношения с богами, но она им казалась смешной: если у богов и так есть все, что они хотят, что могут предложить им люди?{47} В предыдущей главе мы видели, как трудно было делать подарки королям. С богами (не говоря уже о Боге) проблема усложнялась еще больше. Обмен предполагает равенство, которое в отношениях с вселенскими силами в принципе считалось невозможным.
Представление о том, что долги перед богами были присвоены государством и положили начало системам налогообложения, тоже не выдерживает критики. Проблема в том, что в Древнем мире свободные граждане налогов обычно не платили. Как правило, дань взималась только с покоренных народов. Так было уже в древней Месопотамии, где жители независимых городов вообще не должны были платить налоги. Античные греки, как пишет Мозес Финли, «считали прямые налоги проявлением тирании и уклонялись от них, когда только могли»{48}. Афинские граждане не платили никаких прямых налогов, зато город иногда раздавал им деньги — это было своего рода обратное налогообложение. Иногда это делалось напрямую, как в случае доходов от Лаврийских серебряных рудников, а иногда — косвенно, посредством щедрых выплат за участие в суде в качестве присяжного или за посещение народного собрания. Покоренные же города обязаны были выплачивать дань. Даже в Персидской империи персы не должны были платить дань Великому царю, в отличие от жителей завоеванных провинций[64]. То же происходило и в Риме, где в течение очень долгого времени римские граждане не только не платили налогов, но и имели право на получение своей доли дани, взысканной с других, в виде раздач хлеба — одной из двух частей знаменитого требования «хлеба и зрелищ»[65].
Иными словами, Бенджамин Франклин ошибался, когда говорил, что в этом мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. Это делает гораздо более труднодоказуемой идею о том, что долг перед первой — это лишь вариация второго.
Однако все это не наносит сокрушительного удара по государственной теории денег. Даже те государства, которые не требовали налогов, взимали разного рода штрафы, взыскания, сборы и пени. Но это очень трудно примирить с теорией, которая утверждает, что государства возникли как хранители некоего вселенского, изначального долга.
Любопытно, что приверженцам теории первоначального долга нечего сказать о Шумере или Вавилоне, хотя именно в Месопотамии впервые сложилась практика давать деньги в рост: возможно, за две тысячи лет до того, как были составлены Веды, и именно там появились первые в истории государства. Но если мы обратимся к месопотамской истории, то их молчание оказывается не столь уж удивительным. То, что мы там обнаруживаем, прямо противоположно утверждениям подобных теоретиков.
Читатель помнит, что в месопотамских городах-государствах доминировали храмы — гигантские, сложные производственные комплексы, в которых зачастую трудились тысячи людей — от пастухов, бурлаков, прядильщиков и ткачей до танцовщиц и храмовых управителей. Около 2700 года до н. э. наиболее дальновидные правители начали подражать им, создавая дворцовые комплексы, которые были организованы по тем же принципам, за тем лишь исключением, что если ключевым элементом храмов были священные покои бога или богини, представленных священным изображением, которое слуги кормили, одевали и развлекали так, как если бы оно было живым человеком, то во дворцах в этом качестве выступали покои живого царя. Шумерские правители редко провозглашали себя богами, но часто приближались к этому статусу. Тем не менее когда они вмешивались в жизнь своих подданных в обличий правителей вселенной, они не вводили государственные долги, а, скорее, упраздняли долги частные[66].
Мы точно не знаем, когда и как возникли процентные ссуды, так как произошло это до появления письменности. Скорее всего, храмовые управители придумали их для того, чтобы финансировать караванную торговлю. Она имела ключевое значение, поскольку, хотя речные долины древней Месопотамии были чрезвычайно плодородными и давали крупные излишки зерна и другого продовольствия, а также обеспечивали пропитанием огромное количество скота, на разведении которого, в свою очередь, зиждилось крупное производство шерсти и кожи, ничего другого там не было. Камни, дерево, металлы и даже серебро, использовавшееся в качестве денег, — все это нужно было импортировать. Поэтому уже в ранние времена храмовые управители привыкли одалживать товары, шедшие на экспорт, местным купцам, некоторые из которых были частными лицами, другие — храмовыми чиновниками. Для храмов процент был возможностью участвовать в доходах от заморской торговли[67]. Едва появившись, эта практика получила широкое распространение. Очень скоро мы обнаруживаем займы не только торговые, но и потребительские, т. е. ростовщичество в классическом смысле слова. Около 2400 года до и. э. для местных чиновников и состоятельных купцов обычной практикой стало предоставление ссуд под залог крестьянам, столкнувшимся с финансовыми затруднениями, и присвоение их собственности, в случае если они не могли вернуть долг. Как правило, все начиналось с зерна, овец, коз и мебели, потом в дело шли поля и дома или же члены семьи. Если у крестьянина были слуги, они отправлялись к заимодавцу, за ними следовали дети, жены, а в исключительных случаях — и сам должник. Они превращались в долговых рабов, которые почти не отличались от обычных и были обязаны вечно трудиться в хозяйстве кредитора или же в храмах и дворцах. Конечно, чисто теоретически каждый из них мог выкупить себя, вернув долг, но по понятным причинам чем меньше ресурсов оставалось в руках крестьянина, тем труднее это было сделать.
Зачастую это приводило к таким последствиям, которые грозили уничтожить общество. Если по какой-либо причине случался неурожай, множество крестьян попадали в долговое рабство, разрушались семьи. Очень скоро земли стали пустовать, поскольку отягощенные долгами крестьяне покидали свои дома, боясь попасть в руки кредиторов, и присоединялись к полукочевым бандам, обретавшимся на пустынных окраинах городской цивилизации. Сталкиваясь с угрозой полного развала общества, шумерские, а затем и вавилонские цари периодически объявляли всеобщие амнистии, которые, по выражению историка экономики Майкла Хадсона, позволяли начать все «с чистого листа». Такие декреты обычно объявляли недействительными все невыплаченные потребительские долги (торговых долгов это не касалось), возвращали все земли их первоначальным владельцам и позволяли долговым рабам вернуться к своим семьям. Очень скоро у царей вошло в обычай провозглашать амнистию при вступлении на трон, а многим приходилось неоднократно повторять ее на протяжении своего правления.
В Шумере эти амнистии называли «провозглашением свободы»; примечательно, что шумерское слово “amargi” — первое записанное слово из всех известных языков, обозначавшее свободу, — дословно переводится как «возвращение к матери», поскольку именно это дозволялось сделать освобожденным долговым рабам{49}.
Майкл Хадсон утверждает, что месопотамские цари могли это делать только благодаря своим вселенским притязаниям: получая власть, они считали, что буквально воссоздают человеческое общество и способны упразднить все предшествующие нравственные обязательства, дабы начать все с чистого листа. Но все это очень далеко от того, что представляют себе приверженцы теории изначального долга[68].
Наверное, главная проблема всей этой литературы заключается в первоначальном допущении, что все начинается с бесконечного долга человека перед чем-то под названием «общество». Этот долг перед обществом мы проецируем на богов. Этот же долг затем превращается в долг перед царями и национальными правительствами. Концепция долга вводит в заблуждение, так как мы представляем себе, что мир состоит из ряда компактных, однообразных единиц под названием «общества» и что все люди знают, к какому из них они принадлежат. В истории такое случалось редко. Представим, что я армянский купец, христианин по вероисповеданию, живущий в империи Чингисхана. Что будет для меня «обществом»? Город, где я вырос, международное сообщество купцов (с собственными нормами поведения), в рамках которого я веду повседневные дела, другие люди, говорящие по-армянски, христиане (или только православные) или же все жители Монгольской империи, раскинувшейся от Средиземного моря до Кореи? Царства и империи редко когда были для людей самыми важными ориентирами. Царства появляются и исчезают; они могут укрепляться и ослабевать; правительства лишь спорадически вмешиваются в жизнь людей, и в истории часто случалось так, что многие люди вообще не очень точно знали, под властью какого правительства они находились. Еще совсем недавно многие жители планеты не знали точно, гражданами какой страны они являются, и не понимали, какое это вообще имеет значение. Моя мама, еврейка, родившаяся в Польше, однажды рассказала мне такой забавный случай из своего детства:
На границе между Россией и Польшей был маленький городок, и никто точно не знал, какой стране он принадлежит. Однажды был подписан официальный договор, и вскоре после этого в город приехали топографы, чтобы провести границу. Пока они устанавливали свои приборы на соседнем холме, к ним подошли несколько местных жителей.
— Так мы живем в Польше или в России?
— По нашим расчетам, ваше селение находится на польской территории, в тридцати семи метрах от границы.
Местные жители тут же начали плясать от радости.
— Почему? — спросили их топографы. — Какая вам разница?
— Разве вы не понимаете, что это значит? — ответили они. — Это значит, что нам больше не придется терпеть эти ужасные русские зимы!
Однако, если, рождаясь, мы оказываемся в безмерном долгу перед людьми, которые позволили нам появиться на свет, но при этом такой единицы, как «общество», не существует, то кому или чему мы на самом деле этом обязаны? Всему и всем? Одним людям и вещам больше, чем другим? И как мы выплачиваем долг чему-то столь расплывчатому? Или, точнее, кто и на каких основаниях может претендовать на то, чтобы говорить нам, как мы можем его выплатить?
Если мы сформулируем проблему таким образом, то авторы Брахман предлагают довольно сложный ответ на нравственный вопрос, на который с тех пор никто так и смог ответить лучше. Как я уже говорил, мы мало что можем узнать об условиях, в которых писались эти тексты, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что ключевые документы датируются периодом между 500 и 400 годами до н. э., т. е. приблизительно временем, когда жил Сократ. По-видимому, в ту эпоху торговая экономика и такие вещи, как чеканка монет и процентные ссуды, стали входить в повседневную жизнь, и индийские интеллектуалы того времени, так же как и их коллеги в Греции и Китае, начали размышлять о возможных последствиях этого. Для них вопрос формулировался следующим образом: что значит представлять наши обязанности в виде долгов? Кому мы обязаны нашим существованием?
Примечательно, что в их ответе не упоминалось ни «общество», ни государства (хотя в Древней Индии, безусловно, были цари и правительства). Они сосредоточивались на долгах перед богами, мудрецами, отцами и «людьми». Их формулировку совсем нетрудно перевести на более современный язык. Получится следующее. Мы обязаны своим существованием прежде всего:
• Вселенной, космическим силам, или, выражаясь современным термином, Природе. Это основа нашего существования. Выплачивается посредством ритуала, который являет собой акт уважения и признания всего того, в сравнении с чем мы малы[69].
• Тем, кто создал знания и добился культурных достижений, которые мы больше всего ценим и которые определяют форму и смысл нашего существования. Сюда входят не только философы и ученые, создавшие нашу интеллектуальную традицию, но и все от Уильяма Шекспира до той давно забытой женщины, которая где-то на Ближнем Востоке впервые замесила тесто и испекла хлеб. Мы расплачиваемся с ними, учась и внося свой вклад в человеческие знания и культуру.
• Нашим родителям и их родителям — нашим предкам. Мы расплачиваемся с ними, сами становясь предками.
• Человечеству в целом. Мы расплачиваемся с ним, проявляя щедрость по отношению к посторонним, поддерживая базовый уровень социального общения, который делает возможным человеческие отношения, а значит, и жизнь.
Но в таком виде аргумент обращается против своих исходных посылок. Тут нет ничего похожего на коммерческие долги. В конце концов, человек может расплачиваться с родителями, воспитывая своих детей, но никто не думает, что с кредитором можно расплатиться, одолжив денег кому-нибудь другому[70].
Мне самому интересно: может быть, суть именно в этом? Возможно, авторы Брахман на самом деле пытались доказать, что в конечном счете наши отношения с космосом не имеют и не могут иметь ничего общего с коммерческой сделкой, потому что коммерческая сделка предполагает равенство сторон и их обособление. Все эти примеры касаются грядущего обособления: вы освобождаетесь от долга перед предками, сами становясь предками; вы освобождаетесь от долга перед мудрецами, сами становясь мудрецами; вы освобождаетесь от долга перед человечеством, проявляя человечность. Тем более это относится к рассуждениям о Вселенной. Раз вы не можете торговаться с богами, потому что у них и так уже все есть, то и со Вселенной торговаться не получится, потому что Вселенная есть все, вместе взятое, и это все, вместе взятое, включает и вас. Этот список можно рассматривать и как выражение мысли о том, что единственная возможность «освободить себя» от долга заключается не в буквальной уплате долгов, а в том, чтобы показать, что эти долги не существуют, поскольку мы не можем отделить себя от них, чтобы по ним расплатиться, а значит, само понятие упразднения долга и обретения независимого существования изначально бессмысленно. И даже само допущение такого отделения себя от человечества или космоса, которое позволит вступить с ними в деловые отношения, является преступлением, наказанием за которое станет смерть. Наша вина состоит в том, что мы осмеливаемся представлять себя равными Всему Прочему, что Существует или Когда-либо Существовало, и ставим подобный долг во главу угла[71].
Давайте взглянем и на вторую часть этого уравнения. Даже если можно представить, что мы находимся в абсолютном долгу перед космосом или человечеством, возникает другой вопрос: кто имеет право выступать от имени космоса или человечества и говорить нам, как следует выплачивать этот долг? Если можно вообразить что-то более нелепое, чем считать себя обособленным от всей Вселенной и потому имеющим возможность вступать с ней в переговоры, так это претензии на то, чтобы высказываться от ее имени.
Если исходить из идеалов такого индивидуалистского общества, как наше, то можно было бы сказать так: все мы в бесконечном долгу перед человечеством, обществом, природой или космосом (кому что нравится), но никто не может сказать, как мы должны с ним расплачиваться. Это, по крайней мере, было бы обоснованно. Тогда практически все системы, основанные на признанном авторитете, — религию, нравственность, политику, экономику и уголовное правосудие — можно было бы рассматривать как разнообразные способы рассчитать то, что рассчитать нельзя, как системы, которые присваивают себе право говорить нам, как должны выплачиваться определенные части безграничного долга. Тогда человеческая свобода состояла бы в возможности решать, как мы хотим это делать.
Насколько я знаю, никто и никогда такого подхода не придерживался. На самом деле теории экзистенциального долга всегда служат средствами оправдания властных структур или выдвижения требований в их адрес. В этом отношении пример индуистской интеллектуальной традиции весьма показателен. Долг перед человечеством появляется лишь в нескольких ранних текстах — позже о нем забывают. Почти все более поздние индуистские комментаторы ничего о нем не говорят, делая акцент на долге человека перед своим отцом{50}.
У приверженцев теории изначального долга есть вопросы поважнее. На самом деле их интересует не космос, а «общество».
Давайте еще раз вернемся к слову «общество». Оно кажется таким простым, самоочевидным понятием потому, что мы, как правило, используем его как синоним слова «народ». Когда американцы говорят об уплате долга перед обществом, они не думают о своих обязательствах перед людьми, живущими в Швеции. Но понимание общества как единого, взаимосвязанного организма возможно лишь благодаря современному государству с его сложными системами охраны границ и социальной политикой. Именно поэтому перенесение этого понятия в ведийскую эпоху или в Средневековье лишь сбивает с толку, хотя другого слова у нас и нет.
Мне кажется, что именно это и делают сторонники теории изначального долга — переносят это понятие в прошлое.
На самом деле весь комплекс идей, о которых мы говорим: представление о том, что есть нечто под названием общество, что мы в долгу перед ним, что правительства могут говорить от его имени, что его можно представить в виде своего рода светского бога — все эти идеи появились приблизительно во время Французской революции или сразу после нее. Иными словами, они зародились одновременно с идеей современного национального государства.
Мы можем их увидеть в четко выраженной форме уже в работах Огюста Конта. Конт, французский философ и политический памфлетист первой половины XIX века, сегодня известный прежде всего изобретением термина «социология», в конце своей жизни зашел настолько далеко, что даже предложил религию общества под названием позитивизм, во многом повторявшую средневековый католицизм с его облачениями, у которых пуговицы располагались на спине (так что их нельзя было надеть без помощи других). В своей последней работе «Позитивистский катехизис» он изложил первую теорию общественного долга.
В определенный момент некто спрашивает позитивистского священника, что тот думает о правах человека. Священник поднимает его на смех. Это бессмыслица, говорит он, ошибка, порожденная индивидуализмом. Позитивизм признает лишь обязанности. В конце концов,
все мы рождаемся с грузом обязательств самого разного рода — перед нашими предшественниками, наследниками, современниками. После нашего рождения эти обязательства возрастают или накапливаются еще до того момента, когда мы можем возмещать любому человеку любую услугу. Так на каком человеческом основании может зиждиться представление о «правах»?{51}
Хотя Конт не использует слово «долг», смысл его рассуждений вполне понятен. Мы накапливаем бесконечное количество долгов к моменту достижения возраста, когда можем осознать, что должны их выплатить. К этому времени уже невозможно установить, кому, собственно, мы их должны. Единственный способ погасить их — посвятить себя служению человечеству в целом.
При жизни Конта считали безумцем, но его идеи имели большое влияние. Понятие безграничных обязательств перед обществом трансформировалось в понятие «общественного долга», которое взяли на вооружение социальные реформаторы и социалисты во многих странах Европы и за ее пределами[72]. «Мы все рождаемся в долгу перед обществом»: во Франции понятие общественного долга быстро превратилось в лозунг, если не сказать в клише[73]. В соответствии с этой точкой зрения государство просто является управляющим экзистенциального долга, который все мы несем перед обществом, создавшим нас, и который не в последнюю очередь воплощается в том, что жизнь каждого из нас полностью зависит от других людей, хотя мы и не совсем отдаем себе в этом отчет.
В определенных интеллектуальных и политических кругах получили развитие идеи Эмиля Дюркгейма, основателя социологической науки в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Он пошел еще дальше Конта, заявив, что все боги во всех религиях всегда являются проекцией общества, а значит, нет необходимости в обособленной религии общества. По Дюркгейму, все религии — это просто форма признания нашей взаимозависимости друг от друга, которая влияет на нас тысячами разных способов и которую мы никогда полностью не осознаем. «Бог» и «общество», в сущности, одно и то же.
Проблема в том, что уже много столетий признается, что хранителем долга, который мы несем за все это, и законным представителем аморфного социального целого, которое позволило нам стать личностями, обязательно должно быть государство. Почти все социалистические режимы опирались на ту или иную версию этого положения. Ярким примером здесь служит то, как Советский Союз оправдывал запрет для своих граждан эмигрировать в другие страны. Аргумент был неизменным: СССР вырастил и воспитал этих людей, сделал их такими, какие они есть. На каком основании они забирают плод наших вложений и перевозят его в другую страну, как если бы они ничего не были должны? Эта логика была характерна не только для социалистических режимов. Националисты взывают к тем же самым доводам — особенно во время войны. А национализм до некоторой степени присущ всем современным правительствам.
Можно даже сказать, что идея изначального долга представляет собой главный националистический миф. Раньше мы были обязаны жизнью богам, которые нас создали, и платили им проценты, принося им в жертву животных, а основную часть долга возвращали нашими жизнями. Теперь мы обязаны народу, который нас выпестовал, платим проценты в виде налогов, а когда приходит час защищать народ от врагов, готовы оплатить долг жизнью.
Это великая ловушка двадцатого столетия: с одной стороны, есть логика рынка, где мы представляем себя индивидами, которые никому ничего не должны. С другой стороны, есть логика государства, в соответствии с которой мы все изначально несем бремя долга, но оплатить его мы не в состоянии. Нам постоянно говорят, что рынок и государство противоположны друг другу и что только в пространстве между ними у человека остается простор для действий. Но это ложное противопоставление. Государства создали рынки. Рынкам требуется государство. Одно не может существовать без другого, по крайней мере в том виде, в котором мы наблюдаем их сегодня.
Глава 4
Жестокость и искупление
Продают правого за серебро и бедного — за пару сандалий.
Амос 2:6
Читатель, возможно, заметил, что спор между теми, кто считает деньги товаром, и теми, кто видит в них долговые расписки, так и не решен. Так что же такое деньги? Пока ответ кажется очевидным: и то и другое. Много лет назад Кейт Харт, вероятно самый известный и самый авторитетный современный антрополог, занимающийся этим вопросом, отмечал, что у каждой монеты есть две стороны:
Достаньте монету из кармана. Одна ее сторона — это «орел», символ политической власти, чеканящей монеты; другая — «решка», точное указание того, что стоит монета как средство обмена. Одна сторона напоминает нам, что государства выпускают деньги и что деньги изначально связывают людей в обществе и, возможно, являются символом этой связи. Другая сторона представляет монету как вещь, которая может определенным образом соотноситься с другими вещами{52}.
Разумеется, деньги не были изобретены для того, чтобы устранить неудобство, возникающее при меновой торговле между соседями, — просто потому, что соседям не было нужды ее вести. Однако система кредитных денег в чистом виде также имела серьезные недостатки. Кредитные деньги основаны на доверии, а на конкурентных рынках доверие — товар редкий, особенно в деловых отношениях между посторонними людьми. Серебряные монеты с изображением Тиберия, имевшие хождение в Римской империи, имели намного большую стоимость, чем металл, из которого они делались[74]. Это происходило во многом потому, что правительство Тиберия было готово принимать их по такой стоимости. Персидское же правительство, вероятно, к такому готово не было, а правительство династии Маурьев и китайские власти точно не были готовы. Большое количество римских золотых и серебряных монет оказались в Индии и даже в Китае; по-видимому, это произошло прежде всего потому, что они изготавливались именно из золота и серебра.
То, что справедливо для таких обширных империй, как Римская или Китайская, тем более справедливо для шумерских или греческих городов-государств, не говоря уже о средневековой Европе или Индии, которые были раздроблены на множество королевств, городов и мелких княжеств. Как я отмечал, зачастую было не очень ясно, что происходило внутри них и за их пределами. В рамках сообщества — города, гильдии или религиозной общины — в роли денег могло выступать все что угодно, при условии что каждый знал, что кто-то был готов принять это в качестве уплаты долга. Особенно ярким примером здесь служит ситуация в некоторых городах Сиама в XIX веке: мелкой разменной монетой там были исключительно китайские игровые фишки из фарфора — эквивалент покерных фишек, — которые выпускались местными казино. Если одно из этих казино оказывалось банкротом или утрачивало лицензию, его владельцы должны были послать глашатая, который шел по улицам города, ударяя в гонг и возвещая, что у держателей таких фишек есть три дня на их обмен[75]. Для более крупных сделок, разумеется, использовались деньги, имевшие хождение и за пределами города (как правило, золото или серебро).
Точно так же на протяжении многих веков английские лавки пускали в обращение собственные деревянные, свинцовые или кожаные денежные знаки. Такая практика часто была незаконной, но сохранялась до относительно недавнего времени. Вот пример монет, которые в XVII веке выпускал некий Генри, имевший магазин в Стони-Стратфорд, в Бекингемшире.
Здесь действует все тот же принцип: Генри пускал в оборот разменную монету в виде долговых расписок, которые можно было погасить в его собственном магазине. Они могли иметь широкое хождение, по крайней мере, среди тех людей, которые поддерживали с ним постоянные деловые отношения. Но маловероятно, что они использовались далеко за пределами Стони-Стратфорда; большинство таких денежных знаков обращались в радиусе нескольких районов. Для более крупных сделок каждый, в том числе Генри, требовал такие деньги, которые принимались везде, в том числе в Италии или во Франции{53}.
На протяжении большей части истории даже там, где есть сложно устроенные рынки, мы обнаруживаем целую кучу самых разных денег. Некоторые из них могли изначально появиться из меновой торговли между иностранцами — часто приводят примеры использования в качестве денег какао-бобов в Мезоамерике и соли в Эфиопии{54}.[76] Другие виды денег родились из кредитных систем или из споров о том, какие предметы должны приниматься в качестве уплаты налогов или прочих долгов, причем часто выбор таких предметов оспаривался. Можно многое узнать о балансе политических сил в данное время и в данном месте по тому, какие вещи использовались в качестве денег. Например, подобно тому как виргинские плантаторы сумели провести закон, обязывающий владельцев лавок принимать табак в качестве денег, средневековые крестьяне Померании неоднократно убеждали своих правителей в том, чтобы налоги, пени и таможенные пошлины, которые устанавливались в римской монете, уплачивались вином, сыром, перцем, цыплятами, яйцами и даже селедкой. Это сильно раздражало купцов, которым приходилось возить с собой все эти вещи, чтобы уплачивать сборы, или покупать их на месте по ценам, которые, естественно, были выгодны тем, кто их продавал{55}. В этих краях преобладали не крепостные, а свободные крестьяне, имевшие довольно большой политический вес. В другие времена и в других местах сильнее оказывались интересы землевладельцев и купцов.
В общем, деньги — это почти всегда что-то между товаром и долговой распиской. Возможно, поэтому монеты — кусочки золота или серебра сами по себе являются ценным товаром, но, когда на них чеканился символ местной политической власти, они становились еще более ценными — по-прежнему остаются для нас квинтэссенцией денег. Они лучше всего отражают расхождения по поводу того, чем являются деньги в первую очередь. Более того, соотношение между двумя сторонами денег было поводом для постоянных политических споров.
Иными словами, борьба между государством и рынком, между правительствами и купцами не является неотъемлемой частью человеческой природы.
Может показаться, что две наши исходные истории — миф о меновой торговле и миф об изначальном долге — бесконечно далеки друг от друга, но и они в некотором смысле являются двумя сторонами одной монеты. Одна подразумевает другую. Только если мы представляем человеческую жизнь как ряд коммерческих сделок, мы можем рассматривать наши взаимоотношения с Вселенной в категориях долга.
За примером я позволю себе обратиться — этот выбор может показаться неожиданным — к Фридриху Ницше, который предельно ясно понимал, что происходит, когда вы пытаетесь описывать мир в коммерческих терминах.
Его книга «К генеалогии морали» вышла в 1887 году. В ней Ницше начинает с аргумента, который мог быть напрямую позаимствован у Адама Смита, но идет на шаг дальше, чем Смит, утверждая, что не только меновая торговля, но и купля и продажа сами по себе предшествуют любой другой форме человеческих отношений. Чувство личной обязанности, отмечает он,
проистекало из древнейших и изначальных личных отношений, из отношения между покупателем и продавцом, заимодавцем и должником: здесь впервые личность выступила против личности, здесь впервые личность стала тягаться с личностью. Еще не найдена столь низкая ступень цивилизации, на которой не были бы заметны хоть какие-либо следы этого отношения. Устанавливать цены, измерять ценности, измышлять эквиваленты, заниматься обменом — это в такой степени предвосхищало начальное мышление человека, что в известном смысле и было самим мышлением: здесь вырабатывались древнейшие повадки сообразительности, здесь хотелось бы усмотреть и первую накипь человеческой гордости, его чувства превосходства над прочим зверьем. Должно быть, еще наше слово «человек» (Mensch) выражает как раз нечто от этого самочувствия: человек (manas) обозначил себя как существо, которое измеряет ценности, которое оценивает и мерит в качестве «оценивающего животного как такового». Купля и продажа, со всем их психологическим инвентарем, превосходят по возрасту даже зачатки каких-либо общественных форм организации и связей: из наиболее рудиментарной формы личного права зачаточное чувство обмена, договора, долга, права, обязанности, уплаты было перенесено впервые на самые грубые и изначальные комплексы общины (в их отношении к схожим комплексам) одновременно с привычкой сравнивать, измерять, исчислять власть властью{56}.{57}
Смит, как мы помним, тоже считал, что истоки языка, да и человеческого мышления в целом, лежат в нашей склонности «обменивать одну вещь на другую», в которой он также усматривал истоки рынка[77]. Стремление к торговле, к сравнению стоимости — это то, что делает нас разумными существами и отличает от прочих животных. Общество появляется позже, а значит, наши представления об ответственности перед другими людьми изначально формулировались в сугубо коммерческих терминах.
Однако, в отличие от Смита, Ницше никогда не приходило в голову, что можно представить такой мир, в котором все подобные сделки одновременно взаимно уравновешиваются. Любая система торгового учета, утверждал он, будет порождать кредиторов и должников. Он полагал, что именно из этого факта возникла человеческая нравственность. Обратите внимание, говорит он, на то, что немецкое слово “schuld” означает и долг, и вину. Изначально быть в долгу значило просто быть виновным, и кредиторы получали удовольствие оттого, что наказывали несостоятельного должника, подвергая его тело «всем разновидностям глумлений и пыток, скажем срезали с него столько, сколько на глаз соответствовало величине долга»{58}. Ницше даже дошел до утверждения о том, что варварские правды, оговаривавшие, сколько стоит выбитый глаз или отрезанный палец, изначально устанавливали не денежную компенсацию за потерянные глаза и пальцы, а количество тела должника, которое позволялось взять кредиторам! Стоит ли говорить о том, что никаких доказательств этого он не приводил (их и не существует)[78]. Но требовать доказательств значило бы опровергнуть это утверждение. Здесь мы имеем дело не с подлинным историческим аргументом, а с чистой игрой фантазии.
Когда люди стали создавать общины, продолжает Ницше, они неизбежно представляли свои отношения с ними в этих категориях. Племя обеспечивает им мир и безопасность, поэтому они в долгу перед ним. Подчиняться его законам значит выплачивать ему долг (снова «уплата общественного долга»). Но и этот долг, говорит он, уплачивается — и здесь тоже — посредством жертвоприношения:
В рамках первоначальной родовой кооперации — мы говорим о первобытной эпохе — каждое живущее поколение связано с более ранним и в особенности со старейшим, родоначальным, поколением неким юридическим обязательством <…> Здесь царит убеждение, что род обязан своей устойчивостью исключительно жертвам и достижениям предков — и что следует оплатить это жертвами же и достижениями: тем самым признают за собою долг, который постоянно возрастает еще и оттого, что эти предки в своем посмертном существовании в качестве могущественных духов не перестают силою своей предоставлять роду новые преимущества и авансы. Неужели же даром? Но для того неотесанного и «нищего душой» времени не существует никакого «даром». Чем же можно воздать им? Жертвами (первоначально на пропитание, в грубейшем смысле), празднествами, часовнями, оказанием почестей, прежде всего послушанием, — ибо все обычаи, будучи творениями предков, суть также их уставы и повеления. Достаточно ли им дают во всякое время? — это подозрение остается и растет{59}.
Иными словами, Ницше считает, что если мы отталкиваемся от рассуждений Адама Смита о человеческой природе, то неизбежно придем к чему-то в духе теории изначального долга. С одной стороны, законам прародителей мы подчиняемся потому, что чувствуем себя в долгу перед ними: именно поэтому мы полагаем, что община имеет право действовать «как рассерженный кредитор» и наказывать нас за нарушение этих законов. В более широком смысле в глубине души мы чувствуем, что никогда не сможем расплатиться с прародителями, что никакая жертва (даже принесение в жертву первенца) не способна искупить нас. Мы трепещем перед прародителями, и, чем сильнее и могущественнее становится община, тем могущественнее они кажутся, пока наконец прародитель не «преображается в бога». Когда общины превращаются в царства, а царства — в мировые империи, боги обретают вселенский характер, начинают претендовать на власть над Небесами и низвергать молнии и в конечном счете достигают кульминации в образе христианского Бога, который, будучи максимальным божеством, влечет за собой и «максимум чувства вины на земле». Даже наш прародитель Адам изображается уже не кредитором, а нарушителем закона, а значит, должником, который передал нам свое бремя первородного греха:
покуда наконец с нерасторжимостью вины не зачинается и нерасторжимость искупления, мысль о ее неоплатности (о «вечном наказании») <…> пока мы разом не останавливаемся перед парадоксальным и ужасным паллиативом, в котором замученное человечество обрело себе временное облегчение, перед этим штрихом гения христианства: Бог, сам жертвующий собою во искупление вины человека, Бог, сам заставляющий себя платить самому себе, Бог, как единственно способный искупить в человеке то, что в самом человеке стало неискупимым, — заимодавец, жертвующий собою ради своего должника из любви (неужели в это поверили?), из любви к своему должнику!{60}
Все это выглядит очень логично, если вы исходите из начальной посылки Ницше. Проблема в том, что сама эта посылка — бессмысленна.
Есть все основания полагать, что Ницше знал, что эта посылка бессмысленна; на самом деле в этом и была вся суть. Ницше здесь отталкивается от стандартных, общепринятых взглядов на человеческую природу, преобладавших в его эпоху (и в значительной степени преобладающих до сих пор) и заключавшихся в том, что мы рациональные вычислительные машины, что торговый личный интерес предшествует обществу, что само «общество» лишь накладывает временные ограничения на вытекающий из этого конфликт. То есть он исходит из обычных буржуазных взглядов и развивает их в таком направлении, которое шокирует буржуазную публику.
Эта игра стоит свеч, и никто не играл в нее лучше Ницше; но ее рамки полностью задаются буржуазной философией. Она ничего не может сказать о том, что лежит за ее пределами. Лучшим ответом всякому, кто всерьез рассматривает фантазии Ницше о диких охотниках, отрезающих друг у друга куски тел за неуплату долга, могут быть слова настоящего охотника и собирателя, эскимоса из Гренландии, ставшего знаменитым благодаря «Книге эскимосов». Ее автор, датский писатель Петер Фрейхен, пишет, что однажды, когда он вернулся домой голодным из неудачного похода за моржами, один из более удачливых охотников отрезал ему несколько сотен фунтов мяса. Фрейхен горячо его поблагодарил. Охотник с негодованием ответил:
«В нашей стране все мы люди! — сказал охотник. — А раз мы люди, то мы помогаем друг другу и нам не нравится, когда кто-то нас за это благодарит. То, что я поймал сегодня, ты можешь поймать завтра. Мы здесь говорим, что подарками человек обретает рабов, а плетью — собак»{61}.[79]
Последняя строчка своего рода классика антропологии. Антропологическая литература об эгалитарных охотничьих обществах богата рассказами о людях, которые отказываются рассчитывать долги и кредиты. Вместо того чтобы считать себя человеком на том основании, что он способен производить экономические вычисления, охотник настаивал, что на самом деле быть человеком значит отказаться от подобных расчетов и измерений и не пытаться запомнить, кто что кому дал, по той причине, что такого рода поведение неизбежно создаст мир, в котором мы начнем «сравнивать, измерять, исчислять власть властью» и превращать друг друга в рабов или собак посредством долга.
Дело не в том, что он, как многие миллионы подобных преисполненных любви к равенству умов в истории, не понимал, что люди имеют склонность к расчетам. Если бы он этого не знал, он не смог бы сказать, что он делает. Конечно, у нас есть склонность к расчетам. У нас вообще много склонностей. В любой реальной жизненной ситуации эти склонности одновременно ведут нас в различных, противоположных друг другу направлениях. Каждая из них не более реальна, чем прочие. Вопрос в том, какую из них мы признаем ключевой для нашей человеческой природы и кладем в основу нашей цивилизации. Предложенный Ницше анализ долга полезен тем, что показывает, что если мы начинаем с посылки о том, что человеческое мышление исходит прежде всего из коммерческого расчета и что купля и продажа являются основами человеческого общества, то свои представления об отношениях с космосом мы неизбежно будем выражать в категориях долга.
Я думаю, что Ницше помогает нам понять еще и такой термин, как искупление. Рассказ Ницше о «первобытных временах» может быть абсурдным, но его описание христианства, того, как чувство долга преображается в неизбывное чувство вины, вина — в ненависть к самому себе, а ненависть к самому себе — в самоистязание, выглядит очень точным.
Почему, например, мы называем Христа «искупителем»? Изначально слово «искупление» значит выкуп или возвращение себе чего-то, что было оставлено в качестве обеспечения займа, приобретение чего-то посредством выплаты долга. Очень странно осознавать, что самая суть христианского учения, само спасение, принесение Богом в жертву своего сына во имя спасения человечества от вечного проклятия, должно описываться в категориях финансовой сделки.
Ницше исходил из тех же посылок, что и Адам Смит, но о ранних христианах этого не скажешь. Корни таких рассуждений лежат глубже, чем представление Смита о нации лавочников. Не только авторы Брахман заимствовали язык рынка для рассуждений о человеческой природе. На самом деле до определенной степени так поступали все мировые религии.
Это происходило потому, что все они, от зороастризма до ислама, родились из оживленных споров о роли денег и рынка в человеческой жизни и особенно о том, как эти институты соотносились с ключевыми вопросами — что люди должны были друг другу. Вопрос о долге и споры о нем затрагивали все стороны политической жизни той поры. Эти споры выливались в восстания, жалобы и создание реформаторских движений. Некоторые из этих движений находили союзников в храмах и дворцах, другие беспощадно подавлялись. Большая часть требований, лозунгов и специфических вопросов, которые они поднимали, сегодня утрачены. Мы просто не знаем, какими были политические споры в сирийской харчевне в 750 году до н. э. В итоге тысячи лет мы созерцали священные тексты, полные политических аллюзий, очевидных для любого читателя, жившего в эпоху, когда они были написаны; но мы об их смысле можем только догадываться[80].
Одна из особенностей Библии состоит в том, что в ней сохранились некоторые обрывки этого более широкого контекста. Вернемся к понятию искупления: древнееврейские слова “padah” и “goal” — и то и другое переводятся как «искупление» — могли означать выкуп чего-то, что человек продал кому-то другому, прежде всего земли предков или какого-либо предмета, удерживавшегося кредиторами в качестве залога[81]. Именно последнее, по-видимому, и имели в виду пророки и богословы: выкуп залогов и особенно членов семьи должника, удерживавшихся как обеспечение долга. Судя по всему, в эпоху пророков экономика иудейских царств начала испытывать долговые кризисы, давно ставшие привычными в Месопотамии: в годы неурожая бедняки залезали в долги перед богатыми соседями или состоятельными заимодавцами в городах, теряли права на свои поля и становились держателями земли, которая прежде им принадлежала, а их сыновья и дочери отправлялись работать слугами в хозяйствах кредиторов или даже продавались в рабство за границу[82]. В книгах ранних пророков есть намеки на такие кризисы{62}, но наиболее явно о них говорится в книге Неемии, написанной в персидские времена:
Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода.
Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших;
у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши, и виноградники наши у других.
Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание{63}.
Неемия, виночерпий персидского царя, был евреем, родившемся в Вавилоне. В 444 году до н. э. он сумел уговорить Великого царя назначить его наместником его родной Иудеи. Он также получил разрешение заново отстроить иерусалимский храм, который Навуходоносор разрушил двумя столетиями ранее. В ходе работ были найдены и восстановлены священные тексты; в некотором смысле тогда и было создано то, что мы сегодня называем иудаизмом.
Очень скоро Неемия столкнулся с социальным кризисом. Вокруг было множество обедневших крестьян, не способных платить налоги; кредиторы забирали детей бедняков. Его первой реакцией стало провозглашение указа о «чистом листе» в классическом вавилонском стиле: он сам родился в Вавилоне и явно был знаком с этим принципом. Прощению подлежали все некоммерческие долги. Были установлены максимальные процентные ставки по кредитам. В то же время Неемии удалось обнаружить, изучить и снова ввести в действие многие древние иудейские законы, которые сохранились в Исходе, Второзаконии и Левите и в некоторых отношениях шли еще дальше, институционально закрепляя этот принцип[83]. Самым известным из них был закон о прощении долгов, гласивший, что все долги автоматически списываются «в субботний год» (т. е. по истечении семи лет) и что все те, кто томился в неволе из-за таких долгов, должны быть освобождены[84].
В Библии, как и в Месопотамии, под «свободой» понималось прежде всего освобождение от долга. С течением времени в этом ключе стала истолковываться и сама история еврейского народа: освобождение из египетского рабства стало первым, хрестоматийным, действием искупления; исторические бедствия евреев (поражение, завоевание, изгнание) рассматривались как несчастья, которые должны были привести к финальному искуплению с приходом Мессии, хотя, как предупреждали пророки вроде Иеремии, произойти это могло только после того, как евреи искренне покаются в своих грехах (обращение друг друга в рабство, поклонение ложным богам, нарушение заповедей)[85]. В таком свете принятие этого термина христианами вряд ли может удивить. Искупление было освобождением от бремени греха и вины, и конец истории должен ознаменоваться тем, что все долги будут полностью упразднены, а звуки ангельских труб возвестят об окончательном прощении грехов.
В таком случае «искупление» уже не подразумевает выкуп чего-то. Речь идет скорее о разрушении всей системы учета. Во многих городах Ближнего Востока так буквально и происходило: во время списания долгов одним из обычных действий была церемония уничтожения табличек, содержавших финансовые записи, — это действие повторялось, хотя и с меньшей помпой, в ходе любого крупного крестьянского восстания в истории[86].
Это ведет к другой проблеме: что можно сделать в то время, которое предшествует окончательному искуплению? Эту проблему Иисус поднимает в одной из своих самых волнующих притч — притче о непрощающем рабе:
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;
когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;
а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее.
Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;
не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга{64}.
Это поразительный текст. С одной стороны, это шутка; с другой — трудно представить себе что-то более серьезное.
Начнем с царя, пожелавшего «сосчитаться» со своими рабами. Исходная посылка абсурдна. Цари, как и боги, не могут вступать в отношения обмена со своими подданными, поскольку равенство между ними невозможно. А этот царь явно является Богом. Разумеется, ни о каком сведении счетов речи быть не может.
Поэтому в лучшем случае мы имеем дело с царской причудой. Абсурдность исходной посылки подчеркивает сумма, которую должен царю первый же человек, приведенный к нему. В Древней Иудее сказать, что кто-то должен кредитору «десять тысяч талантов», означало приблизительно то же самое, что сегодня сказать, что кто-то должен «сто миллиардов долларов». Эта цифра тоже шутка; она просто указывает «сумму, которую не смог бы выплатить ни один человек»[87].
Оказавшись перед необходимостью выплатить бесконечный экзистенциальный долг, раб только и может, что соврать: «Сто миллиардов? Конечно, смогу! Дай мне только еще немного времени». Потом Господь так же произвольно его прощает.
Далее обнаруживается, что прощение имеет одно условие, о котором раб не знает. От него требуется, чтобы он сам вел себя так же по отношению к другим людям — в данном конкретном случае по отношению к другому рабу, который должен ему тысячу баксов, если перевести это на современный язык. Провалив испытание, первый раб попадает в ад на вечные времена или «пока он не отдаст всего долга» — в данном случае это ровно то же самое.
Долгое время эта притча представляла большую сложность для богословов. Обычно ее истолковывают как рассказ о бесконечной щедрости и милости Господа и о том, как мало он требует от нас взамен; т. е. косвенно подразумевается, что вечное истязание нас в аду не так уж необоснованно, как может показаться. Конечно, непрощающий раб удивительно гнусный персонаж. Но меня здесь больше всего поражает негласное утверждение, что прощение в этом мире вообще невозможно. Фактически именно это и говорят христиане, когда зачитывают «Отче наш» и просят Бога простить «нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»[88]. История, изложенная в притче, повторяется тут почти дословно, и последствия ее столь же мрачные. В конце концов, большинство христиан, читающих эту молитву, знают, что они обычно не прощают своих должников. Почему тогда Бог будет прощать им их грехи?[89]
Более того, здесь еще и повторяется старое утверждение о том, что на самом деле мы не смогли бы соответствовать этим стандартам, даже если бы попытались. Одна из причин, почему новозаветный Иисус является столь притягательным персонажем, состоит в том, что никогда толком не ясно, что именно он нам говорит. Все можно истолковывать двояко. Когда он призывает своих последователей прощать все долги, не бросать первый камень, подставлять другую щеку, возлюбить врагов своих, раздавать свое имущество беднякам, неужели он и правда надеется, что они будут так поступать? Или же, требуя этого, он упрекает нас в том, что раз мы к этому не готовы, то все мы грешники, которые могут спастись только в ином мире? Ведь такая постановка вопроса может использоваться для того, чтобы оправдать все что угодно. Согласно ей человеческая жизнь порочна в принципе и даже духовные дела можно выразить в коммерческих терминах. Все эти подсчеты грехов, наказаний и прощений, которые вели Дьявол и святой Петр с их конкурирующими учетными книгами, обычно сопровождались подспудным чувством, что все это фарс, поскольку сам тот факт, что мы вынуждены играть в эти расчеты грехов, показывает, что, в сущности, прощения мы не достойны.
Мировые религии, как мы увидим, полны такого рода двусмысленности. С одной стороны, они выступают против рынка; с другой — пытаются выразить свой протест в коммерческих категориях, словно утверждая, что превращение человеческой жизни в череду сделок — дело не очень хорошее. Мне кажется, что даже эти немногие примеры показывают, как сильно ретушируют действительность общепринятые версии происхождения и истории денег. Есть даже какая-то наивность в историях о соседях, меняющих картошку на лишнюю пару обуви. Когда древние размышляли о деньгах, вряд ли им в голову в первую очередь приходил дружеский обмен.
Конечно, кто-то мог подумать о своем счете в местном шинке или, если это был купец или управляющий, о складах, счетных книгах или экзотических заморских товарах. Но большинству скорее в голову приходила продажа рабов и выкуп пленников, алчность откупщиков и бесчинства победоносных армий, залоги и проценты, кражи и вымогательство, месть и наказание и прежде всего противоречие между, с одной стороны, необходимостью денег для нахождения невесты с целью создания семьи и рождения детей и, с другой — использованием этих же самых денег для разрушения семей посредством накопления долгов, в оплату которых кредитор забирал жену и детей. «Некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших». Можно только догадываться о том, что означали эти слова для отца из патриархального общества, в котором способность мужчины защищать честь своей семьи была всем. Вот что означали деньги для большинства людей почти на всем протяжении человеческой истории: леденящую душу перспективу, что сыновей и дочерей заберут в дома омерзительных чужаков, где они будут чистить отхожие места и время от времени оказывать сексуальные услуги, подвергаться всем мыслимым видам насилия и злоупотреблений в течение долгих лет, если не вечно, в то время как их родители будут бессильно ждать, пряча глаза от соседей, которые точно знают, что происходит с теми, кого они должны были защищать[90]. Разумеется, это худшее, что могло произойти с человеком, — именно поэтому в притче это могло служить заменой преданию в руки истязателям на всю жизнь. И это только с точки зрения отца. Можно только догадываться, что чувствовала при всем этом дочь. А ведь в течение человеческой истории многие миллионы дочерей узнали (многие узнают и сейчас), что это означает.
Могут возразить, что это было в порядке вещей, так же как и наложение дани на завоеванные народы: это могло вызывать негодование, но не считалось вопросом нравственности, справедливости и несправедливости. Такие вещи случаются. Крестьяне так обычно и относились к подобным феноменам на всем протяжении человеческой истории. Но больше всего в исторических хрониках поражает то, что в случае долговых кризисов многие относились к этому не так. Многие возмущались. Этих недовольных было так много, что большая часть нашей современной лексики, касающейся социальной справедливости, рабства и освобождения, до сих пор отражает древние споры о долгах.
Это тем более удивительно, что многие другие вещи принимались как совершенно нормальные. Такого гнева не вызывала, например, кастовая система или, если уж на то пошло, институт рабства[91]. Безусловно, и рабы, и неприкасаемые часто жили в не менее ужасающих условиях. Бесспорно, многие протестовали против этого. Почему же именно выступления должников имели такой нравственный вес? Почему должникам лучше других удавалось привлечь к своим проблемам внимание священников, пророков, чиновников и социальных реформаторов? Почему чиновники вроде Неемии так сочувственно относились к их жалобам, негодовали и собирали большие собрания?
Некоторые объясняют это практическими соображениями: долговые кризисы уничтожали свободное крестьянство, а именно свободных крестьян призывали на службу в армию[92]. Бесспорно, такой фактор был, но он, очевидно, не был единственным. Нет оснований полагать, что, скажем, Неемия, негодуя против ростовщиков, беспокоился в первую очередь о том, сможет ли он набрать рекрутов для персидского царя. Есть более фундаментальная причина.
Долг отличается тем, что в его основе лежит презумпция равенства.
Быть рабом или принадлежать к низшей касте значит занимать более низкое положение. Здесь мы имеем дело с сугубо иерархическими отношениями. В случае долга мы имеем дело с двумя людьми, которые выступают равными сторонами в договоре. По крайней мере, в рамках договора они с юридической точки зрения одинаковы.
Можно добавить, что когда в древнем мире люди, более или менее равные по социальному положению, одалживали друг другу деньги, то условия займа, как правило, были весьма щадящими. Проценты зачастую не взимались, а если они и были, то очень низкими. «И не бери с меня процент, — писал один состоятельный ханаанин другому в табличке, датированной приблизительно 1200 годом до н. э., — в конце концов, мы оба благородные люди»{65}.[93] Между близкими родственниками многие кредиты, видимо, представляли собой, как и сейчас, подарки, и никто всерьез не рассчитывал на то, что их будут возвращать. Совсем иное дело — займы, которые богачи предоставляли беднякам.
Проблема в том, что, в отличие от статусных различий вроде касты или рабства, между богатыми и бедными нет такой четкой грани. Можно себе представить реакцию крестьянина, который пришел в дом к состоятельному кузену, считая, что «люди должны помогать друг другу», а через год-два у него забрали виноградник и увели сыновей и дочерей. Такое поведение юридически могло быть оправданно, если заем представлялся не как форма взаимопомощи, а как коммерческая сделка: договор есть договор. (Это также требовало возможности обратиться к высшей силе для обеспечения выполнения условий договора.) Но как бы то ни было, восприниматься оно могло только как ужасное предательство. Более того, если это поведение представлялось как нарушение договора, то все дело превращалось в нравственную проблему: обе стороны должны быть равными, но одна из них не сумела выполнить условия сделки. Психологически это делало еще более болезненной бесправность положения должника, поскольку о нем могли сказать, что судьбу его дочери решила его собственная низость. Но от этого необходимость отбросить угрызения совести становилась тем более настоятельной: «У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья». Мы все одинаковы. Мы обязаны учитывать потребности и интересы других. Как мой брат мог так обойтись со мной?
Особенно убедительные нравственные аргументы должники могли выдвигать в Ветхом Завете. Авторы Второзакония постоянно напоминали своим читателям: не были ли евреи рабами в Египте и не освободил ли их всех Бог? Было ли справедливо отнимать землю у других, если они сами получили землю обетованную, которой должны были делиться? Было ли справедливо, что потомки освобожденных рабов обращали в рабство детей друг друга?[94] Однако в подобных ситуациях аналогичные аргументы выдвигались почти повсюду в Древнем мире: в Афинах, Риме и даже в Китае, где, согласно легенде, древний император изобрел чеканку монет, для того чтобы выкупить детей семей, вынужденных продать их после череды опустошительных наводнений.
Почти на всем протяжении истории открытый политический конфликт между классами облекался в требование списания долгов, т. е. освобождения тех, кто оказался в неволе, а также более справедливого распределения земли. В Библии и других религиозных традициях мы видим следы нравственных аргументов, которыми оправдывались эти требования: они могли облекаться в самые разнообразные формы, но всегда так или иначе выражались языком рынка.
Глава 5
Краткий трактат о нравственных основаниях экономических отношений
Чтобы рассказать историю долга, нужно еще и воссоздать картину того, как язык рынка пронизал все стороны человеческой жизни и даже обеспечил терминологию для нравственного и религиозного протеста против него. Мы уже видели, что ведийское и христианское учения в конечном счете двигались в одном и том же направлении: описав нравственность в категориях долга, они уже самим этим фактом показали, что в действительности нравственность не может быть сведена к долгу и должна основываться на чем-то другом[95].
Но на чем? Религиозные традиции предпочитают всеобъемлющие, космологические ответы: альтернатива нравственности долга лежит в признании единения со Вселенной, или в ожидании ее неизбежного уничтожения, или в полном подчинении божеству, или в уходе в другой мир. Мои цели скромнее, поэтому я буду придерживаться противоположного подхода. Если мы действительно хотим понять нравственные основания экономической и — шире — человеческой жизни, то, на мой взгляд, начинать нужно с самых мелких вещей: с деталей повседневной жизни в обществе, с манеры общения с друзьями, врагами и детьми; с таких незначительных жестов (подать соль, стрельнуть сигарету), о которых мы, как правило, вообще не задумываемся. Антропология показала, сколь разными могут быть формы человеческой организации. Но она выявила и примечательные общие черты — базовые нравственные принципы, которые существуют повсюду и к которым люди обращаются всякий раз, когда перевозят туда-сюда разные предметы или оспаривают права других людей на обладание ими.
В свою очередь, одна из причин, по которым человеческая жизнь так сложна, состоит в том, что многие из этих принципов противоречат друг другу. Как мы увидим ниже, они постоянно толкают нас в диаметрально противоположных направлениях. Нравственная логика обмена, а значит и долга, лишь один из них; в каждой конкретной ситуации на людей воздействуют совершенно различные принципы. В этом смысле нравственная путаница, о которой шла речь в первой главе, вовсе не нова; представления о нравственности до определенной степени исходят из этого противоречия.
Чтобы разобраться в том, что же такое долг, нужно понять, чем он отличается от прочих видов обязательств, которые люди могут нести друг перед другом; а это, в свою очередь, требует определить, в чем эти обязательства, собственно, заключаются. Однако на этом пути нас ждут специфические проблемы. Как ни странно, современная социальная теория, в том числе и экономическая антропология, мало чем может помочь в этом отношении. Существует обширная антропологическая литература, например о подарках, которая берет начало от «Очерка о даре», написанного французским антропологом Марселем Моссом в 1925 году, и об «экономиках дарения», функционирующих на совершенно иных принципах, чем рыночные экономики. Но в конце концов почти вся эта литература сосредоточивается на обмене дарами, считая само собой разумеющимся, что любое действие дарения влечет за собой долг и что получатель должен непременно отплатить дарителю. Так же как и в случае великих религий, логика рынка проникла даже в рассуждения тех, кто громче всех выступал против нее. Поэтому чтобы создать новую теорию, я начну с азов.
Часть проблемы заключается в том, что сегодня в социальных науках экономика занимает исключительное место. Во многих отношениях к ней относятся как к ведущей дисциплине. От всякого, кто в Америке руководит чем-то важным, ждут, что он разбирается в экономической теории или, по крайней мере, знаком с ее базовыми принципами. В результате эти принципы стали считать устоявшейся истиной, не требующей доказательства (мы понимаем, что сталкиваемся с устоявшейся истиной, когда первой реакцией на попытку ее оспорить становится обвинение в обыкновенном невежестве: «Вы явно никогда не слышали о кривой Лаффера»; «Вам точно надо пройти курс по Экономике 101»; убежденность в непогрешимости теории настолько велика, что ни один из тех, кто ее понимает, не может с ней не соглашаться). Более того, те области социальной теории, которые более всего претендуют на «научный статус», — например, «теория рационального выбора» — начинают с тех же исходных допущений относительно человеческой психологии, что и экономисты, а именно что людей лучше рассматривать как игроков, движимых личными интересами и прикидывающих, как в любой ситуации в обмен на минимальные усилия или вложения добиться наилучших условий, наибольшей выгоды, удовольствия или счастья. Звучит забавно, если учесть, что экспериментальные психологи неоднократно доказывали, что такие допущения просто не соответствуют действительности{66}.
С давних пор предпринимались попытки создать теорию социального взаимодействия на основе более благородных представлений о человеческой природе. Их авторы настаивали на тем, что нравственная жизнь представляет собой нечто большее, чем взаимная выгода, что она базируется прежде всего на чувстве справедливости. Ключевым понятием здесь стала «взаимность», чувство равенства, баланса, честности и симметрии, которое воплощалось в нашем представлении о справедливости как о некой шкале. Экономические сделки были лишь одним из вариантов принципа сбалансированного обмена, причем вариант этот явно давал сбои. Но при более детальном рассмотрении выяснялось, что все человеческие отношения основаны на том или ином варианте взаимности.
В 1950-1970-х годах все словно помешались на этой идее в форме так называемой теории обмена, которая разрабатывалась в бесчисленных вариациях — от «социальной теории обмена» Джорджа Хоманса в США до структурализма Клода Леви-Стросса во Франции. Леви-Стросс, ставший своего рода интеллектуальным богом антропологии, выдвинул удивительную мысль о том, что человеческую жизнь можно разделить на три сферы: язык (который состоит из обмена словами), родство (которое состоит из обмена женщинами) и экономику (которая состоит из обмена вещами). Все три сферы, по его мнению, управлялись одним и тем же фундаментальным законом взаимности{67}.[96]
Сегодня звезда Леви-Стросса уже закатилась, и в ретроспективе такие категоричные утверждения кажутся смешными. Тем не менее никто не предложил новую смелую теорию, которая пришла бы всему этому на смену. Эти допущения просто отошли на задний план. Сейчас, как и прежде, почти все считают, что общественная жизнь основана на принципе взаимности, а значит, все человеческие взаимоотношения лучше всего рассматривать как разновидности обмена. Тогда долг лежит в основе любой нравственности, потому что долг — это то, что бывает, когда еще не восстановлен некий баланс.
Но можно ли свести всю справедливость к взаимности? Довольно легко представить себе формы взаимности, которые не кажутся справедливыми. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой» — на первый взгляд, прекрасная основа для системы этики, но у большинства из нас принцип «око за око» ассоциируется не со справедливостью, а с мстительной жестокостью[97]. «Дружескую услугу стоит возвращать» — это приятное чувство, но «почеши мне спину, а я тебе почешу» — принцип политической коррупции. В то же время есть отношения, которые выглядят совершенно нравственными, но со взаимностью не имеют ничего общего. Часто приводится пример отношений между матерью и ребенком. Большинство из нас восприняло чувство справедливости и нравственности от своих родителей. Но очень трудно представить отношения между ребенком и родителем, основанные на взаимности. Сделаем ли мы в таком случае вывод, что эти отношения не нравственны и не имеют ничего общего со справедливостью?
Канадская писательница Маргарет Этвуд начинает свою недавно вышедшую книгу о долге с подобного парадокса:
У писателя-анималиста Эрнеста Сетон-Томпсона был странный счет, который ему подарили, когда ему исполнился 21 год. Это были записи расходов, которые вел его отец, пока Эрнест был ребенком и подростком; в них даже была указана сумма, выплаченная доктору, который его принес, когда он родился. Еще более странно то, что, как говорят, Эрнест этот долг выплатил. Раньше я думала, что г-н Сетон-старший просто был придурком, но теперь сомневаюсь[98].
Большинство из нас сомневаться не стало бы: такое поведение кажется ужасным и бесчеловечным. Разумеется, таким его считал и Сетон: счет он оплатил, но больше никогда не разговаривал с отцом[99]. Отчасти поэтому выставление подобного счета и выглядит столь возмутительным. Сведение счетов означает, что обе стороны могут распрощаться друг с другом. Выставив счет, отец дал понять, что не желает больше иметь дело с сыном.
Иными словами, тогда как большинство из нас считает разновидностью долга то, что мы должны нашим родителям, немногие из нас полагают, что его можно вернуть или даже что его нужно возвращать. Ну а если выплатить его нельзя, то что это вообще за «долг»? А если это не долг, то что тогда?
В качестве альтернативы напрашиваются те случаи взаимодействия между людьми, в которых ожидание взаимности наталкивается на стену непонимания. Рассказы путешественников XIX века полны такого рода историй. Миссионеров, работавших в некоторых частях Африки и иногда раздававших лекарства местным жителям, часто ошеломляло, как те на это реагировали. Вот характерный пример, который приводит один британский миссионер в Конго:
Через день или два после того, как мы добрались до Ваны, мы повстречали одного туземца, у которого было сильное воспаление легких. Им занялся Комбер, который кормил его наваристым куриным супом; ему обеспечили заботливый уход и уделили немало внимания, поскольку его дом находился близ лагеря. Когда мы были готовы продолжать наш путь, этот человек уже поправился. К нашему удивлению, он пришел к нам и попросил подарок и был столь же удивлен и возмущен нашим отказом, как мы — его просьбой. Мы сказали, что это ему следовало бы принести нам подарок в знак благодарности. Он ответил: «Ну что ж, у вас, белых, стыда вообще нет!»{68}
В начале XX века французский философ Люсьен Леви-Брюль, пытаясь доказать, что «туземцы» исходили из совершенно иной логики, составил целый список подобных историй: например, о том, как человек, которого спасли, когда он тонул, попросил у своего спасителя подарить ему какую-нибудь красивую одежду или о том, как другой туземец, которого выходили после того, как его искусал тигр, потребовал нож. Один французский миссионер, работавший в Центральной Африке, утверждал, что с ним такие вещи происходили регулярно:
Если вы спасли человеку жизнь, то должны ожидать, что в ближайшее время он вас навестит; теперь у вас есть обязательство по отношению к нему, и избавиться от него вы можете, только сделав ему подарок{69}.
Конечно, спасти кому-то жизнь — это почти всегда потрясающее чувство. Все, что окружает рождение или смерть, непременно несет в себе оттенок бесконечности и потому опрокидывает любые привычные способы нравственных подсчетов. Возможно, именно поэтому в Америке такие истории стали своего рода клише, когда я рос. Помню, как в детстве мне часто рассказывали, что у эскимосов (иногда речь шла о буддистах или китайцах, но, как ни странно, никогда об африканцах) считалось, что если ты спасаешь кому-то жизнь, то навсегда берешь на себя ответственность за этого человека. Это противоречит нашему представлению о взаимности. Но как бы то ни было, в этом тоже есть своя логика.
Мы не можем узнать, что на самом деле происходило в головах героев этих историй, поскольку не знаем, кем были эти люди и каковы были их ожидания (как они обычно общались со своими врачами, например). Но можем догадаться. Проведем мысленный эксперимент. Представим, что мы попали в такую страну, где человек, спасший другому жизнь, становился спасенному братом. Это предполагало, что они будут делиться всем и давать другому все, что ему нужно. В таком случае спасенный непременно замечал, что его новоявленный брат — человек очень состоятельный, ему ничего особо не нужно, в то время как у самого спасенного не было многих вещей, которые мог дать ему миссионер.
С другой стороны, представьте более вероятную ситуацию, когда мы имеем дело с отношениями не между совершенно равными людьми, а совсем наоборот. Во многих частях Африки опытные целители были важными политическими деятелями, располагавшими обширной клиентелой из своих бывших пациентов. Потенциальный последователь заявляет о своей политической лояльности к нему. В этом случае дело осложняется тем, что в этой части Африки у последователей могущественных людей была довольно сильная позиция для торга. Получить надежных сторонников было трудно; важные люди должны были быть щедрыми со своими последователями, чтобы те не перешли в лагерь их противников. А значит, прося рубашку или нож, человек стремился удостовериться, действительно ли миссионер хочет сделать его своим сторонником. Напротив, расплатиться с ним стало бы оскорблением вроде поступка Сетона по отношению к отцу: приняв оплату, миссионер дал бы понять, что, хотя он и спас этому человеку жизнь, но не хочет больше иметь с ним ничего общего.
Это лишь мысленный эксперимент — повторю, что мы на самом деле не знаем, что думали африканцы. На мой взгляд, в мире такие формы радикального равенства и радикального неравенства действительно существуют и каждый наполняет их своим пониманием нравственности, своими представлениями о том, что правильно и что неправильно в данной конкретной ситуации, и эти идеи о нравственности полностью отличаются от принципа «услуга за услугу». В оставшейся части главы я в общих чертах опишу их возможные формы исходя из предположения, что экономические отношения могут основываться на трех главных нравственных принципах, которые встречаются в любом человеческом обществе и которые я буду называть коммунизмом, иерархией и обменом.
Коммунизм
Под коммунизмом я буду подразумевать любые человеческие отношения, которые строятся на принципе «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
Я признаю, что использование слова «коммунизм» носит несколько провокативный характер. Оно вызывает сильную эмоциональную реакцию — в основном, разумеется, потому, что мы склонны идентифицировать его с «коммунистическими» режимами. Это тем более забавно, что коммунистические партии, правившие в СССР и его сателлитах и по-прежнему пребывающие у власти в Китае и на Кубе, никогда не называли системы, существовавшие в этих странах, «коммунистическими». Они именовали их «социалистическими». «Коммунизм» всегда был далеким, несколько размытым утопическим идеалом, движение к которому должно было сопровождаться отмиранием государства и который должен был быть достигнут в отдаленном будущем.
Наши представления о коммунизме определялись мифом. Давным-давно у людей все было общим — так было и в райском саду, и в Золотой век Сатурна, и у охотников и собирателей эпохи палеолита. Потом произошло грехопадение, из-за чего мы теперь страдаем от борьбы за власть и от частной собственности. Когда-нибудь благодаря развитию технологии и достижению всеобщего благосостояния мы наконец сможем, путем социальной революции или под руководством партии, вернуть все назад, восстановить общественную собственность и общественное управление коллективными ресурсами. На протяжении последних двух столетий коммунисты и антикоммунисты спорили, насколько обоснованны такие идеи и приведет их осуществление к всеобщему счастью или к кошмару. Но все они были согласны в том, что касалось базовых вещей: коммунизм подразумевал коллективную собственность, «первобытный коммунизм» существовал в далеком прошлом и, возможно, однажды снова наступит.
Эту историю, которую мы любим себе рассказывать, можно называть «мифическим» или даже «эпическим» коммунизмом. Со времен Французской революции ею вдохновлялись миллионы людей, но она принесла человечеству огромный вред. По-моему, такое представление давно пора отбросить. На самом деле «коммунизм» — это не какая-то волшебная утопия, и ничего общего с собственностью на средства производства он не имеет. Он существует и сейчас, существует до некоторой степени в любом человеческом обществе, хотя общества, в котором всё было организовано таким образом, никогда не было, и даже представить себе его трудно. Все мы очень часто действуем как коммунисты. Никто из нас не действует как коммунист, постоянно «Коммунистическое общество», т. е. общество, основанное исключительно на этом принципе, не могло бы существовать. Но все общественные системы и даже экономические системы вроде капитализма всегда зиждились на реально существовавшем коммунизме.
Отталкиваясь от принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям»[100], следует опустить вопрос о личной или частной собственности (которая, в любом случае, зачастую является не более чем формальной законностью), равно как и более насущные и практические вопросы о том, кто к каким вещам и при каких условиях имеет доступ. Всякий раз, когда этот принцип является оперативным, даже если взаимодействуют только два человека, мы можем сказать, что перед нами разновидность коммунизма.
Почти все следуют этому принципу, когда работают над каким-нибудь общим проектом[101]. Если кто-то чинит лопнувшую трубу и говорит: «Подай мне гаечный ключ», его напарник вряд ли спросит: «А что я за это получу?», даже если оба работают в «Эксон Мобил», «Бургер Кинг» или «Голдман Сакс». Причина проста — речь идет об эффективности (что звучит довольно забавно, если учесть, что, согласно устоявшейся точке зрения, «коммунизм вообще не работает»): если вы действительно хотите что-то сделать, самым эффективным способом добиться этого будет распределить задачи в зависимости от способностей людей и дать им то, что нужно для их выполнения[102]. Можно даже сказать, что одна из самых скандальных черт капитализма состоит в том, что внутреннее функционирование капиталистических фирм устроено по коммунистическому принципу. Они и правда не стремятся быть очень демократичными. Чаще всего их система управления по-военному иерархична. Но здесь часто возникает интересное противоречие, поскольку иерархические системы управления не очень эффективны: они способствуют отуплению тех, кто находится наверху, и мстительному крючкотворству тех, кто находится внизу. Чем больше потребность в импровизации, тем демократичнее становится сотрудничество. Изобретатели всегда это понимали, понимают это и капиталисты, создающие новые компании; этот принцип недавно заново открыли компьютерные инженеры — не только в том, что касается бесплатного программного обеспечения, которое у всех на устах, но и даже в том, что касается организации их собственного бизнеса.
По-видимому, именно поэтому сразу после разрушительных бедствий — наводнения, массового отключения электричества или экономического коллапса — люди, как правило, так себя и ведут, возвращаясь к примитивному коммунизму. Иерархия, рынки и тому подобные вещи становятся, пусть и ненадолго, роскошью, которую никто не может себе позволить. Всякий, кто оказывался в такой ситуации, может подтвердить, что в этих особенных условиях посторонние люди становятся друг другу братьями и сестрами, а человеческое общество словно рождается заново. Это важно, поскольку показывает, что мы говорим не просто о сотрудничестве. На самом деле коммунизм — это основа любого социального общения. Он делает возможным существование общества. Всегда можно предположить, что к любому, кто не является врагом, будут относиться исходя из принципа «от каждого по способностям», по крайней мере до определенной степени: например, если одному нужно понять, как добраться докуда-то, а другой знает дорогу.
Мы считаем это настолько очевидным, что любые исключения сами по себе примечательны. Антрополог Э.Э. Эванс-Причард, изучавший в 1920-х годах нуэров, нилотский народ, проживающий в Южном Судане и занимающийся скотоводством, рассказывает о своем замешательстве, когда он понял, что кто-то намеренно указал ему неверную дорогу:
Однажды я спросил дорогу к какому-то месту и меня намеренно запутали. Злой, я вернулся в лагерь и спросил, почему они указали мне неверный путь. Один из нуэров сказал: «Ты чужой, так почему мы должны показывать тебе правильный путь? Если бы даже посторонний нуэр спросил у нас о дороге, мы бы ему сказали: “Иди прямо по этой дороге», но не сказали бы, что она разветвляется. Зачем нам ему говорить правду? Но теперь ты член нашего лагеря и добр к нашим детям, так что в будущем мы тебе будем указывать правильный путь»{70}.
Племена нуэров находятся в постоянной вражде друг с другом; любой незнакомец запросто может оказаться врагом, который выискивает удобное место для засады. Было бы недальновидно давать такому человеку полезную информацию. Более того, сам Эванс-Причард находился в специфическом положении, поскольку был агентом британского правительства, которое незадолго до того отправило королевские ВВС нанести бомбовый удар по этому поселению, а потом насильно переселило его жителей. В таких условиях их обращение с Эванс-Причардом выглядит довольно великодушным. Но главное здесь заключается в том, что должно произойти событие подобного масштаба — непосредственная угроза жизни или нанесения увечий, бомбардировка гражданского населения с целью устрашения, — для того чтобы люди отказались показывать чужаку правильную дорогу[103].
Дело не только в дороге. Сфера общения вообще особенно предрасположена к коммунизму. Ложь, хамство, оскорбления и прочие виды вербальной агрессии важны, но их сила проистекает в основном из общепринятого убеждения в том, что обычно люди так не поступают: оскорбление ранит лишь тогда, когда человек полагает, что остальные, как правило, внимательно относятся к его чувствам; невозможно соврать тому, кто не считает, что обычно вы говорите правду. Когда мы действительно хотим разорвать дружеские отношения с каким-то человеком, мы перестаем с ним разговаривать.
Это же касается мелких жестов вежливости, таких как попросить закурить. Считается более правомерным попросить у незнакомца сигарету, чем соответствующее количество денег или даже еды; на самом деле, когда понимаешь, что перед тобой такой же курильщик, как и ты, ему довольно трудно отказать в просьбе. Дать спичку, поделиться какими-то сведениями или придержать дверь лифта — эти проявления принципа «от каждого по способностям» столь незначительны, что каждый из нас делает это, не задумываясь. С другой стороны, то же самое справедливо, если потребности другого человека, пусть даже и незнакомца, носят чрезвычайный характер: например, если он тонет. Если в метро на пути упал ребенок, мы считаем, что всякий, кто может его поднять, так и поступит.
Я буду называть это «базовым коммунизмом»: в тех случаях, когда люди не видят друг в друге врагов и потребность считается достаточно значимой или не требует чрезмерных затрат, будет применяться принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Конечно, в разных сообществах будут применяться различные стандарты. В крупных, обезличенных городских сообществах эти стандарты могут ограничиваться тем, что люди просят друг у друга прикурить или спрашивают дорогу. Не густо, конечно, но это создает возможность для более широких социальных отношений. В меньших и менее обезличенных сообществах, особенно в тех, что не разделены на общественные классы, такая логика может заходить намного дальше: здесь, например, зачастую практически невозможно отказать в просьбе дать не только табак, но и еду любому, кто считается членом сообщества, а иногда даже постороннему. Всего через страницу после описания трудностей, с которыми он столкнулся, спрашивая дорогу, Эванс-Причард отмечает, что те же самые нуэры не способны отказать в просьбе дать любой предмет широкого потребления, когда имеют дело с кем-то, кого они признали членом своего племени. Мужчина или женщина, у которых есть излишки зерна, табака, лишние инструменты или утварь, расстанутся со своими запасами почти сразу{71}. Тем не менее эта готовность делиться и щедрость никогда не распространяются на всё. Часто вещи, которыми делятся с другими, считаются банальными и потому не имеющими особого значения. Для нуэров подлинным богатством был скот. Им никто не будет свободно делиться; более того, молодых нуэров учат, что они должны защищать его ценою своей жизни; по этой самой причине скот никогда не продается и не покупается.
Обязательство делиться едой и любым другим предметом первой необходимости обычно становится основой повседневной нравственности в обществах, члены которых считают друг друга равными. Одри Ричарде, другой антрополог, описал, как матери из народа бемба, «столь нетребовательные во всем остальном», устраивают нагоняй ребенку, если дают ему апельсин или какое-нибудь другое лакомство, а он не делится им сразу же со своими друзьями{72}.[104] Но если задуматься, в подобных обществах, как и в любых других, делиться — это еще и главный источник жизненных наслаждений. Поэтому потребность делиться особенно остро проявляется и в хорошие, и в дурные времена: не только во время голода, например, но и в моменты невиданного изобилия. Рассказы первых миссионеров о североамериканских туземцах почти всегда содержат исполненные благоговения замечания об их щедрости в голодные годы, зачастую по отношению к совершенно посторонним людям[105]. В то же время,
возвращаясь с рыбной ловли, охоты или торговли, они обмениваются многими подарками; если они раздобыли что-то необычайное, даже если они это купили или им это кто-то дал, они устраивают пир для всего селения. Их гостеприимство по отношению ко всем чужакам заслуживает внимания{73}.
Чем пышнее пир, тем скорее на нем можно увидеть некое сочетание совместного пользования одними вещами (например, едой и питьем) и тщательного распределения других: скажем, лучшее мясо, добытое в игре или принесенное в жертву, часто раздается в соответствии с детально разработанными правилами или со столь же разработанным обменом подарками. Раздача и получение подарков зачастую приобретают явный игровой оттенок и нередко действительно связаны с играми, состязаниями, маскарадами и выступлениями, которые так часто устраиваются на народных празднествах. Как и в обществе в целом, совместные празднества могут рассматриваться как своего рода коммунистическая основа, на которой возводится все остальное. Это также помогает подчеркнуть, что делиться вещами — жест, который определяется не только нравственностью, но и удовольствием. Удовольствие можно получить и в одиночку, но для большинства людей приятнее всего то, чем можно поделиться с другими: музыка, еда, напитки, наркотики, сплетни, драма или постель. В основе большей части вещей, которые мы считаем развлечением, лежит определенный коммунизм.
На наличие коммунистических отношений яснее всего указывает то, что они не только не предполагают ведения учета, но и даже попытка это сделать выглядела бы оскорбительно или просто странно. Например, каждый поселок, клан или племя, входившие в ирокезскую Лигу Хауденосауни, были разделены на две половины[106]. Это обычная модель: в других частях мира (в Амазонии, Меланезии) было установлено, что члены одной половины могли жениться только на женщине из другой или есть только ту еду, которую вырастила вторая; подобные правила были предназначены для того, чтобы обе стороны зависели друг от друга в том, что касалось удовлетворения базовых жизненных потребностей. Среди ирокезов шести племен одна сторона должна была хоронить умерших членов другой. Нет ничего абсурднее, чем предположить, что одна сторона пожаловалась бы на то, что «в прошлом году мы похоронили пять ваших мертвецов, а вы наших — только два».
Базовый коммунизм можно считать исходным материалом социальности, признанием нашей безусловной взаимозависимости, которая лежит в основе социального мира. Однако чаще всего этой минимальной основы недостаточно. В отношениях с одними людьми мы в большей степени руководствуемся принципом солидарности, чем в отношениях с другими, а некоторые отношения основаны исключительно на принципах солидарности и взаимопомощи. В первую очередь это касается людей, которых мы любим; парадигмой бескорыстной любви является любовь матери. Далее следуют близкие родственники, жены и мужья, любовники, ближайшие друзья. С ними мы делимся всем или, по крайней мере, знаем, что можем к ним обратиться в случае нужды, — именно так повсюду определяется настоящий друг. Эта дружба может быть формализована посредством такого ритуала, как признание друг друга «закадычными друзьями» или «братьями по крови», которые не могут друг другу ни в чем отказать. В результате можно считать, что любое сообщество пронизывают отношения «индивидуалистического коммунизма», личные отношения, которые различаются по степени интенсивности, но все действуют на основе принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям»{74}.
Ту же самую логику можно применить — и там она действительно работает — в рамках групп: не только рабочие коллективы, но и почти любая группа с общими интересами характеризуется тем, что создает свой тип базового коммунизма. Внутри группы определенные вещи находятся в общем пользовании или делаются бесплатно, другие вещи остальные члены группы предоставляют своему товарищу, но никогда — постороннему: например, рыбаки помогают друг другу чинить сети, офисные служащие делятся канцелярскими предметами, коммерсанты обмениваются некоторыми видами информации и т. д. Кроме того, есть категории людей, которым мы звоним в определенных ситуациях, таких как сбор урожая или переезд{75}. От этого можно перейти к различным формам совместного пользования вещами, к ситуациям, когда люди объединяют усилия во имя какой-то цели и решают, к кому можно обратиться за помощью при переезде или сборе урожая или же у кого можно взять беспроцентную ссуду в трудную минуту. Наконец, есть различные виды коллективного управления общими ресурсами.
Социология повседневного коммунизма потенциально огромное поле для исследования, но из-за идеологических шор мы не могли писать о ней, потому что не были способны ее разглядеть. Дальше о ней писать я не буду, ограничусь лишь тремя положениями.