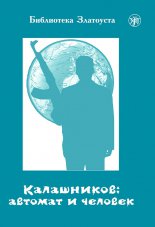Капут Малапарте Курцио

Офицер долго, молча, смотрел на него. Потом он медленно спросил: — А почему же ты только что ответил мне: «нет»?
— Потому что ты спросил у меня это по-немецки, — ответил рабочий.
— Расстреляйте его, — приказал офицер.
Рот Франка раскрылся в припадке сердечного смеха, и все сотрапезники громко хохотали, откидываясь на спинки своих стульев.
— Этот офицер, — сказал Франк, когда веселье за столом утихло, — ответил очень вежливым образом, тогда как он мог бы ответить гораздо хуже, нихьт вар? Но это был неумный человек. Если бы он был умным человеком, он, может быть, принял бы это за шутку. Я люблю остроумных людей, — добавил он по-французски, любезно наклоняясь, — а в вас много остроумия. Ум, интеллигентность, искусства, культура всегда на почетном месте в немецком Бурге Кракова. Я хочу восстановить в Вавеле итальянский двор эпохи Ренессанса, сделать из Вавеля остров цивилизации и любезности в сердце славянского варварства. Знаете ли вы, что я добился того, чтобы создать в Кракове польскую филармонию? Все члены оркестра, разумеется, поляки. Фуртвенглер[155] и Караян[156] приедут весной в Краков дирижировать целой серией концертов. Ах, Шопен! — воскликнул он неожиданно, поднимая к небу глаза и бегло пробежав пальцами по скатерти, точно по клавиатуре рояля. — Ах, Шопен! Ангел с белыми крыльями! Какое значение имеет то, что это польский ангел? В музыкальном небе есть место даже для польских ангелов. И все-таки поляки не любят Шопена!
— Они не любят Шопена? — спросил я, печально удивленный.
— Как-то раз, — продолжал Франк грустным голосом, — во время концерта, посвященного Шопену, публика Кракова не аплодировала — ни одного удара в ладони, выражающего порыв любви к этому Белому Ангелу музыки. Я смотрел на это огромное скопление народа, неподвижное и молчаливое, стараясь понять причину этого ледяного молчания, смотрел на эти тысячи блестевших глаз, эти бледные лица, еще согретые мимолетной крылатой лаской Шопена, смотрел на эти губы, еще розовевшие от печального и сладостного поцелуя белого Ангела, и искал в моем сердце извинения этой немой мраморной духовной неподвижности многочисленной публики. Ах! Но я завоюю этот народ при помощи искусств, поэзии, музыки! Я стану польским Орфеем! Ах! Ах! Ах! Польским Орфеем! — И он стал смеяться странным смехом, закрыв глаза, откинув голову на спинку своего стула. Он побледнел, он дышал с трудом, пот высыпал бисером на его лбу.
Но тут фрау Бригитта Франк, ди дойче кенигин фон Полен, подняла глаза и повернула голову к двери. В этот момент дверь открылась, и на огромном серебряном блюде появился лохматый дикий кабан, лежащий в засаде на ароматном ложе черники.
Это был кабан, которого Кейт, начальник протокола Польского генерал-губернаторства, застрелил из своего ружья в Люблинских лесах. Яростная голова лежала, словно в засаде, на ложе из черники, как на ложе из терновника в чаще, готовая броситься на неблагоразумных охотников, на всю их жестокую свору. По обе стороны его рыла виднелись клыки, белые и загнутые; на его спине, блестящей и покрытой каплями жира, на поджаренной, хрустящей коже, поднималась жесткая черная щетина. И я почувствовал в своем сердце неясную симпатию к этому благородному польскому кабану, этому животному — «партизану» люблинских лесов. В глубине темных глазниц блестело что-то серебристое и кровавое, свет холодный и пурпурный, нечто живое и таинственное, точно взгляд, горящий большим внутренним огнем. Тот же взгляд, серебристый и пурпурный, который я видел в глазах крестьян, дровосеков, польских деревенских работников на берегах Вислы, в лесах горной цепи Татр[157] в Закопане[158], на фабриках Радома[159] и Ченстохова[160], в соляных шахтах Велички.
— Ахтунг![161] — сказал Франк и, подняв руку, вонзил в бок кабана широкий нож.
Быть может, виною было пламя, горевшее в большом камине, быть может, обилие еды и драгоценных вин из Франции и Венгрии, но я почувствовал, как краска заливает мне лицо. Я сидел за столом немецкого короля Польши, в большой Вавельской зале, в древнем благородном богатом ученом королевском городе Кракове, посреди маленького Двора этого наивного, жестокого, горделивого: немецкого перевоплощения итальянского сеньора эпохи Ренессанса, и меланхолический стыд заливал краской мое лицо. С самого начала ужина Франк принялся говорить о Платоне, о Марцилио Фицине[162], об Орти Орицеллари (Франк учился в римском университете он отлично говорит по-итальянски: с легким романтическим акцентом, в котором есть нечто от Гете[163] и Грегоровиуса[164]; он проводил целые дни в музеях Флоренции, Венеции, Сиены[165]; он знает Перуджи[166], Лукку[167], Феррару[168], Мантую[169]; он в восторге от Шумана[170], Шопена[171], Брамса[172], он божественно играет на рояле), затем о Донателло[173], о Полициане[174], о Сандро Боттичелли[175]. Разговаривая, он наполовину закрывал глаза, очарованный музыкой своих собственных слов.
Он улыбался фрау Бригитте Франк с той же грацией, какую придаёт Цельзию Аньоло[176] Фиренцуола, там, где он улыбается прекрасной Аморрориске. Продолжая беседовать, он обласкивал фрау Бехтер и фрау Гасснер тем же нежным взглядом, каким Борзо д’Эсте[177], во дворце Чифанойя, ласкал обнаженные плечи и розовые лица цветущих феррарок. Он поворачивался к губернатору краковской области, венцу Вехтеру, молодому и элегантному Вехтеру, одному из убийц Дольфуса[178], с той же любезной печалью, с какой Лоренцо Великолепный поворачивался к молодому Полициано среди радостных групп гостей, собранных им в своей вилле дель Амбра. И Кейт, Вользеггер, Эмиль Гасснер Сталь отвечали на его куртуазные[179] слова с достоинством и куртуазностью, какие Бальтассарре Кастильоне[180] рекомендует настоящим куртизанам лучших дворов. Один только человек Гиммлера, сидевший с краю стола, слушал и молчал. Быть может, он различал тяжелые шаги в соседних комнатах, где великолепного сеньора ожидали не сокольничьи, со своими птицами, в шапочках, на рукаве, защищенном металлической рукавицей, но суровый эскорт эсэсовцев, вооруженных автоматами.
Это был тот же румянец, который бросался мне в лицо, когда, проехав в автомобиле по пустынным и снежным равнинам, отделяющим Краков[181] от Варшавы, Лодзь[182] от Радома, Ополье от Люблина[183], сквозь печальные города и селения, угрюмые и населенные бледными, истощенными людьми, хранящими на своих лицах отпечаток голода, тревоги, порабощения, отчаяния, в чьих светлых и бесцветных глазах я различал тот чистый взгляд, который свойственен польскому народу, находящемуся в несчастий, я прибывал в Дойче Хаус[184] какого-нибудь туманного города, чтобы провести в нем ночь, встречаемый хриплыми голосами, жирным хохотом, горячим запахом яств и напитков, — я, казалось, проникал посредством какого-то кощунства в какой-то немецкий экспрессионистский двор, придуманный Гросом[185]. Вокруг богато сервированных столов я находил затылки, рты, уши, нарисованные Гросом, и эти немецкие глаза, холодные и пристальные, эти рыбьи глаза. И печальная стыдливость бросала краску мне в лицо, в то время как я смотрел по очереди на одного за другим сотрапезников, сидевших за столом немецкого короля Краковской области, в большой зале Вавеля, и снова вспоминал толпу, бледную и истощенную, улиц Варшавы, Кракова, Ченстохова, Лодзи, толпу, с лицами, потными от голода и тревоги, бродячую по тротуарам, покрытым грязным снегом, печальные дома и гордые дворцы, откуда ежедневно втайне выносились ковры, серебро, хрусталь, фарфор, — все признаки былого богатства, славы и тщеславия.
— Что делали вы сегодня на улице Батория? — спросил меня Франк с лукавой улыбкой.
— На улице Батория? — спросил я.
— Да, мне кажется, эта улица зовется улица Баторего, не правда ли? — повторил Франк, поворачиваясь к Эмилю Гасснеру.
— Йа, Баторегоштрассе, — ответил Гасснер.
— Что же отправились вы делать у этих девиц… как их, бишь, зовут?
— Мадемуазель Урбанские.
— Девицы Урбанские? Но это ведь две старые девы, если я не ошибаюсь? Что же вам понадобилось у мадемуазель Урбанских?
— Вы знаете всё, — сказал я, — и вы не знаете, зачем я отправился на улицу Батория? Я пошел, чтобы отнести хлеба мадемуазель Урбанским.
— Хлеба?
— Да, итальянского хлеба.
— Итальянского хлеба? И вы привезли его из Италии?
— Я привез его с собой из Италии. Я хотел бы привезти девицам Урбанским букет роз из Флорении. Но от Флоренции до Кракова путь не близкий, а розы быстро увядают. Вот почему я привез хлеб.
— Хлеб? — воскликнул Франк. — Вы полагали, что в Польше не хватает хлеба? И он указал широким жестом на широкие серебряные блюда, заваленные белыми ломтями хлеба, этого мягкого польского хлеба, у которого корочка — легкая, хрустящая и гладкая, точно шелковая. Улыбка удивленной наивности озаряла его лицо, бледное и пухлое.
— Польский хлеб горек, — сказал я.
— Да, это правда, розы Италии веселее. Вам следовало бы привезти девицам Урбанским охапку роз из Флоренции. Это был бы прелестный сувенир из Флоренции, тем более, что, весьма вероятно, вы встречались в этом доме не только с двумя старыми девицами, нихьт вар?
— О! Вы несносны, — сказала по-французски фрау Вехтер, грациозно грозя пальцем Франку. Фрау Вехтер была из Вены; она любила говорить по-французски.
— Княгиня Любомирская, не правда ли? — продолжал Франк, смеясь — Лили Любомирская. Лили, ах зо, Лили.
Все принялись смеяться. Я замолчал.
— Лили тоже любит итальянский хлеб? — спросил Франк, и его слова были встречены смехом гостей.
Тогда я с улыбкой обратился к фрау Вехтер и сказал ей по-французски: «Я совсем не умен и не умею ответить. Не хотели бы вы ответить вместо меня?»
— О, я знаю, как вы неумны, — мило сказала фрау Вехтер, но ведь это так легко ответить, что поляки и итальянцы — это народы-друзья. Лучший хлеб — это хлеб дружбы, не правда ли?
— Мерси, — сказал я ей.
— Ах, зо, — воскликнул Франк. После недолгого молчания он добавил: — Я и забыл, что вы большой друг польского народа, я хочу сказать польского благородного сословия.
— Все поляки благородны, — ответил я.
— В самом деле, — продолжал Франк, — я не делаю никакого различия между князем Радзивиллом[186] и кучером.
— И вы ошибаетесь, — сказал ему я.
Все посмотрели на меня с удивлением, а Франк мне улыбнулся.
В это время дверь тихо отворилась, и через нее вплыл жареный гусь на серебряном блюде. Он лежал на боку посреди ожерелья из картофелин, зажаренных в сале. Это был толстый и жирный польский гусь, с широкой грудью, полными боками, мускулистой шеей. Не знаю отчего, но я подумал, что он, наверное, не был зарезан ножом, согласно доброму старому обычаю, а расстрелян у стены взводом эсэсовцев. Мне казалось, что я слышу сухую команду: «Фейер![187]» и внезапный треск залпа. Гусь, вероятно, падал, высоко держа голову, глядя прямо в лицо жестоким угнетателям Польши. «Фейер!» — крикнул я громко, как будто для того, чтобы самому себе отдать отчет в том, что означал этот крик, его хриплый звук, это короткое приказание, и как будто я ожидал, что в большой зале Вавельского дворца вдруг раздастся треск залпа. Все рассмеялись. Они смеялись, откидывая головы назад, и фрау Бригитта Франк пристально смотрела на меня глазами, блестящими от чувственного удовольствия, на лице раскрасневшемся и слегка влажном. «Фейер!» — крикнул, в свою очередь, Франк и расхохотался еще громче, склонив голову на правое плечо, целясь в гуся и прищурив левый глаз, как будто целился на самом деле. Тогда я тоже рассмеялся, но чувство стыда понемногу все больше овладевало мной; я чувствовал себя «на стороне гуся». О, да! Я чувствовал себя на стороне гуся, а не на стороне тех, кто вскидывал к плечу свои автоматы, ни тех, кто кричал: «Фейер!» ни всех тех, которые говорили: «Ганц Капутт!. Гусь мертв!»
Я чувствовал себя «на стороне гуся» и, глядя на этого гуся, я думал о старой княгине Радзивилл, о милой, старой Бишетт Радзивилл, стоящей под дождем, среди руин варшавского вокзала, в ожидании поезда, который должен был отвезти ее в безопасное место в Италии. Шел дождь, и Бишетт была здесь уже более двух часов, стоя под наполовину разрушенными балками навеса, на перроне, изрытом воронками бомб Стука. «Не занимайтесь слишком много мной, дорогой. Я старая курица», — говорила она Соро — молодому секретарю итальянского посольства, и время от времени трясла головой, стряхивая дождевую воду, скапливавшуюся на полях ее маленькой фетровой шляпки. «Если бы я знал, где найти зонтик», — говорил Соро. «Зонтик?! Послушайте, но это смешно в моем возрасте!» — отвечала она и смеялась, рассказывая своим голосом, со своим акцентом, со своими неповторимыми движениями ресниц, небольшой группе родственников и друзей, которым удалось получить в Гестапо разрешение проводить ее на вокзал, о всех мелких занимательных неприятностях своей одиссеи — путешествия через территории, оккупированные русскими и немцами, как если бы ее жалость, ее милосердие и ее гордость не позволяли ей говорить об огромной трагедии Польши. Струи дождя бежали по ее лицу, смывая косметику с ее щек. Ее белые волосы, с желтоватыми прядями, выбивались из-под маленькой фетровой шляпки жирными и грязными завитками, с которых капала вода. Она была здесь уже более двух часов, стоя под дождем. Ее туфли тонули в жидкой грязи и мокрой угольной пыли, которой был покрыт перрон, но она была веселой, живой, полной ума, расспрашивающей о новостях то одного, то другого, об общих родных, друзьях, умерших, беглецах, интернированных, и когда кто-либо отвечал ей: «о нем ничего неизвестно», Бишетт восклицала: «Да нет, не может быть!» — как будто ее развлекали занятною историей, забавной сплетней. «Ах, как это интересно!» — восклицала она, когда ей отвечали: «такой-то жив». А если ответ был: «такой-то умер, такой-то в концентрационном лагере», Бишетт принимала раздраженный вид и вскрикивала: «Возможно ли это?» — как будто хотела сказать: «Вы надо мной смеетесь», — как будто бы ей рассказывали совершенно неправдоподобную историю. Она требовала, чтобы Соро посвятил ее в последние варшавские сплетни, и когда она смотрела на немецких солдат и офицеров, проходивших по вокзальной платформе, она говорила: «Эти бедняги!» с такой нескончаемой интонацией, с таким акцентом прошлого, как будто она сожалела, что стесняет их своим присутствием, как будто она испытывала жалость к ним, как будто разрушение Польши было ужасным несчастьем, случившимся с этими бедными немцами.
В какую-то минуту немецкий офицер приблизился, чтобы принести ей стул. Он склонился перед Бишетт и предложил ей стул, в молчании. Бишетт выпрямилась и со своей самой обаятельной улыбкой сказала (причем в ее интонации не было ни малейшей тени презрения): «Мерси, я не принимаю любезностей ни от кого, кроме моих друзей». Офицер смешался; сначала он не посмел показать, что он понял, затем покраснел, поставил стул на платформе и молча удалился.
— Посмотрите! — сказала Бишетт. — Что за идея — стул! Она смотрела на одинокий стул под дождем и добавила: «Просто невероятно, до чего им кажется, что они у себя, этим беднягам!».
Я думал об этой старой польской даме, стоящей под дождем, об этом одиноком стуле, покинутом под дождем, и чувствовал себя на стороне гуся, на стороне княгини Радзивилл, и стула, одинокого, под дождем. «Фейер!» — повторил Франк. Гусь упал навзничь под залпом винтовок у разрушенной стены варшавского вокзала, улыбаясь взводу, приводящему в исполнение казнь. — «Эти бедняги!» Я чувствовал себя на стороне гуся, на стороне Бишетт и одинокого стула под этим дождем, на грязной платформе, среди развалин варшавского вокзала.
Все смеялись. Сидя в позе напряженной и торжественной, словно на троне, не смеялась одна только королева. Она была в широком платье колоколом, из зеленого бархата, без пояса, низ которого был оторочен широкой пурпурной лентой; его длинные широкие рукава старинного немецкого покроя, присоединенные к плечам круглыми пуфами, казались надутыми воздухом; плечи были приподняты, и от них книзу шло все большее расширение, опускавшееся до самых запястий. На зеленом колоколе была наброшена кружевная накидка того же цвета, что и широкая пурпурная лента. Она была причесана просто: волосы, собранные в шиньон вверху на голове. Жемчужная нить, точно диадема, дважды обвивала ее лоб. Жирные руки, с короткими пальцами, сверкали золотыми браслетами на запястьях, а пальцы обременены слишком узкими кольцами, по сторонам которых вздувалась кожа. Она сидела в готической позе, раздавленная своим бархатным колоколом и кружевной накидкой, как будто тяжелыми доспехами.
Маска наглой чувственности покрывала ее лицо, воспламененное и блестящее. И временами нечто чистое, меланхолическое, отсутствующее отражалось в ее взгляде. Все ее лицо тянулось к грудам пищи, нагроможденным на драгоценных мейсенских тарелках[188], к ароматному вину, сверкавшему в богемском хрустале, и выражение ненасытной жадности, чтобы не сказать яростного обжорства, дрожало в ее ноздрях, трепетало на пухлых губах, вычерчивало на ее щеках целую паутину мелких морщинок, которые от ее затрудненного дыхания то растягивались, то снова собирались вокруг носа и рта. Я испытывал к ней смесь отвращения и сострадания. Быть может, она была голодна? Мне хотелось прийти к ней на помощь, перегнуться через стол и пальцами положить ей в рот большой кусок гуся, накормить ее картошкой. Я боялся, что она в любую минуту может не выдержать голода, осесть в своем зеленом колоколе, уронить голову в свою тарелку, полную жирной пищи, и я не отрывал глаз от ее возбужденного лица, грудей, раздувшихся и сжатых под тяжелыми бархатными доспехами. Но что меня всякий раз останавливало от того, чтобы спасти ее, был ее взгляд, отсутствующий и чистый, девственный свет, ясный и прозрачный, светившийся в ее влажных глазах.
Продолжая есть и жадно пить, остальные сотрапезники точно так же не отрывали глаз от лица королевы. Они покрывали ее светящимися взглядами, как бы тоже боясь, что она уступит голоду и упадет, сначала головой в тарелку, полную кусками жирного гуся и жареными картофелинами. Время от времени они смотрели на нее, раскрыв рты, с видом восторженным и опасающимся, подняв свои стаканы и оперев концы своих вилок на нижнюю губу. Даже сам король следил внимательным взором за малейшими движениями королевы, готовый предупредить любое ее желание, угадать каждое ее движение, наиболее интимное, уловить на ее лице выражение самое мимолетное.
Но королева сидела неподвижная, безучастная, бросая время от времени на сотрапезников взгляд чистый и рассеянный; чаще всего — на краковского губернатора, молодого Вехтера, худощавого, элегантного, с невинным лицом, руками белыми, которых не замарала даже кровь Дольфуса; или на лицо аббата Эмиля Гасснера, также венца, с улыбкой иронической и лживой, с уклончивым взглядом, который опускал глаза с видом застенчивым и как бы испуганным, всякий раз, как только на нем останавливался девственный взор королевы. Но чаще всего — на председателе Национал-социалистической немецкой партии Польского генерал-губернаторства атлетическом Стале, с его холодным и резким лицом готического построения, со лбом, увенчанным невидимыми дубовыми листьями, вся фигура которого изображала устремление к бесстрастной статуе из плоти этой королевы, затянутой в футляре своих тяжких доспехов из зеленого бархата, сжимающей в своей жирной руке хрупкую хрустальную чашу и внимающей с отсутствующим видом, видимо поглощенной своей тайной думой, высокой и чистой.
Время от времени, отрываясь от созерцания королевы, я переводил свой взгляд на сотрапезников, задерживаясь на улыбающемся лице фрау Вехтер, на белых руках фрау Гасснер, на розовом и потеющем лбе начальника Протокола Генерал-губернаторства Кейте, который рассказывал об охоте на кабана в люблинских лесах, о сворах злобных собак из Волыни и облавах в лесах Радзивилова[189]. Я смотрел на статс-секретарей Беппля и Бюлера, туго затянутых в своей униформе из серого сукна, с красными повязками со свастикой на рукаве, которые, с раскрасневшимися щеками, каплями пота, сбегающими с висков, и блестящими глазами, время от времени отвечали почти криком: «Йа, йа» на каждый «нихьт вар!» короля. Я пристально смотрел также на барона Вользеггера, старого тирольского джентльмена, с волосами, сверкающими белизной, с бородкой мушкетера и светлыми глазами на покрасневшем лице, спрашивая себя, где мне уже приходилось видеть это лицо, любезное и нелюдимое. Перебирая в памяти год за годом, город за городом, я припомнил Донауешинген в Вюртемберге[190] и парк дворца князей Фюрстенберг[191], где в мраморном водоеме, окруженном статуями Дианы и ее нимф, бьет исток Дуная. Я наклонился над колыбелью юной реки, которая, трепеща, заполняет водоем, потом стучал в дверь дворца, пересекал большую приемную, поднимался по большой мраморной лестнице, входил в огромную залу, на стенах которой висели холсты «Страстей» Гольбейна[192], и здесь, на светлой стене, видел портрет Валленштейна — кондотьера[193]. Я улыбнулся этому далекому воспоминанию, я улыбнулся барону Вользеггеру. Потом, случайно, мой взгляд остановился на человеке Гиммлера[194].
Мне показалось в эту минуту, что я вижу его впервые, и я задрожал. Он тоже смотрел на меня, и наши глаза встретились. Этот человек, с именем запретным, именем непроизносимым, трудно определимого возраста (должно быть ему было не более сорока), с темными волосами, уже посеревшими на висках, с тонким носом и тонкими впалыми бледными губами, смотрел глазами необыкновенно светлыми… Это были, быть может, серые глаза, быть может, голубые, быть может, белые, сходные с глазами рыбы. Длинный рубец пересекал его левую щеку. Но что-то в нем меня вдруг взволновало: его уши, удивительно маленькие, бескровные, казавшиеся восковыми, с прозрачными мочками, прозрачностью своею напоминавшими воск и молоко. Амбруаз из сказки Апулея[195], пришел мне на память, тот Амбруаз, у которого, во время его бдения над мертвым, лемуры отъели уши, и он восстановил их себе посредством воска. В его лице было нечто вялое и обнаженное. Несмотря на то, что его череп был слеплен грубо и сильно, что кости лба казались плотными, твердыми и хорошо собранными, тем не менее казалось, что он уступит нажиму пальцев, словно череп новорожденного, можно бы сказать также череп ягненка. И в его узких щеках, удлиненном лице, уклончивом взгляде также было что-то от ягненка: что-то животное и детское одновременно. У него был белый и влажный лоб больного, и даже пот, который высыпал на этой коже, восковой и вялой, наводил на мысли о лихорадочной бессоннице, увлажняющей лбы туберкулезных больных, которые, лежа на спине, ожидают рассвета.
Человек Гиммлера молчал. Он смотрел на меня молча, и я не сразу заметил, что странная улыбка, застенчивая и очень нежная, украшала его губы, тонкие и бледные. Он смотрел на меня, улыбаясь. Сначала я думал, что он улыбается мне, что он в самом деле смотрит на меня, улыбаясь, но вдруг я заметил, что его глаза пусты, что он не слушает разговоров гостей, что он не слышит шума голосов и смеха, звяканья вилок и хрусталя, весь целиком унесенный в небо возвышенной и чистой жестокости (этой «страдающей жестокости», которая и есть подлинно немецкая жестокость), страха и одиночества. Ни тени грубости не было на этом лице. Нет. Но застенчивость, растерянность, чудесное трогательное одиночество. Левая бровь его была приподнята острым углом в направлении лба. Холодное презрение, жестокая гордость отвесно падали с этой приподнятой брови. Но тем, что собирало в единство все черты и все движения его лица, была именно эта страдающая жестокость, это чудесное и печальное одиночество.
Было мгновение, когда мне показалось, что нечто возникает в нем: что-то живое и человеческое, свет или цвет — взгляд, быть может, взгляд дитяти, рождающийся в глубине его пустых глаз. У меня было впечатление, что он медленно спускается, подобно ангелу, со своего возвышенного неба, далекого и бесконечно чистого. Он спускался, как паук, как ангел-паук, медленно, вдоль высокой белой стены, будто пленник, скользящий вниз по отвесной высокой стене своей тюрьмы.
Его бледное лицо постепенно обнаруживало как бы глубокое смирение. Он выходил из глубин своего одиночества, как рыба выходит из своей норы. Он плыл мне навстречу, решительно на меня глядя. Бессознательная симпатия начинала смешиваться во мне с чувством отвращения, внушаемым его оголенным лицом, его белым взглядом. Я стал наблюдать за ним с чем-то похожим на сожаление, находя болезненное удовольствие в этой смеси отвращения и симпатии, которую пробуждало во мне это жалкое чудовище.
Внезапно человек Гиммлера наклонился над столом и с застенчивой улыбкой заговорил: «Я тоже, — сказал он, понизив голос, — я тоже друг поляков. — И добавил по-французски: — Я их очень люблю».
Я был так смущен этими словами и необычным нежным и печальным голосом человека Гиммлера, что даже не заметил, как король, королева и все сотрапезники встали. На меня смотрели. Я поднялся, в свою очередь, и мы двинулись следом за королевой. Когда она стояла, она казалась более ожиревшей и имела вид доброй немецкой буржуазки. Зеленый цвет ее бархатного колокола казался более блеклым. Она медленно двигалась со снисходительным достоинством, на мгновение останавливаясь на пороге каждой из комнат как бы для того, чтобы просмаковать глазами холодное великолепие обстановки, тупоумное и наглое, выдержанное в стиле «третьего райха», наиболее чистый эталон которого находился в Государственной канцелярии в Берлине. Затем она переступала через порог, делала несколько шагов, снова останавливалась, поднимала руку и, указывая одним жестом на мебель, картины, ковры, светильники, статуи героев Брекера, бюсты фюрера, гобелены, украшенные готическими орлами и свастиками, говорила мне с грациозной улыбкой: «Шён, нихьт вар?[196]».
Вся огромная масса Вавеля, которую двадцатью годами ранее я видел царственно пустынной, была теперь загромождена — от подземелий до верха самой высокой из башен — мебелью, накраденной во дворцах польских магнатов, или плодами искусного вымогательства, практикуемого во Франции, в Бельгии и в Голландии многочисленными комиссиями, составленными из экспертов и антикваров Мюнхена, Берлина и Вены, которые следовали сквозь Европу по пятам за немецкими армиями. Резкий свет изливался с больших люстр, отражался стенами, обитыми блестящей кожей, портретами Гитлера[197], Геринга[198], Геббельса[199], Гиммлера и других вождей гитлеровской империи, рассеянными повсюду мраморными и бронзовыми бюстами (в коридорах, на лестничных площадках, в углах комнат, на мебели, на мраморных колонках или в нишах) и изображающими немецкого короля Польши в различных позах: то — вдохновленных декадентской эстетикой Бургхарта, Ницше[200] и Стефена Георге, то — героической эстетикой третьей симфонии Бетховена и марша Хорста Весселя[201], то — декоративной эстетикой гуманистов-антиквариев Флоренции и Мюнхена. Запах свежей живописи, новой кожи, недавно покрытого лаком дерева преобладал в спертом воздухе.
Наконец, мы вошли в большую залу, щедро обставленную мебелью «третьего райха», украшенную французскими коврами и кожаной одеждой. Это был рабочий кабинет Франка. Все пространство, заключенное между двумя высокими застекленными дверями, открывавшимися в наружную лоджию Вавеля (наружную лоджию, выходящую на великолепный двор, созданный архитекторами итальянского Ренессанса[202]), было занято огромным столом красного дерева, в котором отражалось пламя свечей, укрепленных в тяжелых канделябрах светлой бронзы. Этот огромный стол был пуст. «Вот здесь я размышляю о будущем Польши», — сказал Франк, раскинув руки. Я улыбнулся. Я думал о будущем Германии.
По знаку, поданному Франком, обе застекленные двери раскрылись, и мы вышли в лоджию. «Вот немецкий „Бург“[203]», — сказал Франк, указывая мне протянутой рукой на величественный массив Вавеля, который жестко вырисовывался среди ослепительного сверкающего снега. Вокруг древнего дворца польских королей лежал город, распростертый и укрытый своим снежным саваном, под небом, которое узкий серп месяца освещал бледными лучами. Синеватый туман поднимался над Вислой. Вдали на горизонте высились Татры, прозрачные и хрупкие. Лай собак эсэсовской охраны перед могилой Пилсудского[204] разрывал, время от времени, глубокое молчание ночи. Холод был столь жестоким, что мои глаза слезились. Я на мгновение закрыл их. «Можно подумать, что это сон, не правда ли?» — сказал мне Франк.
Когда мы возвратились в кабинет, фрау Бригитта Франк подошла ко мне и тихо сказала, фамильярно положив руку на мое плечо: «Идемте! Я хочу посвятить вас в одну тайну». Через маленькую дверь, открывшуюся в стене кабинета, мы прошли в маленькую комнату, со стенами, побеленными известью и совершенно голыми. Никакой мебели, ни одного ковра, ни одной картины, ни одной книги, ни одного цветка, — ничего, кроме великолепного Плейеля и деревянного табурета. Фрау Бригитта Франк подняла крышку над клавиатурой и, опершись коленом на табурет, притронулась к клавишам своими жирными пальцами.
— Прежде, чем принять важное решение, а также, когда он очень устанет или находится в состоянии депрессии, порой даже посреди важного совещания, — сказала фрау Бригитта Франк, — он приходит сюда, чтобы запереться в этой келье, садится за рояль и ищет отдыха и вдохновения у Шумана, Брамса, Шопена или Бетховена. Знаете ли, как я прозвала эту келью? Я называю ее орлиным гнездом!
Я склонился, не проронив ни звука.
— Это необыкновенный человек, нихьт вар? — продолжала она, не сводя с меня взора, полного горделивой напыщенности. — Это артист, душа чистая и тонкая; только такой артист, как он, может управлять Польшей.
— Да, великий артист, — сказал я. — И при помощи вот этого рояля он управляет польским народом.
— О! Вы так хорошо всё понимаете, — сказала фрау Бригитта Франк растроганным голосом.
Мы молча покинули «орлиное гнездо». Не знаю отчего, но меня долго не покидало чувство печали и тревоги. Мы все собрались в собственных апартаментах Франка и, с удобствами расположившись на глубоких венских диванах и широких креслах, обитых нежной оленьей кожей, принялись курить и рассуждать. Двое лакеев, в синих ливреях, с жесткими и короткими волосами, подстриженными на прусский манер, подавали кофе, пирожные и ликеры. Их шаги были приглушены пушистыми французскими коврами, полностью закрывавшими весь паркет. На маленьких лакированных венецианских столиках, зеленых и золотистых, стояли бутылки со старыми французскими коньяками лучших марок, ящики гаванских сигар, серебряные блюда, с засахаренными фруктами, и знаменитыми веделевскими шоколадными конфетами.
Было ли то следствием семейственной теплоты или сладостного потрескивания дров в камине, — беседа мало-помалу стала сердечной, почти интимной. И как это всегда случалось в Польше, когда немцы собирались вместе, они скоро начали говорить о поляках. Они говорили о них, как всегда, со злобным презрением, но странно смешанным с едва ли не патологическим чувством, чем-то вроде женского ощущения досады, сожаления, несбывшейся любви, желания и бессознательной ревности. Вот, когда мне вспомнилась милая старая Бишетт Радзивилл, стоящая под дождем среди руин варшавского вокзала, и старинная интонация, с которой она произносила своё: «Эти бедняги!»
— Польские рабочие, — говорил Франк — не лучшие в Европе, но зато и не самые худшие. Они умеют очень хорошо работать, когда захотят. Я думаю, что мы можем на них рассчитывать. В особенности на их дисциплину.
— Они обладают очень серьёзным недостатком, — сказал Вехтер, — их манерой примешивать патриотизм к техническим проблемам труда и производства.
— И не только к техническим проблемам, но и к проблемам моральным, — добавил барон Вользеггер.
— Современная техника, — ответил Вехтер, — не выносит вторжения посторонних элементов в проблемы труда и производства. А из всех посторонних элементов в проблемах производства патриотизм рабочих наиболее опасен.
— Да, конечно, — сказал Франк, — но патриотизм рабочих крайне отличается от патриотизма аристократов и буржуа.
— Родина рабочего — его машина, его завод, — произнес вполголоса человек Гиммлера.
— Это коммунистическая идея, — заявил Франк, — мне помнится, что это формулировка Ленина[205]. Но, в сущности, она справедлива. Польский рабочий — добрый патриот. Он любит свою родину. Но он знает, что лучший способ спасти свою родину — это работать на нас. Он знает, что если он не захочет работать на нас, — продолжал он, глядя на человека Гиммлера, — если он станет сопротивляться…
— Мы знаем много вещей, — сказал человек Гиммлера, но польский рабочий их не знает, или не хочет знать. Я и сам предпочел бы не знать их, — добавил он со скромной улыбкой.
— Если вы хотите выиграть войну, — заговорил я, — вы не можете разрушать родину рабочего. Вы не можете разрушать машины, заводы, индустрию. Это не только польская, это европейская проблема. И в других странах Европы, которые вами оккупированы, вы точно так же можете разрушить родину аристократов, родину буржуа, но только не родину рабочих. Мне думается, что в этом весь, или почти весь, смысл настоящей войны.
— Крестьяне, — сказал человек Гиммлера.
— Если понадобится, — подхватил Франк, — раздавим рабочих при посредстве крестьян.
— Вы проиграете войну, — бросил я.
— Герр Малапарте прав, — согласился человек Гиммлера, — мы проиграем войну. Надо, чтобы польские рабочие нас любили. Мы должны сделать так, чтобы польский народ любил нас. Говоря это, он смотрел на меня и улыбался. Сказав, он умолк и придвинулся к огню.
— Поляки кончат тем, что полюбят нас, — сказал Франк. — Это романтический народ. Новая форма грядущего польского романтизма будет заключаться в любви к немцам.
— Польский романтизм сейчас… — снова заговорил барон Вользеггер. — Есть венское изречение, которое, как нельзя более соответствует нашему положению в отношении к польскому народу: Их либе дихь, унд ду шлефсьт[206] — я люблю тебя, а ты — ты спишь.
— О! Да, — улыбнулась фрау Вехтер. — Я люблю тебя, а ты спишь. Очень забавно, не правда ли?
— Йа, зо амюзант![207] — ответила фрау Бригитта Франк.
— Польский народ, несомненно, кончит тем, что нас полюбит, — сказал Вехтер. — Но сейчас он спит.
— Я думаю, что он, скорее, притворяется спящим, — возразил Франк. — А в сущности, он считает достаточным предоставлять любить себя. О народах можно судить по их женщинам.
— Польки славятся своей красотой и изяществом, — сказала фрау Бригитта Франк. — Разве вы находите их такими красивыми?
— Я нахожу их замечательными, — ответил я. И не только благодаря их красоте и изяществу.
— А мне кажется, что они вовсе не так прекрасны, как говорят, — настаивала фрау Бригитта Франк. — Красота немецких женщин более сурова, более подлинна, более классична.
— Есть, однако, среди них такие, которые очень красивы и очень изящны, — не согласилась фрау Вехтер.
— В Вене, в былые времена, — сказал барон Вользеггер, — их считали даже более изящными, чем парижанок.
— Ах! Парижанки! — воскликнул Франк.
— Разве есть еще парижанки? — спросила фрау Вехтер, грациозно склоняя голову на плечо.
— Что до меня, то я нахожу, что изящество полек ужасающе провинциально и устарело, — сказала фрау Бригитта Франк. — И в этом вина не только войны. Германия тоже воюет два с половиной года, однако сегодня немецкие женщины самые изящные в Европе.
— Мне кажется, — добавила фрау Гасснер, что польские женщины моются не слишком часто.
— О, да! Они ужасно грязные, — подхватила фрау Бригитта Франк, встряхивая свой бархатный колокол, который распространил зеленый и длительный отзвук в комнате.
— Это не их вина, — заметил барон Вользеггер, — у них нет мыла.
— Очень скоро, — заявил Франк, — они не смогут больше ссылаться на этот предлог. В Германии изобретен способ изготовления мыла из сырья, которое ничего не стоит и повсюду встречается в изобилии. Я уже заказал большую партию, чтобы распределить между польскими дамами, чтобы они могли, наконец, мыться. Это мыло, изготовленное из экскрементов.
— Из экскрементов! — воскликнул я.
— Да, из человеческих экскрементов, разумеется.
— И это хорошее мыло?
— Отличное, — сказал Франк. — Я испробовал его для бритья и был в полном восторге.
— Оно хорошо мылится?
— Превосходно. С ним можно отлично бриться. Это мыло достойное короля.
— God, shave the King![208] — воскликнул я.
— Только… — добавил немецкий король Польши.
— Только… — повторил я, затаив дыхание.
— У него есть только один недостаток: запах и цвет остаются все теми же.
Громкий взрыв хохота встретил эти слова. Ах, зо! Ах, зо! Вундербар![209] — кричали они все. И я увидел слезу наслаждения, стекавшую по щеке фрау Бригитты Франк, ди дойче Кенигин фон Полен.[210]
V. ЗАПРЕТНЫЕ ГОРОДА
Я прибыл в Варшаву из Радома на автомобиле, проехав через всю огромную польскую равнину, погребенную под снегом. И когда я въезжал в Варшаву, мрачные предместья, разрушенные бомбардировкой, Маршалковская, прикрытая с флангов скелетами зданий, почерневших от пожаров, руины вокзала, выпотрошенные черные дома, которым мертвенно-бледный вечерний свет придавал еще более страшный вид, — казались приятным отдохновением для моих глаз, ослепленных сверканием снегов.
Улицы были пустынны. Редкие прохожие тотчас же скрывались, прижимаясь к стенам; немецкие патрули, с автоматами наготове, стояли на перекрестках. Саксонская площадь показалась мне огромной и призрачной. Я поднял глаза на первый этаж отеля «Европейский», отыскивая окно помещения, которое я занимал в течение двух лет в 1919 и 1920 годах, будучи молодым атташе итальянской дипломатической миссии. Окно было освещено. Я остановился во дворе дворца Брюль, пересек холл и ступил на парадную лестницу. Немецкий губернатор Варшавы Фишер пригласил меня в этот вечер к обеду, который он давал в честь генерал-губернатора Франка, фрау Бригитты Франк и нескольких ответственных сотрудников генерал-губернаторства. В прошлом — резиденция Министерства иностранных дел Польской республики, а теперь — немецкого губернатора Варшавы, дворец Брюль, поднимался неповрежденный, в двух шагах от развалин «Английского отеля», в котором останавливался, проезжая через Варшаву, Наполеон. Одна только бомба попала во дворец Брюль, обрушив плафон над парадной лестницей и внутренней лоджией, ведущей в роскошные личные апартаменты бывшего министра иностранных дел Республики полковника Бека, теперь занятые Фишером. Я ступил на первый марш парадной лестницы и, поднимаясь вверх, поднял глаза.
На самом верху, замыкая с обеих сторон два ряда тоненьких колонн из белого штюка[211], совсем гладких, без баз[212] и капителей[213], в стиле модернистского классицизма, грубого и скудного, я увидел, как постепенно возникали резко освещенные, словно огнями рампы — снизу вверх, две массивные статуи из человеческой плоти, угрожающе наклонявшиеся надо мной, в то время, как я медленно поднимался по ступеням из розового мрамора. Одетая в золотую парчу, со складками жесткими и глубокими, словно желоба каннелюр[214] на пилястрах[215], с лбом, удлиненным высоким сооружением из белокуро-медных волос, странно причесанных и наводивших на мысль о коринфской капители, причудливо водруженной на дорическую колонну[216], — торжественно вздымалась фрау Фишер. Из-под ее платья виднелись две огромные ступни и две округлые ноги с мясистыми икрами, которым шелк чулок, серый и блестящий, придавал стальной оттенок. Ее руки не висели, но были твердо вытянуты вдоль бедер и как будто даже растянуты каким-то тяжелым грузом. Надменная импозантная масса губернатора Фишера высилась рядом: жирный, геркулесовского сложения, он был затянут в узком вечернем костюме берлинского покроя, с чересчур короткими рукавами; маленькая круглая голова, лицо розовое и пухлое, глаза навыкате, с красными веками. Время от времени (быть может, это было привычкой, продиктованной застенчивостью) он прилежно и медленно облизывал свои губы. Ноги его были раздвинуты, руки висели немного отстраненные от туловища, и большие сжатые кулаки напоминали статую боксера. Благодаря перспективе, эти два массивных силуэта, по мере того, как я медленно поднимался вверх по лестнице, казалось, откидывались назад, как две статуи на фотографии, снятые снизу вверх, и их руки, как это получается на такой фотографии, их ступни, их ноги казались мне чудовищными и непропорциональными остальному телу, странно раздутыми и уродливыми. С каждым новым маршем, на который я поднимался, во мне возрастало чувство смутного страха, что я ощущаю каждый раз, сидя в театре, в первом ряду кресел, когда певец приближается к рампе и нависает надо мной, широко открыв рот и вытянув руку, чтобы запеть свою арию. И в этот самый миг две массивные статуи из человеческой плоти, одновременно вытянули правые руки и обе вместе сильными голосами возгласили: «Хайль Гитлер!»
В тот же миг губернатор и фрау Фишер растаяли на моих глазах в холодном голубом свете ламп, и на их месте возникли две удлиненные, тонкие тени госпожи Бек и полковника Бека. Госпожа Бек улыбалась и протягивала ко мне руку, слегка наклоняясь вперед, как бы затем, чтобы помочь мне преодолеть последние ступени подъема, а полковник Бек, худощавый и стройный, с маленькой птичьей головкой, склонялся, с суховатым английским изяществом, едва заметно сгибая левое колено. Они выглядели, как два поблекших образа, далеко ушедших в прошлое, тогда как были датированы не далее, чем вчерашним днем. Они передвигались со значительностью призраков в глубине руин Варшавы, среди которых истощенная толпа, мертвенно-бледная от тревоги и ярости, медленно дефилировала, поднимая руки и что-то выкрикивая. Госпожа Бек, казалось, не замечала этой толпы, проходившей позади нее, и улыбалась, протягивая мне руку. Но полковник Бек, с лицом, объятым страхом и бледным, время от времени тревожно озирался, поворачивая птичью головку на своей хрупкой шее. Голубоватый свет ламп отражался в его гладком черепе, в его выступающем носе. Он, словно для того, чтобы оттеснить эту декорацию к руинам Варшавы, прислонялся спиной, прикрывая улицы, кишащие несчастными людьми, одетыми в лохмотья и непромокаемые плащи, изорванные и изношенные, людьми, с головами не покрытыми вовсе или увенчанными старыми шляпами, обесцвеченными дождями и морозами. Шел снег, и время от времени среди тысяч угасших взглядов толпы, медленно продвигавшейся по тротуарам, в чьем-то живом взоре, среди тысяч угасших взоров, вспыхивал огонь ненависти и отчаяния, следивший за немецким солдатом, пересекавшим улицу в своих подкованных железом сапогах. Перед «Бристолем» и «Европейской», перед кинотеатрами Нового Свята и церковью святого Андрея, где в урне хранится сердце Шопена, перед кучами мусора, оставшимися от Маршалковской и Краковского предместья, перед разбитыми витринами Веделя и Фукса группы женщин оборачивались, обмениваясь усталыми взглядами, движениями головы, выражавшими безнадежность, и ватаги ребят, забавлявшихся скольжением по льду, останавливались, глазея, на появления и исчезновения немецких солдат и офицеров во дворе дворца Потоцких[217], где помещалась Комендатура. Вокруг больших костров, зажженных посреди площадей, молчаливые толпы мужчин и женщин, присев на корточки под падающим снегом, протягивали руки к огню. Все обернулись, глядя на две бледные тени, с изяществом движущиеся вверх по мраморной лестнице дворца Брюль, и время от времени кто-нибудь поднимал вверх руки и кричал. Группы людей проходили в ручных кандалах, эскортируемые эсэсовцами, и все они поворачивали головы к госпоже Бек, которая, улыбаясь, протягивала мне руку, к полковнику Беку, который тревожно покачивал маленькой птичьей головкой на своей хрупкой шее, опираясь спиной, как бы затем, чтобы оттеснить к угрюмому фону варшавских руин этот пейзаж, серый и грязноватый, который был словно стена со штукатуркой, запятнанной там и здесь кровавыми пятнами и пробитой пулевыми отверстиями в результате деятельности отрядов, производивших расстрелы.
За столом губернатора Фишера, в апартаментах полковника Бека, я нашел снова, не считая генерал-губернатора Франка и фрау Бригитты Франк, почти весь двор краковского Вавеля: фрау Вехтер, Кейта, Эмиля Гасснера, барона Вользеггера и человека Гиммлера; самое большее, если я мог насчитать среди них, — трех или четырех сотрудников Фишера.
— Ну вот мы и снова собрались все вместе, — сказал Франк, поворачиваясь ко мне с сердечной улыбкой. И он добавил, повторяя знаменитые слова Лютера[218]: «Хир штейе их, их канн нихьт андерс…».[219]
— Абер их канн штетьс андерс, Готт хельфе мир![220] — ответил я.
Мои слова были встречены громким раскатом смеха. Фрау Фишер, испуганная таким «открытием застольной беседы», как говорил Франк, на своем напыщенном лексиконе, применявшемся им при начале банкетов, совершенно не обычном для нее, улыбнулась мне, раскрыла рот, сделала усилие над собой, чтобы заговорить, покраснела, затем окинула собравшихся блуждающим взором и сказала: «Гутен аппетит![221]»
Фрау Фишер была молодой цветущей женщиной, сохранявшей выражение глуповатое и нежное. Судя по тому, как на нее смотрели мужчины, она была, вероятно, красивой женщиной, и если не принимать в расчет вульгарность ее, чувствительную лишь для глаз, не принадлежащих немцу, — женщина весьма утонченная. Ее волосы, гладкие и золотистые, с медным оттенком, выдавали настойчивость горячих щипцов, скрученные длинными буклями, перепутанными на лбу, подобно шевелюре Медузы[222]: эластичные и приподнятые змееныши, которые куафёрша[223], чтобы они «держались», укрепила накладкой более темной по цвету, по сравнению с ними. Она боязливо улыбалась, опираясь на край стола, в неустойчивой позе, своими белыми пухлыми локтями, и довольствовалась тем, что отвечала сладострастным «йа» [224] на все обращаемые к ней слова. Фрау Бригитта Франк и фрау Вехтер, наблюдавшие за ней в начале обеда с иронической и недоброжелательной настойчивостью, перестали следить за ней глазами, обратив все свое внимание на блюда и разговор, которым генерал-губернатор Франк управлял с горделивым красноречием, по обычной своей привычке. Фрау Фишер слушала его молча и наблюдала за ним с восторженным выражением своих кукольных глаз. Она не очнулась от своего экстаза до появления жареного оленя. Губернатор Фишер рассказывал, что он сам застрелил этого оленя пулей, попавшей между глаз, и фрау Фишер произнесла со вздохом: «Такова жизнь» — «Зо ист дас Лебен!»
Это был стол, как выразился Франк, посвященный Диане-охотнице[225]. И, сказав это, он улыбнулся Фрау Фишер, галантно склонившись в ее сторону. Сначала подавали фазанов, затем зайцев, и, наконец, этого оленя. И разговор, темой которого была вначале Диана, ее дикие приключения, охотничьи подвиги, воспетые Гомером и Виргилием[226], подвиги, изображенные художниками немецкого средневековья, подвиги, о которых слагали стихи поэты итальянского Возрождения, перешел на польскую охоту, запасы дичи во владениях польских магнатов, своры собак Волыни и превосходство по сравнению с ними немецких свор и свор венгерских. Затем, постепенно, как и всегда, беседа соскользнула на тему о Польше и поляках и, как всегда, кончила тем, что перешла к евреям.
Ни в одной, ни в другой части Европы немцы не казались мне настолько оголенными, настолько раздетыми, как в Польше. В процессе долгого моего знакомства с войной я отдал себе отчет, что немцы вовсе не испытывают страха перед сильным человеком, человеком вооруженным, который нападает на них смело и на равных началах. Немец боится существ безоружных, слабых, больных. Тема «страха», немецкой жестокости как следствия страха, стала основной темой всего моего познания. Тому, кто внимательно рассматривает эту тему с точки зрения современной и христианской, этот «страх» внушает жалость и отвращение; но никогда во мне не бывало еще столько жалости и отвращения, как сейчас в Польше, где передо мной представала во всей своей полноте болезненная и женственная природа этого чувства, свойственного немецкой природе. То, что толкает немца к жестокости, к актам наиболее холодно, наиболее методично, наиболее научно жестоким, — это боязнь угнетенных, безоружных, слабых, больных; боязнь старцев, женщин, детей, боязнь евреев. Даром, что он пытается скрыть этот мистический страх, он с фатальной неизбежностью влечется говорить на эти темы, и всегда в минуты наименее своевременные. За столом, в частной жизни, разгоряченный вином и обильной пищей, когда уверенность в самом себе, которую дает ему чувство сознания, что он не одинок, или когда неосознанная потребность доказать самому себе, что он не боится, заставляют немца раскрыться, утратить обычный контроль над собой и говорить о голоде, казнях, избиениях с патологическим удовлетворением, обнаруживающим не только злопамятство, ревность, обманутую любовь, ненависть, но также жалкую и удивительную ярость низости. Таинственное благородство угнетенных, больных, слабых людей, безоружных, стариков, женщин, детей немец замечает, чувствует, завидует ему и опасается его, быть может, больше, чем какой-либо другой человек в Европе. И он извлекает из всего этого мстительность. Есть нечто от желанного унижения в высокомерии и грубости немца, глубокая потребность в самопоношении, в его безжалостной жестокости, ярость низости в его мистическом «страхе».
Я слушал разговоры сотрапезников с жалостью и отвращением, которые я напрасно старался скрыть, когда Франк, заметив мое смущение и, быть может, затем, чтобы заставить меня разделить с ним его болезненное унижение, повернулся ко мне с иронической улыбкой и спросил: «Вы уже осмотрели гетто, мейн либер[227] Малапарте?»
Я отправился несколькими днями раньше в варшавское гетто. Я переступил границу «запретного города», окруженного высокой стеной красного кирпича, воздвигнутой немцами, чтобы запереть в гетто, словно в клетке, несчастных, одичавших и безоружных. На воротах, охраняемых отрядом эсэсовцев, вооруженных автоматами, было приклеено объявление, подписанное губернатором Фишером, угрожающее смертной казнью всякому еврею, который отважится выйти из гетто. С первых же шагов все было, как в «запретных городах» Кракова, Люблина, Ченстохова. Я был прикован к месту ледяным молчанием, царившим на улицах, битком набитых угрюмым населением, напуганным и одетым в лохмотья. Я пытался пройти через гетто совсем один и обойтись без эскорта агентов Гестапо, один из которых следовал за мной повсюду, словно тень, но требования губернатора Фишера были суровы, и на этот раз мне снова пришлось безропотно сносить общество черного охранника, высокого, белокурого молодого человека с постным лицом и взглядом ясным и холодным. Он был очень красив, с его лбом, высоким и чистым, на который стальная каска бросала темную таинственную тень. Он шел среди евреев, как Ангел бога Израиля.
Тишина была легкой и прозрачной, можно было бы сказать, что она парила в воздухе. Сквозь эту тишину отчетливо слышалось легкое похрустывание тысяч шагов по снегу, подобное зубовному скрежету. Заинтересованные моей формой итальянского офицера, люди поднимали своя бородатые лица и пристально смотрели на меня из-под полузакрытых век глазами, покрасневшими от холода, голода и лихорадочного жара; слезы сверкали на их ресницах и сползали в грязные бороды. Если мне случалось, пробираясь в толпе, задеть кого-либо, я извинялся, говоря: «проше пана», и тот, кого я задел, поднимал голову и смотрел на меня с видом ошеломленным и недоверчивым. Я улыбался и повторял: «проше пана», потому что знал, что моя вежливость была для них чем-то чудесным, что после двух с половиною лет тревоги и отталкивающего рабства это было для них впервые, что вражеский офицер (я не был немецким офицером, я был итальянский офицер, но недоставало еще, чтобы я был немецким офицером, нет, и того было совершенно достаточно) говорит вежливо «проше пана» бедному еврею из варшавского гетто.
Время от времени мне приходилось перешагивать через мертвеца; я шел среди толпы, не видя, куда ставлю свои ноги, и порой я спотыкался над трупом, вытянутым над тротуаром между ритуальными светильниками. Мертвецы лежали, брошенные под снегом, в ожидании, пока повозка «монатти» приедет за ними, но смертность была высокой, повозки немногочисленными, не хватало времени, чтобы увозить их всех, и трупы оставались здесь по несколько дней, вытянувшиеся под снегом между угасшими светильниками. Многие лежали в подъездах домов, в коридорах, на лестничных площадках, или на постелях в комнатах, окруженные бледными и молчаливыми лицами. Бороды их зачастую были покрыты снегом и грязью. Глаза некоторых были раскрыты и смотрели на проходившую мимо толпу, долго следя за ней своим белым взором. Они были несгибаемыми и твердыми; можно, было принять их за статуи из дерева. Мертвые евреи Шагала[228]. Бороды их казались синими на исхудавших лицах, бескровных от холода и смерти; синими синевой столь чистой, что она напоминала синеву известных морских водорослей; синевой столь таинственной, что она напоминала море — эту таинственную синеву моря в известные таинственные часы дня.
Молчание улиц запретного города, это ледяное молчание, сотрясаемое, словно дрожью, этим легким зубовным скрежетом, казалось мне до такой степени давящим, что иногда я начинал громко говорить сам с собой. Все оборачивались ко мне и смотрели на меня с глубоким удивлением, испуганными глазами. Тогда я присмотрелся к глазам этих людей. Почти все мужские лица заросли бородами; несколько побритых лиц, замеченных мною, были ужасны — так обнаженно виднелись на них голод и отчаяние. Лица юношей покрывал вьющийся пушок, рыжевший или черневший на восковой коже. Лица женщин и детей казались изготовленными из папье-маше. И на всех лицах лежали уже синеватые тени смерти. На этих лицах, цвета серой бумаги или белизны мела, глаза казались странными насекомыми, обшаривающими глубину орбит своими волосатыми лапками, чтобы высосать тот небольшой остаток света, который там еще сохранялся. При моем приближении эти отвратительные насекомые начинали тревожно двигаться и, на мгновение покинув свою добычу, показывались из глубины орбит, точно из логовищ, и испуганно за мной следили. Эти глаза обладали необычайной живостью; одни — воспаленные лихорадкой, другие — влажные и меланхолические. Некоторые из них сверкали зеленоватыми бликами, словно скарабеи[229]. Иные были красными, или черными, или белыми, иные — угасшими, непроницаемыми и как бы обесцвеченными тонкой вуалью катаракты. В глазах женщин была твердость отваги: они выдерживали мой взгляд с презрительной дерзостью, потом смотрели прямо в лицо черному охраннику меня сопровождавшему, и я замечал, как выражение страха и отвращения мгновенно омрачало их лица. Но глаза детей были ужасны, я не мог в них смотреть. Над этой черной толпой, одетой в долгополые черные кафтаны, с черными ермолками[230], прикрывавшими лбы, висело небо, словно состоявшее из напитанной влагой черной ваты.
На перекрестках стояли парами еврейские жандармы, со звездой Давида[231], нанесенной красными линиями на их желтых нарукавных повязках, неподвижные и безразличные, среди нескончаемого движения санок, влекомых тройками детей, маленьких детских колясок и тачек, нагруженных мебелью, тряпьем, металлическим ломом, всевозможными предметами жалкой торговли.
Группы людей собиралась время от времени на углах улиц, топчась подошвами на оледенелом снегу, хлопая друг друга по плечам ладонями, толкаясь вдесятером или вдвадцатиром, чтобы хоть немного согреться. Маленькие мрачные кафе на улице Налевской, на улице Прширинек, на улице Закроцимской были окружены молчаливо стоящими бородатыми старцами, которые прижимались один к другому то ли, чтобы согреться, то ли, чтобы придать друг другу смелости, как это делают в подобных случаях животные. Когда мы показались на пороге, те, кто находился возле дверей, испуганно отскочили назад. Послышалось несколько встревоженных вскриков, несколько стонов, потом снова наступила тишина, нарушаемая только звуком дыхания, эта тишина животных, безропотно ожидающих смерти. Все смотрели на сопровождавшего меня черного охранника. Никто не мог оторваться от этого лица Ангела, лица, которое все узнавали, которое все видели сотни раз, сверкающим среди олив близ врат Иерихона[232], Содома[233], Иерусалима[234]. Это лицо Ангела, возвещающего ярость Бога. И тогда я улыбался, я говорил «проше пана» тем, кого невольно задевал, входя; и я знал, что эти слова были чудесным даром. Я говорил, улыбаясь, «проше пана» и видел, как вокруг меня на этих лицах, словно из грязной бумаги, рождались жалкие ошеломленные улыбки удивления, радости, признательности. Я говорил «проше пана» и улыбался.
Отряды молодежи обходили улицы, подбирая мертвых. Они входили в подъезды, поднимались по лестницам, проникали в комнаты. Эти молодые «монатти» в большинстве своем были студентами. Многие из них прибыли из Берлина, Мюнхена и Вены, другие были депортированы из Бельгии, из Франции, из Голландии или из Румынии. Многие еще недавно были богатыми и счастливыми, обитали в отличных домах, выросли среди роскошной мебели, старинных картин, книг, музыкальных инструментов, драгоценного серебра и хрупких безделушек, теперь они, погибая, тащились по снегу, с ногами, опутанными лохмотьями, в изодранной в клочья одежде. Они говорили по-французски, по-цыгански, по-румынски или на нежном немецком Вены. Это были молодые интеллигенты, воспитанные в лучших университетах Европы. Они были оборваны, голодны; их пожирали паразиты; они были покрыты наболевшими следами ударов и оскорблений, страданий, вынесенных в концентрационных лагерях и во время их страшной одиссеи в Вене, Берлине, Мюнхене, Париже, Праге или Бухаресте, вплоть до варшавского гетто, но прекрасный свет озарял их лица; в их глазах светилась воля, юношеская воля к взаимопомощи, стремление облегчить остальным страшное несчастье их народа. И я говорил им, понизив голос, по-французски: «Придет день, вы будете свободны. Вы будете счастливы и свободны». Молодые «монатти» поднимали головы и рассматривали меня, улыбаясь. Потом они медленно поворачивали глаза к черному охраннику, сопровождавшему меня, как тень, и останавливали свой пристальный взгляд на Ангеле с прекрасным и жестоким лицом, Ангеле Священного писания, провозвестнике смерти, и склонялись над телами, распростертыми на тротуарах, сближая свою счастливую улыбку с синими лицами мертвецов.
Они поднимали этих мертвых осторожно, как если бы поднимали деревянные статуи. Они опускали их на повозки, которые везли команды изможденных и оборванных молодых людей, и на снегу, сохранившем отпечатки трупов, оставались также эти желтые пятна, пугающие и таинственные, которые оставляют мертвые повсюду, к чему бы они ни прикасались. Своры костлявых собак приходили, втягивая воздух, и сопровождали сзади траурные процессии и группы оборванных детей, с лицами, хранящими следы голода, бессонницы и страха, собирали в снегу тряпки, клочья бумаги, пустые горшки, кожуру картофеля, — все эти драгоценные обломки, которые несчастье, голод и смерть всегда оставляют на своем пути.
Я слышал порой, как изнутри домов доносилось слабое пение, монотонные жалобы, которые обрывались тотчас же, как только я показывался на пороге. Непередаваемый запах грязи, мокрой одежды, мертвых тел отравлял воздух мрачных комнат, где толпились и жили, сгрудившись, как пленники, старцы, женщины и дети; одни — сидя на полу, другие — стоя, прислонившись к стенам, некоторые — вытянувшись на кучах соломы и бумаги. Больные, умирающие, мертвые были вытянуты на постелях. Все сразу смолкали, глядя на меня и на Ангела, следовавшего за мной. Некоторые продолжали жевать в тишине свой жалкий кусок. Другие — это были молодые люди с лицами исхудалыми и белыми, глазами, увеличенными стеклами их очков — стояли группами у окон и читали. Таков был еще один способ обманывать унизительное ожидание смерти. Порой, при нашем появлении, кто-нибудь поднимался с пола, отделялся от стены или от группы своих сотоварищей, чтобы медленно двинуться нам навстречу, вполголоса говоря по-немецки: «Идемте!»
В гетто Ченстохова также несколькими днями ранее, когда я показался на пороге одного дома, молодой человек, сидевший на полу у окна, встал и приблизился, с таинственно счастливым выражением на лице. Проживший до этого дня в тревожном ожидании, он думал, что, наконец, пришло время, и встречал этот миг, еще недавно ужасавший, как миг освобождения. Все смотрели на него молча; ни одного слова не сорвалось с их губ, ни одной жалобы, ни одного крика, даже когда я слегка оттолкнул рукой молодого человека, улыбаясь, и сказал ему, что я пришел не за этим, что я не агент Гестапо, что я даже не немец. Я улыбался ему и в то же время слегка его отталкивал, но видел, как постепенно на его лице возникало выражение разочарования; на него возвращалась та тревога, которую мой приход заставил исчезнуть на несколько мгновений. Равно и в Кракове, когда я однажды побывал в гетто и поднялся на порог одного дома, тощий молодой человек, с влажным лицом, весь закутанный в шаль отталкивающе грязную, до того читавший в углу комнаты, поднялся при моем появлении. Так как я спросил его, что за книгу он читает, он показал мне обложку; это был томик писем Энгельса. Тем временем он заканчивал свои приготовления к уходу: зашнуровал свои ботинки, заправил в них изношенные тряпицы, служившие ему носками, и искал рукой воротник своей рубашки, истрепанной в лохмотья под лацканом своего пиджака. Он кашлял и прикрывал при этом рот своей жалкой рукой. Обернувшись, он сделал приветственный знак людям, находившимся в комнате, которые все пристально на него смотрели в полном молчании. Он был уже на пороге, когда внезапно сделал полный оборот, снял свою шаль и заботливо уложил ее на плечи старушки, сидевшей на убогом ложе; после этого он присоединился ко мне на площадке. Он не хотел верить, когда я сказал ему, улыбаясь, чтобы он возвратился обратно. Когда я вспоминал позже о том, что он, прежде чем выйти, освободился от своей шали, мне пришли на память два еврея, совершенно голых, которых я встретил в гетто однажды утром; они шли между двух эсэсовцев. Один из них был бородатый старик, другой — еще ребенок (ему могло быть самое большее шестнадцать лет). Когда я рассказал об этой встрече губернатору Кракова Вехтеру, тот мило ответил мне, что когда Гестапо приходит за ними, многие евреи раздеваются и оставляют свою одежду родным и друзьям, потому что эта одежда больше им не понадобится. Они шли, голые, под снегом, в это леденящее зимнее утро, терпя холод, режущий как бритвенное лезвие — было тридцать пять градусов ниже нуля.
Тогда я обернулся к Черному Ангелу и сказал ему: «Идемте!» Я следовал по тротуару, бок о бок с черным охранником, с его прекрасным лицом, взглядом светлым и жестоким, и лбом, сжатым стальной каской; мне казалось, что я иду рядом с Ангелом Израиля, и ежеминутно ожидал, что он остановится и скажет: «Мы пришли». Я думал об Иакове[235], о его борьбе с Ангелом[236]. Дул ледяной ветер, цвет которого напоминал цвет лица мертвого ребёнка. Уже опускался вечер; день умирал вдоль стен, подобный больной собаке.
В то время, как мы спускались по Налевской улице, чтобы покинуть запретный город, на углу одной улицы мы наткнулись на маленькое молчаливое сборище. Среди толпы, в молчании, дрались две молодые девушки, вырывая друг у друга волосы и царапая лица. При нашем внезапном приближении толпа рассеялась, и обе девицы оставили друг друга в покое. Одна из них подобрала что-то с земли (это была сырая картофелина) и ушла, вытирая обратной стороной руки кровь, испачкавшую ее лицо. Другая смотрела на нее, не двигаясь, приводя в порядок свои волосы и поправляя кое-как свою измятую и изорванную одежду. Это была бедная девушка, бледная и худенькая, впалогрудая, с глазами, полными голода, целомудрия и стыдливости. И… вдруг… она мне улыбнулась.
Я покраснел. У меня не было ничего, чтобы ей дать. Я хотел бы помочь ей, что-нибудь ей подарить, но в моем кармане было только немного мелочи, но от одной лишь мысли предложить ей деньги мне становилось стыдно. Я не знал, что делать, я оставался стоять перед ее улыбкой, не зная ни что мне делать, ни что сказать. Наконец, я сделал над собой усилие и протянул руку, чтобы дать ей несколько бумажек по десять злотых, но девушка побледнела, остановила мою руку, сказала мне, улыбаясь: «Дзенькую бардзо» (спасибо), и, медленно отталкивая мою руку, с улыбкой посмотрела мне в глаза, потом круто повернулась и ушла, поправляя свои волосы.
В это время я вспомнил, что у меня в кармане была сигара, прекрасная гаванская сигара, которую дал мне вице-губернатор Радома доктор Эген. Тогда я побежал за ней, догнал ее и дал ей сигару. Девушка посмотрела на меня, видимо колеблясь, покраснела и взяла сигару, но я понял, что она приняла ее лишь затем, чтобы доставить мне удовольствие. Она ничего не сказала, она даже не поблагодарила меня; она удалилась медленно, не оборачиваясь, со своей сигарой в руке. Время от времени она подносила эту сигару к лицу, чтобы понюхать ее, как будто я дал ей цветок.
— Вы уже осмотрели гетто, мейн либер Малапарте? — спросил меня Франк с иронической улыбкой.
— Да, — холодно ответил я.
— Очень интересно, нихьт вар!
— О, да, очень интересно, — ответил я.
— Я не люблю ходить в гетто, — сказала фрау Вехтер. — Это очень печально.
— Очень печально? Почему? — спросил губернатор Франк.
— Зо шмутзихь (так грязно), — сказала фрау Бригитта Франк.
— Йа, зо шмутзихь, — повторила фрау Фишер.
— Варшавское гетто, вероятно, — лучшее во всей Польше. Лучше всех организованное, — заметил Франк. — Настоящий образец. Для таких вещей у губернатора Фишера счастливая рука.
Губернатор Варшавы покраснел от удовольствия: — Жаль, — сказал он скромно, — что у меня не было немного больше места. Если бы иметь достаточно места, я, быть может, смог бы все устроить гораздо лучше.
— Ах, да, обидно! — посочувствовал я.
— Подумайте только, — продолжал Фишер, — что на том же самом пространстве, где триста тысяч людей жили перед войной, теперь более полутора миллиона евреев. Это не моя вина, если там немного тесно.
— Евреи любят жить в тесноте! — заявил Эмиль Гасснер, смеясь.
— С другой стороны, — сказал Франк, — мы не можем заставлять их жить иначе.
— Это бы противоречило правам человека, — заметил я, улыбаясь.
Франк смотрел на меня с ироническим выражением.
— И все же, — сказал он, — евреи жалуются. Они обвиняют нас в том, что мы не уважаем их свободную волю.
— Я надеюсь, вы не принимаете их протестов всерьез, — сказал я.
— Вы ошибаетесь, — ответил Франк, — мы делаем все для того, чтобы они не протестовали.
— Йа, натюрлихь, — сказал Фишер.
— Что же касается грязи, — продолжал Франк, — то это неопровержимо, что они живут в плачевных условиях. Немец никогда не согласился бы жить в таких. Даже в шутку. И он повторил, смеясь, довольно громко: «Даже в шутку!»
— Это была бы, — отметил я, — забавная шутка.
— Немец не был бы способен жить в таких условиях, — сказал Вехтер.
— Немецкий народ — цивилизованный народ, — заявил я.
— Йа, натюрлихь, — закивал Вехтер.
— Следует признать, что вина лежит не полностью на одних евреях, — сказал Франк. — Пространство, в котором они заключены, это, скорее, убежище для народонаселения столь многочисленного. Но евреи, в сущности, любят жить в грязи. Грязь — это их естественная приправа. Быть может оттого, что они все больны, а больные за неимением лучшего стремятся укрываться в грязи. Печально, но надо признать, что они мрут, как крысы.
— Мне кажется, они не придают большой цены этой чести — жить. Я хочу сказать чести жить, как крысы.
— Когда я говорю, что они мрут, как крысы, я ни в малой мере не собираюсь их критиковать, — сказал Франк. — Это простая констатация.
— Не надо забывать, что, принимая во внимание те условия, в которых они живут, очень трудно помешать евреям умирать, — произнес Эмиль Гасснер.
— Было предпринято очень многое, чтобы уменьшить смертность в гетто, — заметил барон Вользеггер осторожно. Но…
— В краковском гетто, — сказал Вехтер, — я распорядился, чтобы семья умершего оплачивала расходы по его погребению. И я достиг хороших результатов.
— Я уверен, — сказал я с иронией, — что смертность стала день ото дня уменьшаться.
— Вы угадали: она уменьшилась! — ответил Вехтер, смеясь.
Все принялись смеяться, глядя на меня.
— С ними следовало бы обращаться, как с крысами, — сказал я, — отравлять их, как крыс. Это было бы более быстро.
— Нет нужды их отравлять, — сказал Фишер, — они сами по себе мрут с невероятной скоростью. За последний месяц в одном только варшавское гетто умерло сорок две тысячи.
— Это удовлетворительный процент, — заметил я; если они будут продолжать, через два года гетто станет пустым.
— Когда дело идет о евреях, никогда нельзя верно рассчитать, — сказал Франк, — на практике все предсказания наших экспертов оказались ошибочными. Чем больше их умирает, тем больше их оказывается.
— Евреи упрямо производят на свет детей, — ответил я. — В этом виноваты исключительно дети.
— Ах, ди Киндер[237], — уронила фрау Бригитта Франк.
— Йа, зо шмутцигь, — сказала фрау Фишер.
— А, так вы обратили внимание на детей в гетто? — спросил меня Франк. — Они ужасны, нихьт вар? Зо шмутзиг! И все они больны, покрыты струпьями, их пожирают паразиты. Если бы они не возбуждали жалость, то вызывали бы отвращение. Можно подумать, что это скелеты. Детская смертность очень заметно поднялась во всех гетто. Какова детская смертность в варшавском гетто? — спросил он, оборачиваясь к губернатору Фишеру.
— Пятьдесят четыре из ста, — ответил Фишер.
— Евреи принадлежат к больной расе, полностью дегенерирующей, — заявил Франк. Они не умеют воспитывать и ухаживать за детьми, как это делают в Германии.
— Германия, — сказал я, — страна высокой Kultur!
— Йа, натюрлихь, что касается детской гигиены, то Германия на первом месте в мире, — ответил Франк. — Заметили вы, какая огромная разница существует между маленькими немецкими детьми и маленькими еврейскими детьми?
— Маленькие дети в гетто — это не дети, — ответил я.
(Маленькие еврейские дети больше не дети, — так думал я, пробегая по гетто Варшавы, Кракова, Ченстохова. Немецкие дети — чистые дети. Еврейские дети — шмутцигь. Немецкие дети хорошо накормлены, хорошо обуты, хорошо одеты. Еврейские дети голодны, полураздеты и ходят разутые по снегу. У немецких детей есть зубы. У еврейских детей нет зубов. Немецкие дети живут в чистых домах, в натопленных комнатах; они спят в маленьких белых кроватках. Еврейские дети живут в домах отвратительных, в холодных комнатах, полных людьми и спят на кучах бумаги и тряпья, рядом с постелями, на которых лежат мертвецы или агонизирующие. Немецкие дети играют: у них есть куклы, резиновые мячики, деревянные лошадки, свинцовые солдатики, духовые ружья, ящики «Меккано», волчки, — все, что нужно ребенку для игр. Еврейские дети не играют: у них нет ничего для игр, у них нет игрушек. И, кроме того, они не умеют играть! Нет, дети гетто не умеют играть. Это, действительно, вырождающиеся дети. Как отвратительно! Их единственное развлечение — следовать за погребальными повозками, нагруженными трупами (они не умеют даже плакать) или идти смотреть, как расстреливают их родителей и их братьев у крепостной стены. Это их единственное развлечение — смотреть, как расстреливают их матерей. Действительно, настоящее развлечение для еврейских детей!)
— Это на самом деле нелегкая задача для наших технических служб — заботиться о всех этих мертвецах, — сказал Франк. — Надо бы иметь, по меньшей мере, две сотни автомобилей, тогда как мы располагаем всего несколькими десятками ручных тележек. Мы не знаем уже, где их хоронить далее. Это серьезная проблема.
— Я надеюсь, вы их зарываете, — сказал я.
— Конечно! Не думаете ли вы, что мы их скармливаем их родителям? — засмеялся Франк.
Все кругом смеялись: «Ах, зо, ах зо, ах, зо, йа, йа, йа, ах, зо, вундербар!» Разумеется, я тоже начал смеяться. Это была такая забавная мысль, моя мысль, что можно было бы их и не зарывать! Слезы выступили у меня на глазах (от смеха) при мысли об этой смешной идее, пришедшей в голову. Фрау Бригитта Франк сжимала грудь обеими руками и, запрокинув голову, широко открыла рот: «Ах, зо, ах, зо вундербар!»
— Йа, зо амюзант! — сказала фрау Фишер.
Обед приближался к концу. Наступило время ритуальной церемонии, которую немецкие охотники называют «почесть ножу». «Кортеж Орфея», как выражался Франк, цитируя Аполлинера, завершался молодым оленем из лесов Радзивилова, которого два лакея, в синей ливрее, внесли на заостренной жерди, соответственно традициям древней псовой охоты в Польше. Появление оленя на вертеле, с водруженным в его боку красным гитлеровским флагом с черной свастикой, на мгновение отвлекло сотрапезников от темы гетто и евреев. Стоя в торжественных позах, все сотрапезники приветствовали фрау Фишер, которая, с лицом, раскрасневшимся от волнения, улыбаясь и скромно кланяясь, предложила «почесть ножа» фрау Бригитте Франк. Грациозно наклонившись, чтобы получить из рук фрау Фишер охотничий нож, с ручкой из оленьего рога, широкое лезвие которого было заключено в серебряных ножнах, фрау Бригитта Франк повернула голову направо и налево, посвящая жертву своим гостям и приглашенным, и приступила к церемонии, вынув из ножен нож и погрузив лезвие в олений бок.
Медленно, с привычной ловкостью и терпением, с изяществом, вызывавшим у сотрапезников восклицания удивления и аплодисменты, фрау Бригитта Франк отрезала филей и грудинку оленя ломтями, толстыми и широкими, нежного розоватого мяса, прожаренного до самых глубин на большом огне. Эти ломти она сама при помощи Кейта, предлагала сотрапезникам после выбора продуманного и каждый раз отмечаемого движением головы, взглядом, гримаской или другими грациозными знаками, выражавшими колебание и нерешительность. Первым обслужили меня, в силу моих достоинств, или, скорее, как выразился Франк, моей «добродетели» иностранца. Вторым, к моему глубокому изумлению, был Франк, собственной персоной, и последним, к моему изумлению еще большему, был не Фишер, но Эмиль Гасснер. Конец церемонии был отмечен всеобщими аплодисментами. Бригитта Франк ответила на них поклоном, которому я, с приятным удивлением, не мог отказать в грациозности. Нож остался погруженным в бок оленя рядом с маленьким красным флагом с черной свастикой; вид этих ножа и флажка, воткнутых в спину благородного животного, вызвал во мне приступ легкого недомогания, смешанного с отвращением от реплик сотрапезников, возвратившихся к вопросу о евреях и гетто.
Поливая с ложки свой кусок оленя золотистым соком, губернатор Франк рассказывал о том, как хоронят евреев в гетто: «Слой трупов, затем слой извести, — говорил он, — слой трупов, затем слой извести, — как если бы он говорил: „Ломоть жаркого, затем немного соку, ломоть жаркого, затем немного соку“».
— Это способ наиболее гигиеничный, — заметил Вехтер.
— Что касается гигиены, — сказал Эмиль Гасснер, — то живые евреи более заразны, чем мертвые.
— Ихь гляубе ес![238]— воскликнул Фишер.
— О мертвых я не задумываюсь, — сказал Франк; мне приходится тревожиться о детях. К несчастью, мы не в состоянии сделать много, чтобы уменьшить детскую смертность в гетто, но я, тем не менее, хотел бы предпринять что-нибудь, чтобы облегчить страдания этих маленьких несчастных. Я хотел бы воспитать их, прививая им любовь к жизни; я хотел бы научить их ходить, улыбаясь, по улицам гетто.
— Улыбаясь? — спросил я. — Вы хотите научить их улыбаться, ходить, улыбаясь, в гетто? Еврейские дети никогда не научатся улыбаться, даже если вы станете дрессировать их ударами кнута. Они не научатся даже ходить, никогда. Разве вы не знаете, что еврейские дети не ходят? У еврейских детей есть крылья.
— Крылья? — воскликнул Франк.
Глубокое ошеломление отразилось на лицах присутствующих. Все смотрели на меня, молча, затаив дыхание.
— Крылья? — вскричал Франк. Неудержимый смех растягивал его рот. Он поднял обе руки и стал двигать ими над своей головой, как крыльями. — «Чип! чип!» — щебетал он голосом, полузадушенным от смеха. И все сотрапезники тоже подняли руки и стали вращать ими над своими головами, восклицая: «Ах, зо! Ах, зо! Чип! Чип! Чип!»