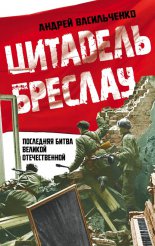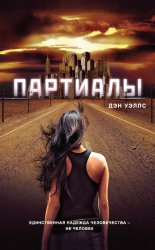Чужая кровь. Бурный финал вялотекущей национальной войны Латынин Леонид

Справа мутнел бывший Мавзолей, построенный Щусевым в прошлом веке, в года великого перелома и великого рукотворного голода – единственного рукотворного в истории человеков в год 1929–1930-й. Еще буквы можно было прочитать на камне, в котором, слава богу, уже не было выставленного на прощанье тела. За несколько десятков лет все, кто хотел, попрощались с покойным, и прах его, согласно Божьему закону, был предан земле. Царь Мавзол избавился от соперника в молве. Воля покойного была исполнена. Верные и преданные ученики его, вынося прах, плакали, осеняемые долгом, справедливостью и своим высоким назначением.
Рядом с Лобным местом, справа, была высокая куча камней, заваленная цветами и венками, камни проросли мхом, были стары, но цветы были свежими и красными и белыми, как вышитые обрядовые рубахи новгородцев, которые Емеля видел во время крещения. Тягачи и бульдозеры исчезли. Площадь была пуста.
В небе чуть светили облака, в деревьях перед ГУМом пели птицы. Памятник Минину и Пожарскому стоял на прежнем месте. Хотя сам Пожарский, сделавший для России достаточно, на Пожар не лез, а покоился в городе Суздале в Спасо-Евфимиевском монастыре, на берегу реки Каменки. А в ризнице монастыря между множеством драгоценностей из камня и металла хранились большие: Евангелие с собственноручной надписью Дмитрия Михайловича и плащаница, шитая супругою его.
На иждивении Пожарского находилась и Борковская пустынь в Вязниковском уезде Владимирской губернии, с соборною церковью Николая Чудотворца, в тихом месте.
Господи, как было тихо и здесь, на Пожаре, как тогда в лесу, когда Емеля ночью бродил, еще не понимая, что томит его, и было ему шестнадцать лет, и на месте этой площади росли сосны, и на месте Лобного стоял огромный Дуб, около которого Лету обнимали Медведь и Волос.
Рядом с Дубом был огромный жертвенник, раз в году в Велесов день 20 червеня, или июля, иначе, поливали его обильно человеческой избранной кровью, а если в неурочный час, то, значит, враг близко или мор на землю пришел. В те же дни и царя Николая со семейством под пулю поставили. Чем больше становилась империя, тем крови больше текло и все равномернее на все дни года. Не высыхала кровь на камне Лобного ни при Иване Грозном, ни при Петре Великом, сами не раз топором баловались, но, конечно, больше всего сердечной пролилось на красный камень от топора царя Иосифа Кровавого – тому рекорду счету нет, и никто к нему близко не подошел. Если такую реку, как Москва, налить до краев кровью, пролитой Иосифом и его духовными братьями, то она как раз земной шар перекрестит с севера на юг и с запада на восток.
Но случались здесь, на Лобном, и чудеса.
В 1570 год купец Харитон Белоулин, когда тот же Иван сам ему голову топором снял, встал и повалить его не могли, и кровь, правя ритуал, смыть не могли, и кровь Харитона, люди видели, светилась. Тогда еще Иван в страхе в палаты бежал, а остальных невиновных, которых казнить не успел, отпустить велел.
Иосиф Кровавый, этой историей напуганный, казнил по ночам, да не сам, да трупы потом по всем московским темным углам закапывали, но где ни закопают – все равно 20 червеня, или июля, иначе, Красная площадь ровно в полночь, если лечь на брусчатку и ухо приложить, мелко-мелко дрожит, как будто по ней кони цокают и гробы мимо Мавзолея везут. А ложиться и слушать лучше как раз посреди двух поляков. Одного Лжедмитрием звали, и он вот здесь на столе, 1606 год 17 травня, или мая, иначе, лежал с маской на лице, дудкой да волынкой скоморошьей. А другой – напротив, Железный Феликс, который, держась с Кровавым Иосифом за одно топорище, крови пролил столько, что она всю польскую кровь, пущенную в землю русскими штыками, пулями, саблями да топорами, перевесила…
Лето дышало. Ночь ходила рядом. Процентщики задремали. Ждана положила голову на колени Емели и заснула. Скоро погрузился в забытье и Емеля, так же, как то случилось в час, когда была сожжена его мать – Лета во имя спасения московских жителей.
Часть пятая
Крещение
Главы о пути из Москвы в Новый Город, который прошли Емеля и его второй отец Волос, в направлении перемены имени, веры и образа мысли
Москва, год 989-й…
Прошло две недели со смерти Леты. И вместо деревни Волосовой только ряд домовин вдоль дороги вырос. Дома были пусты, на том же костре, что Лету сожгли и всех умерших скоро. Прах – в домовину, вроде скворечника, на кол, да вдоль дороги, где сейчас исторический, и меж тех вот домовин ведет Волос Емелю да Горда. Какая уж там ошибка у ключницы вышла, а Горд за ними идет, слабый такой, бледный весь, а идет, отстать не хочет.
А ничего с собой и не взяли. Еды немного, хлеба краюху, да воды в коже, вдруг в дороге не скоро будет, да медвежью шубу Волосову, да еще громотушки его медные, да еще нож каменный, жертвенный, да еще ложку за поясом каждый несет. А на ноже на конце медведь вырезан, на груди по медвежьему клыку, а на ложке тоже голова медвежья.
Лес вдоль Москвы-реки то березовый, то ели больше. Сначала к дубу, на будущее Лобное место. Волос белый холст достал, на 298 полос, сколько в деревне народу было, холст разодрал. Емеля по ветвям залез, повыше полосы завязал. Смотрит на него снизу Волос, а лицо иное вроде, и не узнать, но пока разглядывал да гадал, Емеля уже и летит. Давно уж решил Волос, куда идти: в Новгород, там Добрыня, брат жены, живет, на Велесовой улице. Дом у него большой, и власти много – и то, Владимиру дядей приходится. Наш-то гордый, лучше быть первым в деревне, чем вторым после брата жены да Богомила в Новгороде, а теперь и гордость вся вышла, померли все, и первым-то не среди кого быть.
Вышли рано по той же дороге, что Емелю процентщики вели, только наоборот. Холодно, но если побыстрее идти, согреешься. Вроде выходили – хмуро, а смотрит Волос, отошла погода, солнышко, трава, птицы. Шли-то шли, а к обеду сморило, не так есть хочется, как спать. Заснули. Что Горд, что Емеля, спят без задних ног и сновидений.
Волос, глядь, у Трояна сидит. Сколько слышал, что Троян такой был, что, мол, века его рода были, и все не кончаются. Что он по Руси города заложил. И Киев его, и Новгород его, и город Хорса – Херсонес его, и Смоленск его, а что не сам, то сыны построили, ладно жили, не то что нынче. Века Трояни – это, мол, когда лад меж братьев, а теперь – что ни день, то один убит, то другой. Вон Владимир Ярополка как курицу зарезал, а ведь брат тоже, хотя какой брат, когда от ключницы Владимир, робичич, холоп, такого при Трояне и быть не было, а все потому, что волхвов слушались да боялись; что волхвы скажут, то и будет. Что гадатели нагадают, то и делают. Что бояны набают, то и говорят. Что хранительники да потворники посоветуют, то и выполнят. Что ведуны да чародеи предскажут, то и случается. Что кощунники да кобники укажут, то и исполнится, да и баб больше слушались, и потворниц, и чаровниц, и обаяниц, и наузниц, а уж без чародеек, как Лета, и ни одно дело не начинали. Сто волхвов при Трояне было, да у каждого сына Трояна по десять. И у каждого храм свой и дом свой. И скот свой, и поле свое. И на каждого не один работал – золотые были века. А теперь едва десяток при князе волхвов, да и тех не наберешь, да еще и не каждого князь слушается. Только и остается им хоронить, да рождение справлять, да молодых обручать, в один обруч сажать, да вокруг куста ракитового водить, да вот еще в засуху нужны, да когда косить, чтобы вёдро было…
Ну да ладно. Сидит Троян напротив него, Волоса, кашу ест. Блюдо золотое, скатерть золотом вышита. Ложка серебряна, каша масляна, полотенце рядом расшитое берегинями да деревами, да птицами с бабьими головами. Стул из дуба черный весь, на нем тоже птицы, да вилы, да упыри, да цветы разные. Век такого стула Волос не видел, а у Добрыни в дому бывал, нет там таких стульев и в помине.
И говорит Троян Волосу, а сам губы полотенцем утирает – каша масляна:
– Что, думаешь, у меня и впрямь все ладно? И жрецы, говоришь, хорошо живут? Дурак ты, Волос, ты заметь, у меня волхвов-то сто, да как дождя нет, когда надо, я волхва-то, дождя не вызвавшего, сожгу, а другого возьму. А если у меня облакогонитель в жатву дождя не отведет, я его в жертву – не справился, слаб. Поход плох. Кто посоветовал? Кто волховал, кто чародействовал, того в воде утоплю и другого возьму. Во всем волхвы всегда виноваты, раз они такие могущие. А с другой стороны, не можешь – значит, слаб. Вот когда они поумнеют и догадаются, как я, ни за что не отвечать – ни за битву, ни за дождь, ни за вёдро, ни за тепло, ни за мороз, ни за смерть, ни за мор, вот тогда, дураки, и жить станут спокойней. А как – подумай!
Но подумать Волос не успел. Что-то острое в кадык уперлось, больно стало, глаза открыл, нож у горла.
И Горда с Емелей двое к дереву прижали, да еще четверо поодаль стоят, громотушки и шкуру держат.
– Золото где? – спрашивает тот, кто ему нож в горло упер, а сам дрожит, понял, что волхва тронул.
Емеля плачет.
– Па-ааа, я им сказал, нет у нас золота.
А у Волоса как бы глаза внутрь ушли, руки затряслись. Тот, что нож держал, бросил его, попятился, хотел что-то сказать, а из-за сосны медведь вышел, к тому, что Емелю держал, подошел, сгреб его и с размаху о дерево швырнул – из того и дух вон. А медведь уже с ревом к другому повернулся, что Горда держал, и тоже о дерево.
Пятеро – бух на колени. Ножи в землю, голову закрыли. Волос поднялся, а медведя уже нет.
– Будем тебе служить, батюшка, помилуй нас, прости, что не признали сразу.
Емеля слезы вытер, больше разбойников медведя сам испугался. Дышит испуганно и озирается. А тот, который его держал, у дерева лежит – рот открыт, и из него струйка крови бежит, а от нее пар, хотя и тепло, и шарик такой желтый вылетел.
– Ладно, ребята, – сказал Волос, – живите себе.
Собрали Волос, да Горд, да Емеля хозяйство свое, да и пошли своей дорогой. А те пятеро небось отсюда деру дадут. Страшное место, заколдованное. Посмотрел в лес, не померещился ли медведь-то? Да нет, те двое уже и не дышат. Вспомнил про сон, досмотреть хочется, да некогда. Чего-то Троян о мудрости говорил. Потом вспомню, авось и досмотрю. А память опять к тому дню, когда Лету сжигал, как лодка волной к берегу, как лист дождем к земле; когда снопами завалил, даже сноп, что «Волосу на бородку» завязывали, в храме стоял, – в костер положил.
Не помогло. Не крикнула Лета, за нее пришлось отвечать, когда сам спросил: «Кого вижу?» А кого он видел? Да никого, душа болела, что уходит Лета, смотреть было больно на тех, кто с ней ночью был, одно хорошо, кроме вот Горда, и ревновать не к кому. Все уже там, а что там? Вот бы узнать раньше времени. Может, что-то и придумать можно – волхв все же.
Главы о крещении Медведко огнем и мечом в Новом городе, обретении им новой веры и получении христианского имени – Емели
Новгород, год 988-й…
Ну, попали из огня да в полымя, там мор, а тут пожарче будет. Волос с Емелей да Гордом в Новгород последними вошли, а как вошли, так новгородцы середину моста разобрали, ворота закрыли, слух дошел, что едет Добрыня с Путятой, такой же, как в Киеве, срам народу делать, – крестить их всех в Волхове-реке. Верховный жрец Богомил, что Лету и Волоса венчал, по Новгороду мечется, народ собирает, обещает, что проклянет каждого, кто за Добрыней в воду пойдет. Беловолосый, высокий, рубаха по ветру горит, посох золотом отливает, как перунов ус. А народу как не понять Богомила! Тыщу лет своим щуровым богам верили, а теперь чужого наверх бери. Киев – тот всегда у князей в смердах ходил, а Новгород – город вольный. Тех, как овец, в воду загнали – язычники – другого языка, значит, ладаном покадили, иноязычные слова прогалдели, крест в воду опустили и, конечно, Велеса к лошадиному хвосту, чтобы рук не марать, привязали да в Днепр кинули. И отцовского, дедовского, пращурова Велеса в Волхов сплавить?.. Тысяцкий Угоняй совсем в крике зашелся, пена по губам: «Отцы верили, щуры верили!..» – действует. Это все понятно, а потом опять же от недобровольности природный Новгород тошнит. Все вокруг беснуются, галдят, бабы ревут, детишки веселы, праздник, по деревьям, как грачи, сидят, вниз на площадь смотрят.
Волос быстро все понял и, чтобы под ноги кому ребят не подставить, отправился в Добрынин дом, где с Летой не раз бывал. Нашел дом быстро, хотя пройти было непросто, вошли в сени, вроде тихо, прохладно, бревна в три обхвата. За ними – как в могиле. Что там на улице, хоть гром греми, не слышно.
Век такому дому стоять, как новый будет. Внутри топорами стены тесаны, прямые да ровные, в комнате, куда их жена Добрынина привела, в красном углу около красных окон раньше Велес был да полотенца с берегиней вышиты, а теперь Никола-угодник да те же полотенца, а перед ними лампада, уж год как горит, не гаснет. Рядом туесок с лампадным маслом, не каждому по карману, но не Добрыне же. Прилег Волос с дороги, по лавкам Горд и Емеля разобрались. Чувствует Волос, что под спиной что-то лежать мешает, поднял матрас, а там глиняный Велес на коне, что раньше в комнате стоял. Боится Добрынина жена, на всякий случай один бог в углу, другой – рядом, из комнаты не выгнала.
Все трое вроде и есть не хотят, с дороги сходили в баню, камни красные, пар такой, что кости прожигает. Первым Волос выскочил, бултых в пруд, за ним Горд, а Емеля задумался, пока не сморило. Вынесли его наружу, водой отлили, и вскоре все трое, хлебнув травяной воды, уснули. Но спать пришлось недолго.
В ворота колотить стали, ограда уже огнем полыхает.
Вскочили все трое – на двор да через дальний угол на улицу, обошли ограду, к воротам подошли, а туда уже мужики жену Добрынину волокут, да сына Добрынина малолетнего, да трех дочерей Добрыниных, да бабку старую, да ключницу их, подняли колья, и через десять минут те и шевелиться перестали, дом горит, все видно; перины по ветру, лебединый пух огнем кружит, а уж там и к церкви Преображенья бегом, по бревнышку ее раскатали, жечь боятся.
Дальше другой шум встал.
Путята – тысяцкий Добрынин – с пятью сотнями через Волхов все же переправился, крушит всех направо и налево. А там, как посветлело, выбрались на софийскую сторону. И Добрыня к нему с дружиной – шасть. Но перебить народ пожалел, крестить некого будет. Дружинников по улицам с факелами толкнул, те дома подожгли, а город деревянный, и получаса не прошло, как заполыхал, новгородцы по домам бросились жен спасать да детей своих из огня вынимать. Тут и бунту конец. Все вместе, когда общий враг, а когда свое горит, тут все в одиночку живут.
Как совсем рассвело, где головешки дымили, бабы на перинах сидели, у кого перины из пуха, а у кого из соломы. Полно домов в живых осталось, отстояли, да и погода не ветреная, не пожарная, да и белых голубей пошвыряли немало, помогло. Богомил опять же подсобил, Перуну сына своего бросил, да дочери Угоняя жертвенным ножом сердце отворил.
Согнал Добрыня, чтобы дело не откладывать в долгий ящик, народишко всех сортов.
Дружинники еще от огня черные, как черти, да и народ пообдымился, подзакоптился порядком. Но собрались, молчат. А что делать? Не шелохнешься, вон их сколько, да все на конях, да у каждого меч, да и копье, вполне вперед себя достать может.
Но еще внутри бунтуют. Глаза исподлобья, мимо Добрыни смотрят. Косят. Воробья-посадника, что уже вперед всех веру поменял на торговой площади, слушают глухо.
Но у Добрыни опыт большой, по крещенью он не первый год спец, знает – не посрами сейчас любого волхва, все кроваво пойдет, больше убитых будет, чем крещеных. А кого лучше, как не Богомила, верховного жреца? На минуту запнулся, в толпе Волоса увидел, жену вспомнил, детушек своих. Но работа сейчас важнее. Опыт опять же, правота. Право, он-то лучше их знает, что народу хорошо, что плохо, и не пустые это мысли, действительно знает, но, пока так думает, с коня сошел, к Богомилу идет, под полой топор серебряный, Богомилом заговоренный, на поясе меч, Волосом заговоренное копье в седле оставил.
Напрягся Богомил, как будто гадина подползает, вот сейчас ногу поднять и раздавить или голову свернуть, а попробуй сверни, раздави – за Добрыней вся сила вольная да подневольная и проворная, на коне сидит, копьем подпирается, кого скажут – убьет, кого скажут – помилует.
Почувствовал Богомиловы мысли Добрыня, улыбнулся так широко.
– Вот ты говоришь, отцы и деды верили. Но ведь все меняется в мире, летом листья на дереве, пришла осень – листья падают, чтобы дать место другим. Это закон. Уходят отцы, и приходим мы. Здесь вот до Велеса Род сидел, до Рода Берегиня была, как деды говорили. Менялось время, и меняли богов.
– Это были наши боги, – сказал Богомил, – а ты чужого привел, мы своих добром ставили, а ты мечом и огнем поставить хочешь.
– Ой ли, – улыбнулся Добрыня, – так уж и наши, а Симаргл?
– Его твой Владимир поставил, – скривился Богомил, – и посмотри: около него – ни одной жертвы, а потом он – пятая спица в колесе, а твой – не первый, не второй, а единственный.
– Ну а Богородица, а Предтеча, а Христос?..
– Все чужие, как и ты стал чужим, когда Новгород за власть продал. Народ шумит, не туда блеет, куда Добрыня с мечом на поясе да топором за пазухой повернуть хочет…
– Ладно, – говорит Добрыня, – это боги всемогущие, мы их помыслы не знаем, мы страхом божьим живы, – надо стадо баранов поближе к пропасти подтолкнуть, вроде кнутом хлопнуть, вроде как луг вдали показать. Вон, мол, дураки, где счастье пасется. – А твои боги тебе служат, говорят: «Боги подчиняются заклинаниям, заклинания – волхвам – значит, волхвы – наши боги». Сотвори заклинание, заставь своих богов узнать, что ждет тебя сегодня, не ахти какая сложность при твоих возможностях вертеть своими богами.
– Чудо совершу сегодня, говорят мне боги, – помолчав, сказал Богомил, пока молчал, лицо было бело, глаза внутрь закатились, белки наружу, ослеп, в губах – ни кровинки, на лице – смертная маска, и руку поднял.
– И больше ничего тебе боги не сказали?
Сам бы Добрыня и испугался этого лица, но в том-то и дело, что он не сам, а холоп князя, рука истории, право справедливости, кулак добра, божий топор, и вот сам испугался, внутри все как бы остекленело и заледенело, а топор в кулак – и хрясь им по голове. Серебряный топор, красная кровь, белое лицо, седые волосы, алый плащ, солнце кровавое, над Волховом туман. Велесов день.
Богомил начал опускаться медленно, как во сне кони скачут или волна на скалу, и трах медленно – брызги крупными, еле летящими белыми пенными лохмами обратно в море…
Посрамлен Богомил. И потому, что его боги слабее оказались перед новым, и потому, что мертвый лежит. Волхва может убить только тот, кто сильней. Даже у Волоса сомненье в голове зашевелилось, как проснувшийся лопоухий щенок; не то, что волхованье Христа слабей, а то, что Богомил слаб и не по праву место свое занимал…
И у других – в голове галочья орда сорвалась, закаркала, крыльями засвистела; волхв будущего своего не знал! Как тут на Добрыню с уважением не смотреть, когда он сам волхва Богомила сильней! Даже ребенку ясно – за него боги, новые ли, старые, но за него, если старые за него, то надо делать, что он велит, а если новые сильней, то тоже надо делать, что Добрыня скажет, и почти молча, не снимая рубах, погоняемые, покалываемые копьями, людишки новгородские всех сортов затрусили к Волхов-реке, куда уже Велеса крючьями железными сволокли, а Мокошь, да Хорса, да Даждьбога, да Стрибога с их женами и детьми огнем да мечом крестили, так что и пепла не осталось.
А и Добрыня свои способности похваляет, не зря целый год, начиная с Киева, людишек крестить устал. Не в пример Киеву разделил народ на оба пола – мужи выше моста в воду, как овцы в пропасть, посыпались, а жены – ниже моста. Но уже все так строго не вышло; у баб на руках дети малые, обоего пола, берег склизкий, грязный, у берега илу до колена, плач стоит, крик великий, кто по грудь в воде, кто по пояс, кто с головой, тонуть начали, а народ все сыплется. Емеля Горда потерял, а Волос Емелю не потерял, может, Добрыня и подсобил бы им как, если бы увидел, но куда там. Емеля грязь на руках моет, вода мутная, ноги из ила вытаскивает. Волос рядом его за плечо держит, а народ прибывает, и столько его, что вода из берегов выходить стала, тут и язычники, попы – иного языка, значит, – на них ризы золотом горят, что-то меж собой несогласное галдят.
Крест в воду опускают. А там, где поотложе берег, уже и выпускать начали, крестом плечо тронув. Стоит человек, с рубахи вода течет, волосы мокрые, на лице водоросли зеленые. А на шею ему крест надевают, и свободен, иди к своему дому, к детям своим, а дома нет, да у кого и детей тоже. И что-то вроде очереди – с одной стороны баб с детишками, а с другой – мужиков в рубахах мокрых, где-то сливаются в одну цепь, и потом звенья распадаются, и все разбредаются по своим головешкам. Птицы поют, солнышко ласково светит. Солнце на ризах как самовар вспыхивает, как молния божья, что в самолет стрельнет, и на куски он прямо в воздухе развалится, как в 1989-е год летом в Бурже МиГ двадцать девятый и как в селе Яковлевском, опять же в лето 1989-е, колокольня храма Николы Чудотворца на куски, как самолет, разваливается, и две точки в одном небе сливаются в одну, а потом распадаются уже навсегда.
Конечно, не без сопротивления все течет, ну да после Богомилова позорища это так, пустяки. Вот Волос руки выбросил, по губам пена.
– «Чур меня», – свистит.
То ли дружинник испугался, то ли испытать себя хотел, в воду въехал, конь на Емелину ногу наступил, хорошо, ил под ногой. Поднял меч дружинник и несильно так опустил на голову Волоса, но до шеи достал, развалил голову, плавает кровавое грязное пятно вокруг Емели. В ней Емелю и крестят. Волос окунулся с головой. Емеля отца за руку схватил, на берег потащил. В воде легко было, а как на берег вытащить – тяжело, помогли, кто рядом стоял, вытащили, и не заметил Емеля, как ему архиепископ плечо крестом тронул, как крест надел, сомлел…
А место приметно – поодаль, около вяза, чуть на холм, тут в 1570 год как раз 13 сеченя, или февраля, иначе, царь Иван тот же Грозный архиепископа Пимена в скоморошью одежду обрядил, кобылу подвел, как говорит, скомороху без жены, и на нее Пимена верхом устроил. Пимен влез, ему в руки гусли дали, да так на гуслях до самой Москвы Пимен играл – охрану тешил, неплохо у него это выходило. А вот сюда, прямо в прорубь, под лед Волхова, псы Ивановы, опричники долбаные, людей новгородских опускали, а кого тут же горючей смесью обливали и поджигали, чтобы теплее им на морозе стало. И опричники загадывали – чей огонь выше.
Мимо сани с привязанными к ним волоком старыми да малыми человеками по снегу летели, вихрь снежный по ветру крутя, ни детей, ни жен заботой не обходили. Тут и сынок Ивана – Иван рядом, тут и Малюта Скуратов, а для кого и Григорий Лукьянович Бельский, он здесь монахов на правеж ставил. Которые не хотели отдавать золото да камни дорогие монастырские. А правеж дело простое, два часа каждый день по пяткам били. Одни скоро помирали, другие по году держались, но все золото с камнями Малюта в Москву не увез. На ту же землю бедную, на то же место, где Емеля лежит, льется кровь человеков, пласт за пластом, сколько пластов, столько царей грозных, великих да кровавых, они и счет им определяют…
А у Емели дремота не проходит, и все тяжелее крест на грудь давит… Дышать тяжело, как будто в другой раз тот же путь живет…
Главы о крещении Емели по второму преданию в Суздале – главном городе суздальской земли, где Москва – окраина, и которое, как и новогородское, так же заканчивается гибелью его второго отца Волоса во время проверки князем силы прежних богов с помощью ваг, лопаты и новой христианской веры
Суздаль, год 989-й…
Люди рот открывают, а крика не слышно, все идут, а стоят, косы у девок распущены, как бывало, когда всей деревней половцы, хазары или печенеги в плен гнали, да и то, пожалуй, иначе было, печенеги так не бесновались да не били, и половцы, пожалуй, поспокойней.
Смотрит Волос, а все понять не может, слыхал он о христианах, как не слыхать, вроде бы все у них по-доброму да по-милосердному, живут, жалеют друг друга, а тут как в плен целый народ гонят. Да еще свои же. А вообще какие свои, когда варягов полно, только и знают мечами махать, ни бельмеса по нашему-то не понимают. Одна девка отстала, дружинник ее волосы длинные белые на руку намотал, над землей приподнял, девка орет, а он смеется.
Крещение на Суздале есть дело веселое…
Молится Волос, ворожит: «Защити народ мой, спаси народ мой от смуты этой, от погибели этой, от беды этой». А купец Добр, крещенный в Царьграде, ему вторит: «Так их, темных, так их, диких, спасенья своего не понимают, вон того подгони, – кричит, – мечом его, так его, ах, дикари, – говорит Добр, – вот сейчас окрестят, и благодать сойдет на них».
А уж первые ряды в Каменку сыплются, как утки да селезни, когда их со склизлого берега сгонят, барахтаются, малым детям глубоко, кто рядом стоит, их поддерживает, Емелю под мышки Горд поднял, он все выше его – Горду по грудь, Емеле – с головой. Но успел хлебнуть Емеля водицы суздальской, кашляет, плюется, а бабы запели, и стало голоса слышно – и мужики им помогают, поют бабы: «Месяц серебряный, солнце красное, река быстрая. Ночь темная, земля теплая, слеза горючая, дуб зеленый, зверь лесной, Велес-бог да Мокошь-матушка, сохрани и спаси род наш, вызволи из плена вражьего», – есть такая песня из плена выручальная.
И дружинники затихли. На самом берегу подошли люди в одеждах золотых да ярких, в шапках высоких, и что-то говорят, и крестятся, и кланяются. А что – не слышно, поют бабы, поют мужики, песню из плена выручальную, смотрит на них Волос и плачет, и помочь не может. А Добр радуется:
– Ах, – говорит, – как все по-божески.
Не выдержал кто-то из мужиков, на берег полез, что тут началось, одни поют, другие из воды двинулись, из-за голов-то не видно, что нельзя, а дружинники их в мечи да в копья, и теперь не плашмя, острием.
Льется песня, летит над водой, стонут, кого ранило, кровь по воде течет, держит Горд Емелю над головой, и по пояс Емелю вода кровавая моет. Сколько крестили, сколько убили, сколько просто утонуло, не считали, как в бою не считают людишек, сколько пало – столько пало, сколько выжило – столько выжило, к вечеру и на берег пустили, уехали дружинники, и стал пуст берег. Волос все Емелю искал, выходили бабы в рубахах мокрых – были в белых, стали в красных.
Посеченные, порубленные, раненые, исцарапанные. В воду тысячи загнали, а из воды сотнями считали. Не в каждой битве столько погибало, а потом все монахи жаловались: два, пять веков в церквах пусто, а на гульбищах да на игрищах народу тьма. Тыщу лет это жертвоприношение забывать станут… Пока новое, большее, в 1917-м и дальше – не совершат. Тогда и забудут – память жертвой этой перебьют.
В доме у сестры своей Волос спал беспокойно, ночью к нему приходили сны, они слетались, как птицы на кормежку, с тяжелыми медными клювами и белыми крыльями. И начинали больно клевать его руки, рвали жилы, глаза. Кровь капала из их забитых мясом клювов и ложилась на землю брусникой, которая была на траве тогда под Велесовым дубом в их лесу. Птицы болтали о жизни, о временах.
– О темпора, о морес, – говорила красная птица, отрывая кусок печени у Волоса, – вы слышали, что скоро запретят есть мясо? Я вообще-то не против запрещения, но что мы будем делать с ритуалом? Та, например, которой достается правый глаз, все-таки по рангу выше той, которой достается левый! На третьем месте я, которой отведена печень. А сердце – это по твоей части.
– Ты перепутала, – возражала ей черная птица, давясь ухом: хрящ тверд и тяжел в пище, – я действительно на втором, но сердце – это не по моей части.
– Неважно, – говорила красная, – я о ритуале. Так мы знаем, кто над кем летит, так мы знаем, кто есть кто, а если разрушат ритуал…
Все даже перестали есть, и Волос подумал, что на сегодняшний день у него еще может что-то остаться, например ноги, ступни, голени, и завтра будет чем идти. Телу было больно не всегда, лишь когда они говорили. Но речь мешала им профессионально работать.
Волос проснулся раньше, чем птицы справились со своей работой. Волосу было жаль их, он понимал, что такое разрушить ритуал.
В это время солнце нежно пальцами провело по его лицу, сняло паутину сна и потянулось своими губами к его щеке.
– Сестра, – узнал Волос.
– Я, милый, – сказала Малуша, – вставать пора, в избе волхвы сидят, тебя ждут.
Действительно, в горнице сидели четверо стариков в белых одеждах, золотым поясом подпоясанных, с золотым заговорным поясом вокруг шеи, внизу по подолу золото, а на рукавах тоже, везде, где злой дух в тело протечь мог, заговорено было золотом и словом.
Беседа была недолга. Был обычай такой в Суздале: меж князем и волхвами мог встать третий, если был он не здешний, а уж куда лучше для волхвов Волос, с самой глухой окраины земли Суздальской, глуше и не бывает, – из Москвы. Это во-первых, во-вторых – свой. В-третьих – родственник Добрыни, а для князя Добрыня, по нынешним временам, что второй Владимир. По всем статьям Волос шел в третьи судьи. Как Волосу не согласиться, на нем клином сошелся свет. Вот только ребят поберечь надо. Поднял их Волос сонных. Горда потверже растолкал, чтобы яснее был, отправил домой – по дороге, мол, догоню. Ребята пошли, вроде как и не проснулись, Малуша им на дорогу охранных калачей в платок завязала, да по палке дала, как каликам[6] перехожим. Все удобней да бойчей идти будет. Пошли ребята. Как из Суздаля вышли, так ко Владимиру сначала повернули, а потом и в Москву – дорога Горду знакомая.
На площади справа князь с попами, иноязычниками, слева волхвы, впереди Волос. Между ними народ. За князем – сила, за волхвами – вера.
Князя – много, волхвов – мало.
Странное в душе Волоса происходит, как будто две тучи клубятся черные, в каждой по молнии, и идут они навстречу друг другу. Вчера вот вроде ясно было, когда мечами крестили в реке, ничего, кроме ненависти к попам да дружине, а может, страха за Емелю, – не было. А сегодня сон забыть не может: ну, как и впрямь ритуалу конец?
Да и хватит народушке на дне плавать. Зажечь народ – немного ума надо, а зажжешь – не погасишь. Где князь, где дружинник, а где волхв – рядом лежать будут. Всегда бьют тех, кого мало, и всегда бьют те, кого много. Да и понял Волос хитрость поповскую. Волхв дождь в косьбу не отвел – виноват. Дружина бой проиграла – ответь, солнце поле выжгло – слаб волхв, либо замены требует, либо наказания людского. А вот поп не в пример – лишь попросить может, не упросил – за грехи людям наказанье послано, и сколько надо, столько и будет наказанье.
Всем, что происходит, ни поп, ни человек управлять не могут, то – Божья забота.
Волхвы сами поперек порядка стояли, то богов выше, то народа ниже, когда виноват, и его топить да жечь станут.
Всей душой да памятью он – с волхвами, а мыслью – вон с теми язычниками-иноязычниками, да и князем тоже, не чужой ведь, по-русски говорит, да еще почти вчера Велесу сына отдал, когда мор пришел.
Не только же он от страха перед Владимиром попов привел. Глаза ясные, вера в них есть, не две тучи, два стеклянных поезда навстречу друг другу в голове Волоса движутся, а колея одна…
– Вы зачем все кресты с шеи сорвать ночью велели? А кто не сорвал, вон под забором с пробитой головой валяется, – князь смотрит с ощущением, что прав он, и все поймут, если как надо сказать уметь.
– Когда крест на шею мечом надевают, он недолго висит, с шеи сваливается. А под забором мало ли кто лежит, народ-то перевернули, внутри себя сшибли, ему выбрать надо, то ли с тобой, то ли со мной, вот он и мечется, выходит из себя, а кто под руку кому подвернется, ни мне, ни тебе знать не станет.
Кони под дружинниками ногами переступают, один скакнул из строя, на дыбы встал, но варяг умел, на задних ногах так обратно и загнал, да еще плетью огрел, у того только пена с губ.
– Может, хочешь, чтобы и народ плетью смирили? Смирить можно, со временем привыкнет.
– Я ведь чего вас собрал, крестить я бы и без вас крестил, и смирить бы я и без вас смирил. Я вот хочу, чтобы вы башкой своей медвежьей пошевелили, что чем дольше смута будет, тем больше изб огнем пойдет, а народа убудет. А вот нас – он показал на попов и дружину – столько же останется. Вот и решите, либо мы вас сегодня истратим, либо пусть каждый своим делом занимается и нам не мешает, у вас ведь и лекари хорошие есть, и скоморохи из вас выйдут, скакать, как вы, мало кто может. Да в бубны бить, да в громотушки стучать, да и в свистки свистеть; то же, что делали, делать будете, а уж с нашей стороны я не против.
Смотрит народишко, слушает, не все понимает, но понимает, что они меж собой власть делят, либо одну на двоих, либо одному всю разом, а другому шиш. Ах, как странно говорят двое прилюдно, друг с другом согласны. Народ пожалеть надо, все на его шкуре солью да кровью выступит, а все так разведено, что как вроде не понимают и никогда им не договориться. Но договорились.
– Вот дуб стоит, – сказал князь, – я тебя пущу под корень, подкореню, а жив выйдешь, – сам крест на землю брошу, а нет, народ со мной пойдет. А власть богов твоих против Бога моего – трава и пыль.
Волос смотрит на людей, на волхвов, на князя. Действительно, тому еще и использовать Волоса надо, чтобы не топором, копьем или мечом, а раздавить прилюдно – под корень пустить. Пусть Волос первой жертвой новому Богу ляжет.
Да и правильно: любой ритуал жив именно жертвой. А что родственник Добрыни – Добрыня поймет. Прошли те времена, когда личные отношения и была сама суть – власть, сейчас идея на главное место вышла; личные отношения, когда идеи нет, а сейчас есть. И для князя, и для Добрыни эта идея – единый чужой Бог, это все племена в кулаке, и держать легко, и бить им ощутимо для любого врага, большого и малого.
Согласился Волос. Лета себя за людей сожгла, и он за людей под корни ляжет, чтобы крови меньше текло, во всяком случае, сегодня, здесь, в Суздале…
А уж мужики да дружинники у дуба корни подваживают, приподнялся дуб над землей, мужики на дне порыхлее землю вагой растревожили, чтобы, как корневищем Волоса придавит, не до смерти раздавило. Дружинники вроде как не заметили – засунули Волоса под корни, по одной ваге стали корни освобождать, те и стали на Волоса наваливаться. Тяжело так на грудь давят, как Емеле во сне как будто камень на тело лег, и дышать уже тяжело, ваги вытаскивают, все сильней давит, уже и света не видно, и дышать нечем. Только бы этот час выдержать, когда поднимать будут… а уже в глазах круги, а уже поезда столкнулись, и стекло вокруг рушится, звон стоит, радуги на стекле играют, вверху Емеля за бабочками гоняется, а бабочки такие желтые, красные, белые, черные и тоже стеклянные, сталкиваются и в мелкую пыль, падает пыль на Емелину голову и все волосы густо-густо в стеклянной седине…
Так и не узнал Волос, что молния вскоре в дуб ударила, дуб раскололо да подожгло, и народ с площади вытек, и дружина, и попы, а Емеля с Гордом как за город вышли, из ручья воды попили, кресты на всякий случай в узелок спрятали, под куст легли и заснули, и было в Велесов день то 20 июля, или червеня, иначе, 989 год, возле реки Каменки.
Часть шестая
Илия из Галаада
Главы о проверке главой чрезвычайки Суздаля Илией из Галаада силы прежней христианской веры с помощью нагана и новой веры в светлое будущее человеков
Суздаль, год 1919-й…
Место то же. За спиной – Покровский монастырь, у ног – Каменка. Слева вверху стены и башни Спасо-Евфимиевского монастыря, как молния, небо изломали. Луг. Суздаль крышами блестит, перед глазами облака чуть солнцу подол прикрывают, вроде и видно, и свет мягче, а не жарко, как обычно бывает в Велесов день. Мухи жужжат, птицы поют, тихо, а вокруг народу 450 человеков, от одного бы дыхания шум был. Не дышат. Илия родом из Галаада, голова Суздальской чрезвычайки, собрал попов, попадей с детьми малыми, монахов да монахинь из окрестных церквей да монастырей, а этого добра в 1919 год 20 червеня, липеца, или июля, в Велесов, или Ильин, день в Суздале и в округе навалом было.
Разумеется, перво-наперво приволокли монахов из Спасо-Евфимиева монастыря второго класса, что слева над Каменкой нависает. Вот здесь, где Илия жрецов согнал, на этом самом месте зимой в Рождество на прорубь расписную, деревянную, о пяти головах, с травяным узором из Петропавловской церкви, иорданскую сень ставили, и народишко скопом крестили, здесь же князь Суздальский в первый раз местный люд в Каменку окунул. Это уж потом слева наискосок вверху монастырь поставили, где-то в год 1352-й преподобный Евфимий был здесь первым архимандритом. Умер вроде, и забыли за два столетия, где похоронили, а в 1507 год стали рыть фундамент для новой соборной церкви, ан там в земле нетленные святые мощи преподобного Евфимия. Недалеко от того места, где теперь Пожарский погребен.
Других монахов из Золотниковской пустыни на телегах доставили, на лошадях монастырских, вроде как и лошадей взяли, и монахов подвезли, а это тридцать верст от Суздаля, и все четыре церкви вниманием своим не оставили – не так, конечно, как Малюта, без правежа, но тоже не с пустыми руками вернулись. И Собор Успения Богородицы с двумя приделами, и Воздвижения Честного креста, и Казанскую Богородицу, и Всех Святых.
Но вообще в Суздале с мужским населением монашеским дело хуже было, чем с женским.
Еще монахов гнали из Боголюбова монастыря, что был второго класса и стоял в одиннадцати верстах от самого Владимира, между рекою Клязьмою и Нерлью. Святой князь Андрей Юрьевич и поставил его там на тыщу лет.
А почему там поставил, ежу понятно. Как не поставить, если произошел такой случай: ехал Андрей Юрьевич из Киева в Суздаль и вез с собой икону Пресвятой Богородицы, что нам теперь как Владимирская известна; было это в 1154 год.
А лошади, которые икону везли, вдруг возьми и встань, устали, видно, запрягли других, но и те ни с места. Там храм во имя Божьей Матери поставили. А уж при ней и обитель, а около обители потом и город именем Боголюбов. В 1238 год ордынцы все сожгли, что сожгли, а обитель стоит, как стояла. Даже икона осталась жива, что в 1157 год написана в память о явлении Богоматери князю Андрею во сне. Праздник этой иконы – два раза в год. Первый – почти в день пробуждающегося медведя 25 березозола, или марта, а второй – 18 июня, или кресеня, тоже близко от Купалы. Емелины дни.
А последних монахов, что до нужного счета не хватало, пригнали из Шуи из Шартоминского-Николаевского третьего класса монастыря, в котором три церкви было – Николы, Казанская с приделом Григория Акрагантийского и над вратами – Сретенская.
А вот с монахинями вышло ближе. В Суздале их много. В одном Покровском, что за спиной, первого класса, густо.
Монастырь знатный. Заложен он в 1364 год князем Андреем Константиновичем Суздальским, щедр был князь, о душе думал сначала, а обо всем другом потом. В монастыре церковь Покрова Богородицы, в ней гробница княгини Соломонии Юрьевны, в иночестве – Софии, супруги великого князя Василия Иоанновича, что скончалась здесь в 1542 год 16 декабря, или студиня, иначе. Здесь, в монастыре, схоронена и жена Ивана Грозного, одного из трех великих кровавых русских жрецов, что народ на жертвенник густо положил, – Анна из рода Васильчиковых. Здесь жили и царица Мария, супруга царя Василия Шуйского, и царица Евдокия, первая жена второго жреца, Петра Великого, – вся русская история побывала тут и осела в ризницах да кладовых, да на лицах монахинь тенью вышла; монастырь, как осадок от настоя, – вся боль, весь свет на дне, и пока жизнь течет, он живет, пока не разобьется банка и весь осадок на землю не прольется, а с ним и вся суть живая в почву не уйдет, да чем-то наружу выйдет.
И Ризоположенский монастырь не отстал, монахинь на сбор поставил, хотя этот, в отличие от Покровского, второго класса. А древний, с 1207 года живет. Да и то благодать на нем положена. Мощи здесь преподобной Евфросинии, обретенные в 1699 год 18 сентября, или вресеня, иначе.
При нашествии Батыя в 1238 год весь Суздаль был разорен дотла ханом, а Ризоположенский, где в это время жила преподобная Евфросиния, благодаря молитвам ее цел остался.
Но не поленились и из Владимира монахинь доставить, из Княгинина монастыря второго класса, что еще семь сотен лет назад строить начали. А строил его великий князь Всеволод третий по желанию супруги своей Марии. И изо всех трех церквей еще кое-что взяли – прихватили, в Суздаль привезли. Конечно, не мощи мученика Авраамия и не княгини Александры, первой жены Александра Невского, и не Марии, основательницы монастыря, и не княгини Вассы, второй жены Александра Невского, и не их дочери Евдокии. Было что взять в соборе Успения Богородицы, и Казанской Богородицы, и Иоанна Златоуста.
А еще из соседних храмов попов с попадьями да детьми их натащили, и всего образовалось ровным святым счетом 450.
Собрал Илия всех, согнали их его помощники в один гурт потеснее, чтобы, не напрягая голоса, Илия говорить мог серьезные слова. И он сказал:
– Вот что, уважаемые, вера ваша не истинная и бог ваш ослабел за две тысячи лет, состарился, потому столько церквей в дым ушло и потому столько попов с монахами на тот свет бегом убежали, разлюбил вас бог, не говоря о том, что одряхлела десница божья. Вот что я надумал. Поставлю-ка я перед своим наганом тельца безгрешного, а чтобы в безгрешности его вы убеждены были, он будет еще в утробе матери.
Опричники Илии вывели против него и поставили к реке спиной заранее избранную Илией беременную попадью именем Вера – жену отца Алексея Ильинской церкви, что на холме, против северо-западного угла Кремля строения 1744 год. Живот у ней был большой, и попадья должна была вот-вот рожать.
– Безгрешно дитя в утробе матери? – спросил Илия.
Все молчали, но было очевидно, что дитя безгрешно.
– Так вот, – продолжал Илия. – Если я из своего вот этого нагана, – показал он, подняв вверх наган, – стрельну и их убью, то я вас всех казню, поскольку ваш бог не защищает безгрешную душу. А если не попаду, или наган не стрельнет, или пуля отлетит, я с вами в монастырь пойду, монахом стану и до конца дней своих вашему богу молиться буду.
А за четыре года до этой поры Илия скрывался от властей в доме одной суздальской вдовы, и, несмотря на то что вокруг голодали в соседних домах, в доме вдовы не уменьшались мука в кадке и масло в кувшине. А когда заболел сын вдовы, Илия сидел над ним и кормил, и песни над ним пел, и когда сын поправился, и вдова, и сын уверовали в чрезвычайную силу Илии.
И, веря вместе с ними в свою чрезвычайную силу, глава чрезвычайки города Суздаля собрал этих попов с их женами, и монахов, и монахинь, чтобы проверить, правильно ли он сделал, что пошел бороться за новую троицу – счастье, равенство, братство, – или он заблуждается, и сам с волнением стал ждать результата своего эксперимента. Но ничего для него неожиданного не произошло. Получив в голову и грудь четыре свинцовые пули, Вера, прижав руки к животу, упала на зеленую, покрасневшую траву на берегу Каменки и забилась в судорогах.
И только у единственного зрителя, крестьянина Ивашки монастырской деревни Княжье, что не раз сидел в каменном мешке тюрьмы Покровского монастыря за варку пива в будний день, случайно оказавшегося на берегу Каменки в толпе, из правого косившего глаза сползла, задерживаясь на щетине, желтая слеза.
А Илия, более ничего не говоря, самолично всех оставшихся 449 попов, попадей, их детей, и монахов, и монахинь неторопливо, несуетно, но усердно и даже сноровисто, каждого предварительно повернув затылком к себе, отправил на тот свет, где их ждал, разумеется, по их вере, рай за мучения их. И, завершив так же добросовестно и кропотливо, размеренно, по-рабочему, складно и тщательно всю работу, отправился к вдове, которая теперь в церковь не ходила, верила в него, и сын вдовы, тоже веривший в Илию, работал вместе с ним в чрезвычайке, хотя возрасту ему было всего шестнадцать лет.
А мальчика, которого в судорогах вытолкнула из себя попова жена, подобрали ехавшие мимо на телеге старики Сумароковы из села Яковлевское, что жили во втором овражном возле храма Николы Чудотворца, и дали потому мальчику имя Николай. Посадили Сумароковы на телегу еще четверых бедных странников именем Ставр, Сара, Рахиль и Тихон. Сара была слаба – ибо только что родила сына, и он умер, и его закопали вместе с убитыми монахами и монахинями, священниками, их женами и чадами в одну общую безымянную могилу.
А спустя восемнадцать лет мальчик именем Николай забьет на допросе насмерть Суздальского Илию, узнав из документов и затем личных ответов чрезвычайного начальника, кто и как помог ему появиться на свет Божий, а после этого сам уверует в прежнего Бога и уйдет из Москвы в неизвестном направлении, и пропадет из глаз своего опричного хозяйства навсегда.
И тут сон в Емеле, как рыба, шевельнул хвостом и ушел глубже, почти на самое дно…
Часть седьмая
Бурный финал вялотекущей национальной войны
Главы о побитии камнями общего врага всея Москвы – Медведко, христианским именем Емеля, и последующем затем пожаре, приведшем к очередной штатной погибели земли Московской и переходе ее жителей в Подмосковье
Москва, год 2017-й…
Емеля поднял веки от тепла, которое коснулось их. Вокруг, видимое со ступенек Лобного, ходило волнами море факелов, которые трепетали на ветру, как свечи в церкви, где выбиты окна, выломаны двери, выщерблены фрески, на полу лежат разбитые ящики из-под хозяйственного мыла, стирального порошка «Лотос» и средств для чистки мебели, но поют ангелы, и от их дыхания и сквозняка трепетом и сиянием исходит маленький огонек свечи, зажатый в руке пятилетнего мальчика под простертым в дырявом куполе Пантократором. Служба в зените: «Господи, помилуй, Господи, помилуй», – стоит в воздухе, как столб света из пробитого купола. Такими церквами второй век полна Москва.
Четырьмя огромными потоками факелы, прежде чем впасть в красное море, текли на Пожар, к Лобному, к Голгофе, где стояли плахи стрельцов, гудела звоном и голосом «комедийная хоромина», которую устроил Великий Петр, и где рос Дуб, около которого был зачат Емеля.
Но если чуть подняться над Лобным и посмотреть всю Москву с высоты улетающей дымом Леты, то можно различить, как малые ручейки огня стекаются в огромные русла и направляются с севера, востока, юга и запада сюда, где на ступеньках стоит Емеля. По улице Варварке (или Варьке, иначе, в прошлом – Разина), по которой шла дорога на восток, люди текли скученно, плотно, огонь факелов превращался в пожар и тлел, как угли на ветру, и был желт от невидимого пара варь, который задержался здесь еще с тех пор, когда варили соль, квас, хмель, мед, брагу. Пар этот был желт и невидим без огня, но в огне он проявлялся, как проявляется ветер, когда ему попадаются трава и листья на пути, или как становится видимым воздух, попадая в солнечный столб света.
С юга по Ордынке поток был шире, раздельнее. И когда доходил до места, где огонь начинал биться, словно боясь погаснуть, как костер на диком ветру, истово хлопая своими крыльями, как куропатка, попавшая в силок, как змея, схваченная за голову, то становился почти черен от бессилия и прыти.
Огни, текшие по Ильинке (бывшей Куйбышева), мимо церкви Ильи на торгу, через Китай-город, были красного цвета от пожаров, которые первыми влетали на красных конях в деревянный Китай-город, ибо с севера ветры дули чаще и были всегда резче и могучей, чем ветры, дувшие с запада, юга и востока.
Тот же путь, что лег под ноги Емеле, теперь был растоптан толпой белого огня, которая текла по Большой Никитской (бывшей Герцена, который, увы мне, увы мне, брате, был неосторожным звонарем и любил бить в колокол над ухом спящего, дергая за веревку длиной от Лондона до Москвы, для безопасности, так бешеную собаку сажают на цепь, чтобы не укусила, и так волка, защемив капканом, держат поодаль и смотрят с любопытством, как течет пена с его оскаленной морды, а накоси выкуси: Герцен в Лондоне, а волк в Москве). Тек этот поток мимо опричного дворца, мимо церкви Новомученика Святого Николая на Крови, что под стеной, и мимо Исторического музея, сбоку похожего на паровозное депо, вверх по брусчатке к Лобному.
Несмотря на ночь, темень и накрапывающий дождь и тучи, черневшие в небе, люди ликовали, гудели, пели свои южные, северные, восточные и западные песни, и от этой разноголосицы в воздухе стояла музыка, какая стоит возле классов консерватории, когда все окна в Купалу открыты и из каждого окна выбрасывается на асфальт, как самоубийца, своя мелодия, и свой звук, и свой голос. Флейта, гусли, скрипка, валторны, труба, гобой, тимпаны, литавры, цимбалы, домбры, саз, зурна, жалейка… Все одновременно, разом, стараются прогудеть, перепеть, переиграть друг друга, и стоящий рядом с консерваторскими окнами, имеющий уши да слышит, мир безумен, но этот мир хочет жить, он имеет право на свой голос. Как жаль, что всех нельзя слушать по очереди. Но это детали, мелочь по сравнению с тем, что сегодня у людей единственный, подлинный, незапланированный, естественный праздник духовного, общего, тотального, пусть временного, единства, все устали от войн, но кто их спрашивает, от чего они устали. Среди них чужой, чужой для всех, текущих сюда, на вершину Пожара.
У Емели была кровь, которой не было ни грамма ни у одного идущего, и они все были – «они», и только он был – «он», отдельно иным, совершенно иным, надежно иным, и каждый, помимо факела в руке и цветка в другой, нес камень за пазухой, священный камень, сберегаемый годами к этому случаю, и время от времени рука трехсотмиллионного единства бережно трогала этот камень, примеряясь, как будет ухватить лучше и бросить надежнее и метче, ибо каждый попавший точно будет отмечен значком меткача и тем самым будет иметь право на ощущение верховного единства со всем сущим.
Люди пели еще и потому, что каждый в голосе идущего рядом или близко пытался узнать знакомые оттенки, которые он слышал иногда на протяжении многих лет на загаженных сиденьях вагонов метро, на чахлой траве реки Неглинки, и Хинки, и Серебрянки, в пещерах под Патриаршими прудами, среди груд человеческих костей и черепов, на развалинах ушедших в Подмосковье площадей. Голоса, которые жили в шепоте, были узнаваемы и в песне, каждый пел, чтобы его мог услышать слушающий, и каждый слушал поющего.
И люди находили друг друга, забывали про камень за пазухой, в центре Москвы на Красной площади, на Пожаре, возле Лобного места они плакали от ужаса, счастья или разочарования от лиц, которые знали давно и видели впервые.
Шестнадцатилетняя девочка узнавала в знакомом голосе шестидесятилетнего старика, пятидесятилетняя растрепанная седая женщина плакала, прижимая голову двадцатилетнего патлатого любимого, и только дети никогда не находили родителей, и только родители никогда не находили детей, потому что разлучались раньше, чем черты голоса и лица вписывались в память отчетливо и явно.
Спасские часы пробили полночь, как и в 1850 год, они, исправленные братьями Бутеноп, играли «Коль славен» и «Марш Лейб-гвардии Преображенского полка».
Площадь вздрогнула, застыла, повисла тишина, и только факелы потрескивали в тишине одним огромным сиплым треском, люди перестали искать друг друга, каждый положил руку за пазуху, и, когда последний удар Спасского колокола отзвенел свою музыку, на середину круга, который был очерчен, вышел генеральный процентщик, по должности считавшийся самым чистокровным. Четыре исходные крови текли якобы в нем, но больше других кровь северян. Вздернутый нос его был розов от волнения и света факелов, глаза увлажнены, руки чуть дрожали – типичный, курносый, круглолицый китае-бурято-дулеб, похожий на своего Пращура, такой же высокий, с узкими свиными глазами, такой же истовый, с завещанной звездой на груди.
Курносый поднял руку. Мгновенно факелы перестали трещать, ветры – дуть, люди – дышать, тучи – скользить по небу, площадь – гудеть, Спасские часы – играть марш. Как ему было легко совершить то, что он должен был совершить, ритуал поворота истории освободил его от всех сомнений и мыслей, генеральный был призван выполнить волю истории, какой бы она ни была. Сегодня не было генерального, но оно шло через него в мир.
И он заговорил, заговорил внутренне устойчиво, жестко, резко, рьяно и внешне басовито, внушающе, он заговорил о человеке, который был когда-то побит камнями вот здесь, возле Лобного места, о том, какая это была ошибка, и москвичи помнят об этой ошибке и никогда не повторят ее, и залог этой памяти – цветы, которые принесли они, и, не переставая говорить, он подошел к куче камней, около которой лежала охапка свежих, ярких цветов – от анютиных глазок, маргариток до огромных бело-розовых гладиолусов и ярко-бордовых георгинов, похожих на медуз.
И положил свои скромные алые розы в это собрание цветов.
И отошел, не переставая говорить.
Он говорил, что, когда пришел этот человек именем Петр и у него нашли кровь, которой не было ни у кого из живущих в Москве, его предки оказались единственными, кто выступил против всех, они просили подождать более точных результатов анализа, но их не послушали. И для его предков было неудивительно, что потом, когда были созданы более чуткие машины, эту кровь нашли у каждого из живущих тогда и ныне, и она сегодня является той общей кровью, что позволяет им, собравшись вместе, бросить камень в человека, чья кровь чужда каждому, оказавшемуся здесь.
Общий чужой (или общий враг) – это праздник, который послало им время, и хотя все знали, что его предок был первым, кто бросил камень в Петра, памятник кому сейчас возвышался над кучей камней, все кивали.
– Я как самый чистокровный среди вас, – говорил генеральный процентщик, вскидывая к небу загнутый куриный нос, который удлинялся в свете факелов и напоминал клюв, и все кивали головами, хотя точно знали, что в его крови намешано такое количество разных процентов, что больше было только у челяди и жителей пригорода.
Бросить заветный камень и тем на время освободиться от этой тяжести.
И медленно карусель прошла по площади, и возле Петра выросла куча живых цветов, скрыв памятник и омочив его и цветы искренними слезами, от которых камень заблестел, а цветы открыли свои черно-бело-красно-желтые лепестки и испустили аромат, смешанный с запахом слез.
И когда эта огромная, похожая на фестивальные кольца, четырехкрылая мельница вернулась в начальное положение, опять заговорил генеральный процентщик. Теперь голос его был похож на раскаленный, льющийся в ковш металл, глаза сияли, как рубиновые шары на кремлевских башнях, в которые была налита чистая кровь основных народов, населявших Москву.
И голос гудел, как Царь-колокол, когда он падал с колокольни Ивана Великого, и кусок колокола начинал отваливаться, тоже гудя в ответ разбуженной земле.
И Емеля из его речи узнал, что в его крови найдена кровь, которой-де нет ни у кого из стоящих здесь. И которая – вызов их такой совершенной и такой гармоничной, истинной, единственно правильной системе. И факт существования Емели – это пропасть на их единственно верном пути, которым они шли века и которым им идти еще века. И если сегодня они, а это должен сделать каждый, считающий себя истинным сыном отечества, не совершат правое дело тем же способом, что завещали предки, то их не поймут будущие поколения, не простят будущие поколения и проклянут будущие поколения.
Вздох отчаяния пронесся, как ураган по деревне, ломая деревья и срывая крыши, такой это был единодушный порыв, в эту минуту они понимали, завороженные речью и ощущением своего совершенства, что их система действительно лучшая в мире, и малейшее пятно на этой системе погубит эту систему. И их дети, которых они никогда не видели, а если и увидят, то не узнают, проклянут их единственную, их интересную, полную опасности, тревоги, ожидания, и волнения, и страха, и гибели, а значит, движения и подлинного непрерывного обновления и конфликта жизнь.
Рыдание повисло в ночном воздухе, факелы вздрогнули, как будто выстрелили из Царь-пушки. Но все замерло, когда Емеле дали последнее слово.
Емеля, захваченный общим порывом и отчасти речью генерального, сам был готов, удивляясь им, разодрать на себе одежды и посыпать голову пеплом и первым бросить в себя камень. Хотя за пазухой у него одного ничего не было.
Емеля сочувственно согласился с ними в это мгновение, вслух вспомнив о медвежьей крови, которая текла в нем, в его теле, в его душе и, разумеется, в мыслях. Вздох ликования прокатился по площади, у них было «право бросить в него камень», они были справедливы и перед собой, и перед веками, и перед законом. Счастлив был и Емеля, который мог принести им это счастье, Емеля истово чтил Божий завет.
Вздох ликования обошел площадь и волнами покатился на все четыре стороны света. Генеральный, прослезившись, слушал, смотрел и понимал, что это главная минута его духовной жизни – генеральное мгновенье.
Вдохновение забило в нем крыльями.
Не надо больше было ничего говорить. Он подошел к Ждане, стоящей внизу перед Емелей, и протянул ей свой камень. Общая карусель вдохновения захватила и Ждану, и ее память, и ее мозг. Она была частью этой площади, частью Москвы, частью мира, в ее крови гремел энтузиазм миллионов, не мешая еще более выросшей в ней любви к Емеле. И всей своей пружинистой, молодой, заведенной страстью любви и общего восторга и единства силой она швырнула камень, положенный в ее руку мокрой, липкой рукой генерального процентщика.
Емеля покачнулся, удар был точен и гулок, его услышали и те, кто был рядом, и те, кто был далеко от площади, его услышали Лета, Волос, Велес, Медведь. Пелена боли закрыла Емелин мозг, как закрывает сцену занавес с чайкой во МХАТе. И желудь, положенный в руку Емели Летой, выпал из его пальцев и закатился в лунку от камня, который вывернули из земли и сегодня положили за пазуху.
Люди покачнулись, огни потекли по груди, дыхание упало, как путник, сорвавшийся с моста, такого высокого, что упавший успевал состариться, прежде чем долетал до воды, и в это время часы ударили один раз.
Один удар со Спасской башни, башни, которая первая получила шатер наверх, задолго до прочих остальных, еще в 1625 год, и называлась она тогда Фроловской, на ней нужно было выстроить шатер для укрытия часов. И сделали этот шатер мастера Бажен Огурцов, Караулов и Загряжский. И когда построили его, старые часы сняли и продали на вес Спасскому монастырю в Ярославле, и поставили часы с «перечасьем»[7], и Кирилл Самойлов отлил для них тринадцать колоколов, и звук этих колоколов услышал Емеля, ибо удар учит и дает нам возможность слушать иную – иными не слышимую, но звучавшую именно здесь – музыку.
И после первого удара что-то сломалось в звуке, как будто он был из тонкого стекла, а кто-то с размаху это стекло швырнул в бешеной ярости о брусчатку Красной, и звук задребезжал и затих, и осколки, медленно позванивая, покатились по обрыву к Москве-реке, мимо Василия Блаженного, но не успели дозвенеть они, как зазвонили колокола Чудова монастыря, который стоял подле малого Императорского дворца, монастыря, который был поставлен на месте ханского конюшенного двора. За много веков запах ордынский выветрился из этой земли, и в монастыре пахло ладаном и горящей восковой свечой, запах был таким же, как и в монастырской церкви Николы Угодника, в которой плакал Емеля свою молитву за упокой святого великомученика Бориса.
Звонил серебряным звоном собор Алексия митрополита, построенный в первый раз в 1483 год, куда царь Федор Алексеевич узаконил не пускать женщин. Звонили золотым звоном колокола Благовещения Богородицы, ставшей на место храма Велеса, во второй голос с соборною Алексеевскою.
В алтаре Алексеевской икона Святителя Алексия, написанная на верхней доске города его, была в 1682 год изъязвлена ножом зараженного кальвинскою ересью еретика Фомы Иванова.
Звонили медным звоном колокола Чуда Архистратига Михаила; в этом храме в 1378 год был погребен по кончине Святитель Алексий, а при Иване Васильевиче в его человеческую бытность мощи Святителя были перенесены в Алексеевскую церковь.
Звонили колокола Чудова, в стенах которого в 1812 год опять пахло конским навозом, ржали кони и маршал Да Ву устроил себе в алтаре Алексия спальню, в алтаре, перед которым не раз на коленях истово молился инок монастыря иеродиакон Гришка Отрепьев.
И столько в этом звоне серебряном, золотом и медном, в этом дыме Леты и Велеса, не раз горевшего монастыря и ржанья монгольских и французских коней и в запахе их помета было смысла, сути, истины, правды и живой воды, голоса Емелиного Бога, что опрокинулось дальше еще раз сознание Емели, и опять он увидел ясно изображения людей, неба, площади.
Звуки и запахи освободили его от боли, беспамятства, воли, и силы, и права, и могущества бросающих камни, их множества и их единства. И град камней так же, по сигналу, ринулся на тело Емели, корежа его голову, грудь, ноги, руки, плечи, колени и не трогая душу.
Камни летели с севера, юга, востока и запада и перелетали через голову, и не долетали, и сознание, которое было еще недавно сумрачно и слепо, стало таким же ясным, как у Леты, когда она уходила дымом с этого же места в тот же Велесов день.
И он смотрел на то, как ставшие единой могучей стихией люди, в своей слепоте движимые революционным великим энтузиазмом, доставали камни из-за пазухи, швыряли их куда попало, камни перелетали с места на место, как птицы, и Емеле ударов досталось не больше, чем всем присутствующим.
Стоящие на западе били стоящих на востоке. Камни с севера ломали кости и черепа пришедших с юга. И стоял в воздухе крик радости точного попадания и крик боли от полученного удара, и так продолжалось это, пока не пропели петухи.
И когда куранты, прозвонив начало от попавшего в них камня, сломались и остановились, попусту внутри вращая колесами, и марш онемел, в живых во всем городе осталось не более четверти населения. И это для оставшихся меняло дело, им казалось, что все будет как прежде, свободные места ждут их, распахнув ворота и двери, все, кто был в центре площади, погибли первыми, те, кто был дальше, – выжили, и живущие поверх садового кольца готовились перебраться внутрь Китай-города, а живущие за кольцевой – поближе к Садовому кольцу, но о таком можно было мечтать. Ибо когда сознание стало возвращаться в их уже пылавшие ненавистью головы – ибо когда стали подыматься они, размазывая кровь по лицу подолом рубахи, и открывать глаза, они увидели один общий великий пожар, которым стала не только площадь, но и вся Москва.
Горели, подымая тучи гари, дыма, копоти, смрада в великий Жертвенный, Велесов, или Ильин, день.
На севере – Вологодский проезд, Енисейская улица, Игарский проезд, Каргопольская улица, Костромская улица, Магаданская улица, Северодвинская улица, Новгородская улица, Олонецкая улица, Тобольский переулок, Угличская улица, Холмогорская улица, Чукотская улица.
На юге – Бакинская улица, Ереванская улица, Каспийская улица, Керченская улица, Липецкая улица, Никопольская улица, Одесская улица, Перекопская улица, Севанская улица, Севастопольский проспект, Симферопольский бульвар, Херсонская улица, Черноморский бульвар, Ялтинская улица.
На востоке – Алтайская улица, Амурская улица, Байкальская улица, Бирюсинская улица, Камчатская улица, Красноярская улица, Сахалинская улица, Шатурская улица, Уссурийская улица.