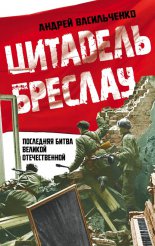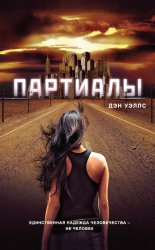Чужая кровь. Бурный финал вялотекущей национальной войны Латынин Леонид

© Латынин Л., текст, 2014
© ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Се начнем книгу сию… –
И когда дал имя Господь и часу, и дню недели, и месяцу, и году:
И дал имя востоку, и югу, и западу, и северу,
И весне, и лету, и осени, и зиме,
И утру, и дню, и вечеру, и ночи,
И детству, и юности, и зрелости, и старости,
И праву, и низу, и леву, и верху,
И дал имя цвету, звуку, слову и запаху и человеку, зная, что все происходит всегда и движение есть только иллюзия. Чтобы не пугать человека, сделал он вращающуюся землю в воображении его – неподвижной.
А неподвижное время показал человеку движущимся и дал летосчисление – и было оно таково в человеческом смысле: одну тысячу лет жили боги. И через тысячу лет были сотворены человеки, и погибли боги или стали тем, что называем мы животными – зверем, птицей, рыбой. Небом, звездой, водой, огнем, горой, ветром, воздухом стали – или другим именем жизни.
И когда был сотворен человек на севере – именем Ждан, на юге – именем Али, на западе – именем Адам, на востоке – именем Дао. Положил Бог начало человеческой истории, и было это
за 9444 года до рождения пророка Будды,
за 10 000 лет до рождения пророка Иисуса,
за 10 570 лет до рождения пророка Магомета,
за 10 980 лет до рождения Емели, первым именем Медведко.
И были к тому времени, как он родился, земли на севере, юге, востоке и западе.
На востоке – прошлые и настоящие: Персия, Бактрия, Сирия, Вавилон, Кордуна, Ассирия, Месопотамия, Аравия, Елиманс, Индия, Аравия, Колия, Комагина, Финикия и Китай.
На юге земли прошлые и настоящие: Египет, Эфиопия, Фивы, Ливия, Мармария, Спирт, Нумидия, Масурия, Мавритания, Киликия, Памфилия, Писидия, Мизия, Ликаония, Фригия, Камалия, Ликия, Кария, Лидия, Троада, Эолида, Вифиния, Сардиния, Крит, Кипр.
На западе земли – прошлые и настоящие: Албания, Армения, Каппадокия, Пафлагония, Галатия, Колхида, Босфор, Меоты, Деревия, Сарматия, Скифия, Македония, Далматия, Малосия, Фессалия, Локрида, Пеления, Аркадия, Эпир, Иллирия, Лихнития, Адриакия, Британия, Сицилия, Америка верхняя и нижняя, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, Закинф, Кефаллиния, Итака, Корсика, Галлия, Германия, Чехия.
На севере земли – прошлые и настоящие: Руссия, Карелы, Моравия, Славия, Чудь, Меря, Мурома, Мордва, Весь, Обры, Дулебы, Заволочь, Пермь, Печера, Ямь, Угра, Литва, Зимгола, Эсты, Корсь, Летгола, Ливы, Ляхи, Ставросары, Прусы, Шведы, Варяги, Волохи, Галичь.
Часть первая
Лета
Москва, год 980-й…
Родился Емеля 24 березозола, или, иначе, марта 980 года, через 10 тысяч и 980 лет от сотворения Дао, Адама, Али и Ждана, в день пробуждающегося медведя.
В тот год Владимир вернулся в Новгород с варягами и сказал посадникам Ярополка:
«Идите к брату моему и скажите ему: «Владимир идет на тебя, готовься с ним биться». – И сел в Новгороде.
А потом собрал Владимир много воинов своих – варягов, славян, чуди и кривичей – и пошел на Ярополка, брата своего. А был Владимир робичич[1] и холопище, сын Малуши Любечанки, что служила ключницей у Ольги и Святослава, великого князя Киевского; и племянник Добрынин, который много способствовал его посланию князем наместником в городок на озере Ильмень.
Ярополк же в ту пору затворился в Киеве вместе с воинами своими и Блудом, воеводой их. Владимир же послал к Блуду с такими словами:
– Будь мне другом. Если убью брата моего, то буду почитать тебя, как отца, и честь большую получишь от меня, не я ведь начал убивать братьев, но он.
И Блуд ответил:
– Буду с тобой в любви и дружбе.
И сказал Блуд Ярополку:
– Киевляне посылают к Владимиру, говорят: «Приступай к городу, предадим-де тебе Ярополка. Беги же из города».
И послушался его Ярополк, бежал из Киева и затворился в городе Родне, в устье реки Роси. И осадил Родню Владимир, и был такой голод, что ходит поговорка и до наших дней: «Беда, как в Родне»; и сказал Блуд Ярополку:
– Пойди к брату твоему и скажи: «Что ты мне ни дашь, то я приму».
И пришел Ярополк к Владимиру, когда же входил в двери, два варяга подняли его на мечи под пазуху, Владимир же стал жить с женою своего брата – гречанкой, и была она беременна, и родился от нее Святополк. От греховного же корня плод зол бывает. Во-первых, была его мать монахиней, а во-вторых, Владимир жил с ней не в браке, а как прелюбодей. Поэтому-то и не любил Святополк отца, что был он от двух отцов: от Ярополка и от Владимира.
И вошел Владимир в Киев и стал там княжить один.
И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей».
Главы о зачатии Емели от двух отцов – медведя, именем Дед, и волхва Волоса
В тот год родился Емеля на свет, не понимая, кто он, какая земля вокруг, и кто такой князь, и кто такой смерд. Родился, как проснулся, и закричал громко и больно. И было то в 980 год, и родился Емеля на медвежьей шкуре, в мех которой вцепившись красными пальцами, рожала Емелю мать его Лета, единоутробная Добрынина сестра. И рядом стоял отец его Волос, и было это 24 березозола, или марта иного имени месяца. В первый день нового года пробуждающегося Медведя и в дни общего равноденствия. И когда, извиваясь, вытолкнула из чрева своего Лета Емелю и услышала крик его, уснула она тут же и увидела тот день и тот час, когда стояла возле их Дуба, который рос над обрывом у Москвы-реки, на месте, которое еще назовут Лобным, и будут по обычаю приносить там жертвы человеками тысячу лет, а поляну вокруг назовут Красной площадью, но это потом, а прежде она будет именем Пожара, ибо оттуда тыщу лет Москва гореть будет и последний пожар в 2017 году станет. Но всего этого Лета не узнает – это Емелины сны. А Лете видится дуб, к которому она принесла полотенце свое, приговаривая: «И деревья рода моего, Мугай-птица, птица рода моего. Пошли мне, Бог мой, зеленый дом большой, из дерева крепкого, дом с крышей высокой да лубяной. Пошли мне косу длинную да волос густ, пошли мне мужа моего, что ростом высок, силой силен, голосом густ да кровью горяч». Но не успела домолиться до конца о желании своем, не успела как следует расправить на ветвях Дуба полотенце свое с бахромой красной, пропитанной овечью кровью (а была полночь 24 кресеня, или, иначе, июня, был Купала), как почувствовала, что кто-то обнял ее сзади. И почувствовала она на шее своей шерсть мягкую, густую, и ощутила на груди своей лапу сильную, и острый коготь провел по рубахе ее, и распалась одежда, и горячо стало Лете, и закричала она от испуга и истомы. Ждала она жениха и дождалась. Он поспел, не погодил, а тут же под деревом святым пришел ее жених, и покатились ее очи по поляне в траве зеленой, и обняли тело огромное и теплое руки ее белые, и огонь опалил ее колени, и брызнула кровь ее алая, и смешалась с морошкой раздавленной. И застонала Лета, и вцепилась в мех жениха своего, как сейчас, когда рожала Емелю. А когда очнулась, рядом лежал в траве Волос, и тут увидела Лета, что нага она, и луна светит ярко, и устыдилась наготы своей, но сил не было укрыть себя, и увидела кровь на коленях своих.
«Вот и первая жертва», – сказал Волос и положил руку на грудь ее, которая была нежна, как бывает нежна и ярка луна в ночное время, когда ветра нет и она сама широка и медленна, почти неподвижна, и внизу далеко была вода Москвы-реки, и рядом с Волосом было тело Леты, в их глазах были звезды. А Волос был совсем не похож на жениха ее, который явился к ней час назад, и никогда более и похоже не было так истомно Лете, как было в эту ночь, а над головой ее ветер тихо перебирал бахрому полотенца, на котором Берегиня плыла в своей ладье, и, как флаг, на ветру вместе с ее полотенцем тихо шевелились кони, и ладьи, и деревья, и птицы, и всадники. И до конца ночи, пока не взошло солнце, любил ее Волос, и Лета, вцепившись в траву возле тела своего, кричала от боли, нежности и любви. И выходила эта любовь криком, стоном и смехом русалочьим, который слышала луна, видело дерево и укрывала ночь своим нежным светом, и звезды висли над головой серебряной крышей.
Подходила к концу великая ночь зачатия, которую отмечают испокон Отец и Мать. А чтобы не спутать день, пока жена не узнает в себе новую жизнь, не трогает ее муж, и этот день – их тайный праздник для двоих.
Ночь зачатия праздновали и чудины, что жили здесь перед Емелиным родом вятичей, ибо начало жизни – не на свету, куда выходит ребенок, а в ночи, когда соединяются небо и земля, когда человек подымает свои забытые крылья и летает до тех пор, пока не погаснут звезды, пока не уснет душа, пока не растает музыка. И было начало – в ночь Купалы, возле дуба святого Велеса, и три крови вышли, как родник, наружу и стали в Лете в один поток – кровь Волоса, кровь Леты и кровь жениха мохнатого, потому и имя их сына сначала Медведко и лишь потом, по крещении, Емеля. И потом, после спасал его не раз жених Леты, когда не стало Волоса на свете. Можно убить человека, но не зверя, зверь безымянен, а человек гибнет разом со своим именем. Но то случилось потом, а сейчас Емеля видит медвежью шкуру – под собой, крышу – над головой, руки и бороду Волоса, мать на шкуре, голую и в крови, она спит, видит и никогда не вспомнит, что видит, разве что во сне, во сне все доступно человеку, что с ним может и не может случиться. Ибо сон – это земля и небо, прошлое, и настоящее, и будущее. Во сне нет грани земле, времени, а значит, во сне-то и есть главная жизнь, ибо там равны и раб, и царь, и бог, и зверь, и даже он, Емеля, хотя не умеет говорить, ходить, петь, мыслить, а умеет только кричать, и есть, и еще болеть, и не понимать этого. И все-таки умеет жить, как живут дерево, солнце, птица, медведь и его – Емели – мать Лета, и его отец Волос, и его первый отец, мохнатый жених.
И потому первой молитве научит Емелю голос русского Бога.
И то будет молитва Ему. Вот начало ее:
Глава молитвы Емели о сне
«Пошли мне сон, Господи, защиту от врага моего, врага брата моего и врага сестры моей, от руки и закона, и власти, и силы, и слов, и больших владык, летящих как мотыльки на огонь власти и сгорающих в ней; от голода и чумы, от пожара и нашествия, метели и бури, от волн на море, что топят суда и лодки в пучине своей, защиту от зверя жадного и гада жалящего. Защити от четырех черных стихий, живущих вокруг меня и во мне; от болезней невидимых – от зависти ближнего и зависти во мне, от ненависти ближнего и ненависти во мне. От безумия ближнего и безумия во мне, от суеты ближнего и суеты во мне, Господи.
Ибо там, во сне, нет воли иной, чем Твоя, власти иной, чем Твоя, мира иного, чем Твой, там карают и милуют, ведут и оставляют лишь по знаку Твоему, Господи.
И нет там жизни земной, в которой люди, болея совестью своей, страхом своим, любовью своей, еще более убивают и лгут, крадут и предают, и мстят, и доносят, не понимая друг друга и себя тоже, Господи.
Закрой сном и эту жизнь, и эту смерть, хоть на час ночной опусти над ними железный занавес, что легче пера голубиного, легче пуха тополиного, легче паутины летящей, и пошли мне видеть мир, где законы человеков спят, где не творит человек вред врагу и другу своему; даже если он палач или разбойник, плут или вор, владыка или исполнитель воли злой или закона злого.
Где каждый свободен и нечаян в поступке и мысли своих, как свободно и нечаянно облако, гонимое ветром, как свободен и нечаян водопад, падающий с утеса, как огонь в лесном пожаре, как свободна трава, пробивающая камень, где все то, что не здесь, и все здесь, что там, и человек одинок, как один был вылеплен и рожден.
И человек – все, и все – он, и нет связи с тем, что ему дано не Тобой.
И сон мой – это жизнь того, что еще не пришло. И сон, как одна из четырех белых стихий, дарован человеку, как любовь, как боль, как страх, не руководим волей и мыслью власти земной.
Иже сон – все. И сон – огонь, а жизнь – часть сна, как часть огня – оставшийся, остывший, холодный пепел.
Сном я спасен и спасусь.
Сном я свободен, и сном я – часть неведомого, имя которому сначала – смерть, а потом – все, что потом.
Пошли мне сон, Господи, как пеплу посылаешь землю и воду, и свет, чтобы взошел хлеб и накормил прах мой, чтобы я был и видел между жизнью и смертью то, что неведомо, но знакомо, что непонимаемо, но видимо, что мучительно, но не смертельно, что доступно, но не разгадано, что явлено, но не уловлено, что существует и недоступно, как сам ты, Господи!..»
Главы, повествующие о Москве и ее обитателях в день рождения Емели 24 марта 980 год
Лета уснула, ее сестра спустилась с горы к Москве-реке, набрала кожаное ведро воды, бросила туда листок со священного дуба, нитку из полотенца, что вышивала Лета, когда ворожила жениха себе. Поднялась сестра по горе опять, родильным священным полотенцем обмыла тело Леты, укрыла ее холстом белым с красной полосой и отошла в сторону и стала смотреть, как спит в люльке спеленутый ею Емеля и как спит Лета, устав от муки, и боли, и крика, и стала слушать, как вокруг их дома скачет Волос, наряженный в медвежью шкуру, и волхвует, колдует, чтобы жил Емеля тыщу лет, чтобы был он счастлив в судьбе своей и враги его погибли от Велесовой кары, и чтобы любил он своего отца, как отец почитал своего отца, деда Емели, Щура и Пращура, и чтобы Емеля выучил молитву от всех бед: «Чур меня, чур меня», и когда было страшно, чтобы свистел Емеля и отгонял и духов, и бесов прочих. И сестра Леты завороженно уснула, околдована песней Волоса. Вот песня Волоса:
Глава песни Волоса
«Велес – бог мой по отцу моему, дерево рода моего. Род – бог мой по деду моему, птица Мугай – по матери моей, и птица Мугай – по жене моей, Мокошь – по деду жены моей, и Лета – по прадеду жены моей, вы всемогущи и вы всевышни, вы растворены в солнце, в туче и воде. Вот лежит сын мой, Медведко, именем мужа великого, именем моего деда названный. Войдите в его глаза, уши, руки и ноги его, в сердце и в плечи его. Пусть он живет столько, сколько род его живет. А живет он тысячу лет, пусть он ест столько, сколько ел мой дед, пусть он знает и холод, и голод, как знал дед мой. Пусть он переживет и меня, и мать мою, и пусть если и ранит его зверь в лесу, стрела в поле, нож на родине и на чужбине, то до смерти не убьет. И ты, Москва-река, не оставляй без воды тело его, горло его и кожу его. Берегите сына моего, и те боги, которых имени не знаю, но которые – есть…»
Вот так пел и бил в бронзовые громотушки отец Емели – Волос и жег коренья и травы. В медвежьей шкуре, подпоясанный белым поясом, и в мягких сапогах, и подол рубахи его белел, выглядывая из-под медвежьей шкуры.
А кругом пели птицы, внизу бежала Москва-река, и стояло двенадцать домов на берегу, как раз где сегодня Кремль, на холме, на месте Успенского собора и Ивановской площади, и из каждого дома шел дым, то готовили праздничную еду в честь рождения у волхва Волоса, что при храме Велеса, сына Медведко от жены его – чародейки Леты.
В доме рядом с храмом, справа, на восток, жил Ставр и семя его – пять сыновей с женами. И у всех у них было семь сыновей и трое внуков. В доме правее храма жил Святко. И у него было шесть сыновей, у троих – жены, а трое – еще малы для женитьбы, и пять внуков. А еще правее от храма жил Малюта, и имел он трех сыновей, с женами, и десять внуков.
А слева от храма жил Добр со своими. И было у него сыновей числом семь, у двоих – жены, и пять внуков. А за этим домом еще далее влево храма – Третьяк со своими. И было у него шесть сыновей, и у них – пять жен и двенадцать внуков. Еще левее храма на запад жил Мал, с семью сыновьями, и четыре из них имели жен, и было еще девять внуков.
Выше храма на север, после дома Волоса, стоял дом Ждана с тремя сыновьями, тремя женами и семью их внуками. А выше еще дома Ждана от храма стоял дом Кожемяки, в котором жили девять сыновей и семь жен их, и было у Кожемяки пятнадцать внуков.
А ниже храма на юг стоял самый большой дом, и жил в нем Боян, с двенадцатью сыновьями, десятью женами их и двадцатью внуками Бояновыми. Еще ниже от храма возле толстой сосны жил Храбр. И имел он всего двоих сыновей с двумя женами их и семью внуками. И совсем низко от храма возле ракитового куста стоял дом Нечая. У него было пять сыновей, три жены их и пять внуков Нечаевых.
И была жена Ставра именем Чернава.
У Святко – именем Досада.
У Малюты – именем Милава.
У Добра – жена именем Купава.
У Мала – именем Бажена.
У Волоса жена именем Лета.
У Ждана – именем Людмила.
У Кожемяки – именем Малуша.
У Бояна жена – именем Доброва.
У Храбра – именем Забава.
И было дочерей у Ставра три, именем Белуха, Истома и Неулыба.
У Святко – тоже три дочери, именем Несмеяна, Богдана да Зима.
У Малюты две дочери, именем Смеяна да Некраса.
У Добра – четыре дочери, именем – Краса, Люба, Немила да Ждана.
У Третьяка пять дочерей – именем Молчана, Улыба, Злоба, Правда да Тула.
У Мала всего одна – именем Лада.
У Ждана три дочери, именем – Бессона, Горяна, Хотена.
У Кожемяки одна дочь – именем Поляна.
У Бояна две дочери – именем Сорока да Десна.
У Храбра четыре дочери – именем Карела, Правда, Береза, Лиса да Голуба.
У Нечая две дочери – именем Горазда да Мила.
И все они готовили, жарили и варили на воде Москвы-реки еду, чтобы отпраздновать рождение на свет Медведко, который родился в доме, где жил Волос и жена его чародейка Лета. И это был первый день жизни Емели, и это был праздник пробуждающегося Медведя, который стоял возле крайнего дома и слушал, как кричала жена Волоса, и ушел, когда стихла она и закричал Емеля.
Глава о первых летах жизни Емели в Москве и первых словах, сказанных им
И началась жизнь Емели. Каждую зиму спал он до первой капели, летом ходил с Летой за травами, по ягоды да грибы, сначала за спиной у матери, потом рядом, сначала, ползая, собирал травы, ягоды, а потом – и на ногах своих, и отцу помогал Емеля. То погремушку медную почистит, то медвежью шкуру – порвется – починит, то пояс, расшитый крестами, в Москве-реке постирает, вот только молчал Емеля. До восьми лет ни слова. Уж отец и мать бились над ним и так и этак, все дети вокруг как дети, уже петь умели, не то что складно говорить, а этот все понимает, что ни скажешь – сделает, а молчит. Ему уж и мать: «Скажи да скажи – Лета» или отец: «Я – Волос, скажи, как меня зовут». А Емеля насупится, голова вниз, глаза в землю и молчит. Уж его и бил отец, и била мать, и лаской, и пряником – все молчит. А в восемь лет, в пятницу, главный день недели, случилось вот что.
Дома были малые дети да бабы, а все, кто постарше, и Ставр с сыновьями да родственниками, в лесу были, со стрелой, да ножом, да топором на охоту пошли. Святко с сыновьями да родственниками – с посудой под мед. «Увы – не погнетши пчел, меду не едать». Лета с бабами – по грибы да по ягоды, а сама еще и травы ищет: разрыв-трава от головы да груди, мята – от зубов хороша. А и Волос ей помогал травы собирать, только уж он один ходил, такие травы знал, что и руку, и ногу вылечит, и живот болеть перестанет, а если надо, то и врагу такую боль устроит, что по земле кататься будет и орать что есть мочи, а то и вовсе окочуриться может. Разошлись так вот по лесу, кто где, бабы песни поют, мужики, те, наоборот, затаились, зайца, кабана или оленя ждут, ветер идет ласково, солнышко светит ясно. Теплынь. Серпень, или август иначе. День седьмой – яблочный день вечером праздновать будут. А в то время пока они делом заняты, пока девки «Плыли уточками, да с милым селезнем» поют, Лета заводит, а девки в разноголосье вторят: «А по реке Москве, словно по морю», – в это время в доме Ставра пожар случился. Сначала-то крыша у Ставра загорелась, а потом и соседний дом Святко, а потом и соседний Малюты, а там и другие огнем пошли, дети орут, бабы воду носят из Москвы, а Емеля вскочил да в лес побежал, бежит через поле к лесу и орет во все горло: «Пожар, пожар… Волос, Лета, пожар…»
В лес вбежал, споткнулся – да лбом о березу, и затих, много ли, мало ли прошло, очнулся, а вокруг его медведь, и над головой медведь, и за спиной медведь, и внизу медведь, и вверху медведь.
– Ах, дитятко, – говорит медведь, – зашибся, давай я тебя донесу, не туда бежишь, не в ту сторону.
И сам тоже бежит. Как только до баб добежали, поставил медведь Емелю на землю.
– А теперь кричи, – говорит, и сам ушел. Емеля слабый, в голове гудит, а закричал опять сильно, вспомнил:
– Пожар, – кричит. Бабы петь перестали, Лету позвали, к Емеле подбежала мать.
– Пожар, – говорит Емеля и сомлел.
Бабы мужиков покликали, в деревню все бросились, а только три дома спасли, да еще в центре самом – храм Велеса, у него только крыша тлеть начала, да и то немного: сверху земли было насыпано порядком. А когда все очухались, когда мужики в лес ушли, с топорами, опять избы ставить, а бабы занялись каждая своим делом, спросил Волос Емелю, что же он это восемь лет молчал, а Емеля и скажи ему:
– А о чем, отец, говорить-то было?
Помолчал Волос, подумал и как бы про себя сказал:
– Может, и мое место займешь, вот если б ты еще и зимой не спал.
Но Емеля опять только голову опустил. А через месяц другая беда пришла, едва только избы поставили да оставшиеся подлатали.
Глава о том, как мор в очередной раз пришед в Москву
Стали умирать люди. Сначала в семье Малюты один сын умер, потом и жена за ним, а потом у Святко сноха, а потом и у Ставра сразу трое: два дитенка да жена. Прошла неделя, пятница на носу, «один камень много горшков перебьет», а уж десять человек как не бывало, а то хлопотно, каждого сожги, да не одного – петуха с ним или курицу, а то и птицу какую, что в лесу убили, каждому положи рядом глиняного Велеса да Мокошь глиняную, а уж Волосу сколько работы, каждого в дальний путь проводи, каждому заклинание положи. И Лета не без работы, за пазуху траву райскую сунуть каждому надо, чтобы было с чего в раю землю вспомнить. Горят костры, а кругом люди кричат, поют, пляшут, а уж еще пятеро животом маются, тяжелая пора.
Солнце, тепло, трава зелена, кой-где листья у берез да кленов золотые да красные, как седина на голове леса. Рубахи на всех белые, все вроде и любят друг друга – «Где любовь, там жито живет», а мрут люди. Как ни скакал Волос, как ни бил в колотушки, не помогало. Потом и чародейка Лета за свое дело принялась. Четыре дня в четыре чары, в каждую из четырех речек воду собирала. А потом встала меж них на колени. На все четыре стороны света чары смотрят. В каждой чаре по четыре воды. А воды Москвы нет ни в одной.
В первой чаре Проток да Капля, Пахорка да Ольховец от ветра словно как рябью подернуты.
В другой чаре Студенец да Ходынка, Клязьма да Копытовка плещутся.
В третьей чаре Сивка да Пресня течет, да Кокуй с Черторыем смешаны.
А в четвертой чаре Хинка с Неглинкой, с Серебрянкой да Яузой друг о друга трутся.
Лета глаза закрыла, сначала руки крест-накрест в север да юг окунула, потом стряхнула да на обратный крест-накрест в восток да запад пальцы опустила, а сама приговаривает:
«Вода, водушка, вода чистая, светлая да холодная. Ты нас в жару спасала, ты нам просо растила, ты нам жито дарила и ты, Пахорка, да Капля, и ты, Ольховец да Проток. Помоги, вода-водушка, людей поднять, как ты в жару просо да жито подымала. И ты, Ходынка, и ты, Студенец, и ты, Клязьма, да ты, Копытовка.
Совсем голова к земле клонится: а ты брызнешь дождичком в Велесов день, и опять, смотри, стоит поле ровное.
Ты течешь туда, куда мне путь закрыт, в море Черное, море страшное, где мертва вода, и ты, Черторый, и ты, Кокуй, да и ты, Пресня с Сивкою.
Ты пришла ко мне из тех земель, где волк не живет, где птицы нет, где лежит волна моря Белого, моря тихого и студеного, где жива вода плещется. Там Хинка была да Неглинка была, Серебрянка была да Яуза.
Помоги мне, вода-водушка, я тебе жизнь отдам, отдам силу свою, милая, а ты разлетись брызгами, покропи моих сродников мертвой водой да потом живой. На кого капля падет, пусть тот жив будет. Кто болен был, выздоровеет. Хворь, да недуг, да боль в лес уйдут да березе достанутся».
И берет чаши Лета, несет по кругу и на каждого водой пригоршней брызг, а у самой глаза как не здесь. А к тому, кто лежит и подняться не может, подойдет и тоже покропит. Умирать стало меньше, но все еще мрут, и тогда-то и пришел час Леты. Болезнь эта всех съест. И Волос, и Лета, и их волхвование, и колдовство слабы против врага их. Знает Лета, и знает Волос, что дальше делать. Ничего друг другу не сказали, только посмотрел Волос на Лету, а она на него. И медведь тут как тут – подошел к храму, и стоит, и плачет, а потом опять ушел. И откладывать нельзя.
Последняя ночь у Леты только и осталась. Подошла она к Емеле, ничего не сказала снаружи, а внутри все сказала такое, что Емеля сердцем вздрогнул, как на овцу клеймо выжигом ставят, так и свой знак в сердце Емели оставила, да еще желудь с Велесова дуба в руку ему сунула, и пальцы его своими пальцами в кулак зажала. И отошла.
А Волос уже по домам ходит. В каждом дому Лете по мужу на последнюю ночь выбирает, а утром на заре, как солнце взойдет по огню да дыму, уйдет от них Лета за синие моря, за высокие горы к Пращуру их Велесу, просить, чтобы родичей не трогал, оставил в живых, а то род их пресечется, как бывало в их краях не раз, а пресечется род, нет большего греха, тут не то что жизни не жалко, тут и муку любую за людей принять можно.
Глава о Велесовом храме
И пошли тут сборы. Завели Лету в Велесов храм. А храм этот всех домов выше, лемехом покрыт, из дерева священных дубов рублен. Длиной он в шестьдесят локтей, шириной – в двадцать, а высотой – тридцати локтей, а другой мерой – тридцати метров в длину, десяти – в ширину и пятнадцати – в высоту. Как бы три квадрата вслед друг за другом поставлены.
В голове храма алтарь, яблоневым, ореховым, грушевым деревом да чудной березой обшит, и весь резьбой затейливой украшен, на которой русалки, берегини, вилы да сама мать сыра земля с четырех сторон в самую середину алтаря в высоту смотрят.
А высота алтаря двадцати локтей, а посреди его – окно, каждая сторона в десять локтей, а сквозь это окно вверху в горнице Велес виден, свет на него сбоку поверх окна падает, из дуба священного Велесов лик резан. Туда Лете ход заказан – святая святых. Это Волоса место; да и то раз в году в день пробуждающегося медведя. А храм алтарем, как стрелка компаса, на север повернут, на самую Полярную звезду смотрит, что на небе, в конце хвоста медвежьего, маячит, сама вокруг себя ходит. С этой звезды северный человек пришел. А там, где в центре неба Полярная звезда стоит, Божественный день и Божественная ночь поровну время делят.
Второй квадрат – тоже двадцати локтей каждая стена – место, где каждый день Волос службу правит. В центре огонь горит, на каждой стене предки трех родов, и всякий из своего дерева резан.
На северной стене – предки Волоса, Ждана и Кожемяки из чудной березы, осины и липы: медведь, волк, сохатый с человеческими лицами.
На южной стене – из груши, липы, сливы предки Бояна, Храбра и Нечая: орел, ворон и теленок.
На западной стене – из рябины, ели и тополя резаны предки Добра, Третьяка и Мала: конь, сом да гусь.
На восточной стене – из ивы, сосны да пихты предки Ставра, Святко и Малюты: баран, козел да селезень.
И, наконец, в самом южном квадрате, двадцати локтей каждая сторона, место Лете назначено.
Вот и выходит, что храм Велесов, как и Соломонов, в длину шестьдесят локтей, только в Соломоновом храме святая святых на запад смотрит, а в Велесовом – на север, но если их сложить, крест выйдет.
В этом третьем квадрате и будет жить эту ночь Лета, лежа на жертвенном столе, льном застеленном.
А кругом жертвенного стола, немалой кровью политого, полотном укрытого, холсты белые с красной да черной вышивкой, в центре деревянный столб стоит, а вокруг него с четырех сторон лики вырезаны. Четыре лика вверху, с какой стороны ни зайдешь, все Велес на тебя смотрит. С одной стороны, с севера, – хмур он, воин. С запада – умен да мудр. С востока – хитер да лукав. С юга – лик царский, надменный.
А под ними – Мокошь. С севера – мать. С юга лицо дочери смотрит, с востока – жена. С запада – воин. Еще ниже – кони, еще ниже – птицы, а совсем внизу по солнцу вырезано с четырех сторон. С запада – колесо. С юга – цветок. С востока – квадрат, на четыре части деленный, с севера – ноги по кругу идут – Полярная звезда, которая недалеко на небе от Волоса-бога, что ковшом по небу разлегся.
Раздели бабы и девки Лету догола, стали собирать ее по ленточке да по ниточке. Волосы в одну косу заплели. Как на тот свет идти, так надо одну косу толстую, чтобы ею след заметать, чтобы зло за ней на тот свет не попало.
Ленты в косу, чтобы свои видели, ленты красные, как огонь, на котором ей гореть, и огню – жертва. На руки браслеты бронзовые, чтобы знать после, где руки были, когда сгорит Лета, а поверх тела рубаху, не такую, как в лес ходила, и не такую, в какой с мужем спала, а ту, просторную, как поле, как небо над головой и длиною до полу, и рукава до полу, зашитые, как у той рубахи, в которой дождь вызывала, которая вся в крестах, ромбах, птицах, да «грозой» вышита, что белым-бела, выстирана, да чиста, редко она бывает нужна, хотя в каждом храме такая есть… Девки кругом плачут, бабы плачут, песни поют: «Ты прости нас, матушка, ты прости нас, Летушка»… – и в слезы.
А она смеется: «Да я там счастлива буду, если бы не Медведко, да Волос мой, я бы с одной радостью…»
А бабы опять: «Ты прости нас, матушка, ты прости нас, Летушка…» и хоровод идет, да не посолонь, а все против солнца плывет…
Глава о прощании
Емели и Волоса с Летой
А вот уже и вечер на Москву-реку опускается, уже и звезды зажглись, и луна в свете прибавила. Первым Емеля к Лете в храм зашел. Встал на одно колено. Она ему только голову взлохматила тихо так, ласково, и слезинка одна на темя Емели упала. Потом Волос вошел, встал на одно колено, его тоже только погладила по голове и тоже слезинкой омыла.
Вот и все.
Она уже по ту сторону здешней жизни. В эту ночь у нее одиннадцать мужей будет. От каждого дома по мужу. Обычай этот никто нарушить не может.
Нет обычая – нет и народа, нет обычая – нет и дома. На шаг отступи – и конец народу, и конец дому, как кирпичи без цемента развалятся, как ни хороши они сами по себе, и никакой храм и никакой дом стоять не будут. И никакая стена удар достойно не встретит, да что стена – столб для ворот – не свяжи его цементом – от ветра на землю ляжет. Помнил этот завет Емеля, когда свой город строил, он не город строил, он завет лепил из надежды и страха за землю свою.
Как вчера Волос в последний раз любил Лету. То ли она плакала, то ли стонала, то ли он пел, то ли ворожил. Сколько темных, да колдовских, да тайных, только их – слов – было выдохнуто. Вся спина у Волоса в кровь, только-только засохла. Засмейся – болит, наклонись – болит. Не скоро эти рубцы заживут, во всяком случае до смертного часа Волоса добела не сойдут. Как будто, падая, зацепилась Лета за скалу, прежде чем упасть в смерть. А скала эта – спина Волосова. Все ногти обломала Лета об него. И спасибо Лете за боль, дома лежит, стонет, на спину лечь не может, и не все время о том, что завтра Лета дымом в небо уйдет, думает. Спина горит.
На улице никого. Звезды в небе высоко. Тишина над Москвой, как туча, повисла. И Емеля не спит, и Волос не спит. И вся Москва не спит.
Глава о последней ночи Леты перед встречей с ее жертвенными мужьями, которые с Летой пошлют в другой мир просьбу о защите и помощи оставшимся родам на московской земле, куда пришел мор
А Лета в храме – одна. Времени ей одной быть два часа до полуночи. И первые полчаса она должна молиться за род свой и род мужа ее – Волоса, и зажгла Лета светильники вокруг его, что стояли с четырех сторон. И светильники были, как и чары ее, в которых она держала воду четырех речек, из серебра. И были они украшены вилами, берегинями, роженицами и кикиморами, и был в них густ и бел кабаний жир, и плавал в них фитиль из дурман-травы, и когда зажгла их, четыре тонкие струйки дыма мелкими тихими кольцами поплыли, не расходясь и не растворяясь в воздухе, вверх к потолку, и дым был синь и тонок, как будто паутина на солнце в ветвях ракитова куста, возле которого венчали Лету и Волоса приезжавший из самого Новгорода верховный жрец Богомил и единоутробный брат Леты – Добрыня.
Не понимала Лета все слова Богомила, но запомнила: «Теперь вы – кость одна, и плоть одна, и душа одна, и мысль одна, и слеза одна, и радость одна, а надежды две, а радости две, и веры две, и каждая друг для друга и как корни одного ствола, как ручьи одной реки, как буря двух ветров, как два костра в одном пожаре».
А так ли? Один костер сгорит, другой не зажжется, один ручей паром вверх уйдет, а другой не шелохнется, один корень огонь сожжет, а другой жить будет, один ветер дымом вверх уйдет, а другой ветер дуть будет, чтобы пламя выше летело, и тут же забыла мысли свои, испугалась их, и встала на колени, и посмотрела вверх на Велеса, и опустила голову, и вдохнула дым дурмана, и положила лоб на алтарь перед Велесом, как стрельцы перед Петром опускали голову на плаху, что приносили с собой, и топор вонзали в плаху рядом с головой, и покорно ждали часа стать жертвой, – так и Лета опустила голову на камень, отполированный рекой крови и шерстью, кожей человека и животного, и лоб ощутил печальную память камня, святую память камня, жертвенную память камня, и в Лету вошло ощущение, что Велес принимает ее кровь и ее огонь, и стала молиться про себя тихо и истово.
И в молитве своей поминала она семь колен Волоса, и доходила до Велеса, щура Волоса, и поминала семь родов своих и доходила до Берегини, щура рода ее, и назвала четырнадцать имен рода Емелина и Берегини и Велеса – предка Емелина.
А туман дурман-травы, как сон – на мягких лапах, как кошка за мышкой, на брюхе, как змея, неслышно по траве, как тополиный пух по тихому ветру, как молоко, пролитое на стол, медленно, по капле капающее на сосновый пол, тек туман дурман-травы в ее тихую душу, и слушала Лета голоса неясные, голоса всех предков своих и Волосовых и начинала видеть, как выходят они из тумана и каждый около нее останавливается и складывает помощь свою, и одна помощь – то цветок алый, и другая помощь – хлеб ржаной, и третья помощь – лист клена, и четвертая помощь – ветка воды, и пятая помощь – кувшин дыхания Велеса, шестая помощь – камень ветра, который завтра ляжет ей на грудь, когда она дымом подымется от земли, чтобы сразу не улетела далеко-далеко. А седьмая помощь – не сказать – не узнать. Лобное место, в трубку свернутое, в которой – язык огня, а на конце – желудь, а внизу – печать сургучная, и на ней – двуглавый орел, и на шее его – рана, и на ней – кровь, и каждая капля своего цвета, и капель пятнадцать, и дым от каждой капли… – и тут душа Леты вытянулась вся, свернулась дымом и винтом ушла в небо. И поняла Лета, что она – дерево, и корни дерева – в небе, и своей рукой, легкой и смутной, как дым, подняла она топор, что лежал на краю облака, и стала рубить свои корни, и корней было семь, как звезд Большой Медведицы, как братьев Рши[2]; когда рубила она, плакала, как ребенок, и плач был песня, а музыки не было вовсе, и когда обрубила последний, услышала удар медного грома и стала опускаться на землю, как опускается тополиный пух, как опускается снежинка в безветренную погоду, как опускается паутина, сорванная крылом пролетевшей птицы, как дыхание умирающего человека. И уснула Лета, и сон был крепок, и длился он все два часа, и не сделала Лета, что сделать должна, и, когда открыла глаза, быстро прошептала молитвы – и за второго Отца Емели, и за всех зверей, что летают, ползают, бегают, и тех, что живут в земле, и потом – за всех людей, что живут в четырех сторонах света, и потом – за все звезды, что упадут на землю и имя им будет «полынь», и, когда закрылись губы, сказав слово «полынь», увидела Лета, как первый ее муж вошел в храм.
И было то в полночь в яблоневый день шестого серпеня, или августа, 10 989 год от сотворения первых человеков, или 989 год московского времени.
Глава о Лете и ее первом жертвенном муже, мальчике Горде, для которого Лета – первая в его жизни
А первый жертвенный муж был Мальчик – именем Горд, пятнадцати лет от роду, из Ставрова дома, он остался старшим мужиком в доме.
Ложе широкое, светильник горит, чуть копотью вверх течет. Жир кабаний густ. На ложе из дуба тесаного цвета теплого сена гора, на сене холст бел. Вошел мальчик, не знает, куда руки деть, и что делать с Летой, не знает. Ну, объяснили ему девки, что сначала с Леты надо будет рубаху снять и в голову положить, а потом лечь на нее, а там все само покатится.
Мнется Горд, идти боится, сколько раз Лету видел, и нравилась она ему, а кому Лета не нравилась, а тут испуг на него такой напал… И то – она там живет, а не здесь. Страшно.
Приподнялась с ложа Лета, поманила к себе:
– Иди, иди ко мне.
Горд вспыхнул и подошел к ложу.
– Сядь сюда, – сказала Лета. – Тебя хоть научили, что делать-то?
– Научили, – сказал Горд и неловкими пальцами стал тихонько подымать рубаху, которая была надета на тело Леты. Рубаха поползла выше. Лета легла и чуть выгнула тонкую спину и чуть открыла ноги. Горд поднял еще выше, и вдруг пот выступил у него на лбу. Он увидел…
Волосы были рыжие, мягкие, кольцами, под ними кожа тонкая, хрупкая, алая, беззащитная. И что-то произошло с малым – он весь напрягся, задрожал, руки суетно досдернули рубаху. Грудь была бела, нежна, крепка и правильна, как стог сена на поле, как облако на небе, как яблоко на дереве.
Лета улыбнулась. Горд сдернул с себя рубаху, неуклюже ткнулся ей в грудь, неуклюже облапил Лету, все тело Мальчика перевернуло, выкрутило, закружило, огонь опалил его снаружи и ожег грудь, глаза закатились внутрь и видели только себя и не видели вовне.
Он задышал отчетливо, резко, сильно, как дышит насос или цилиндр в моторе. Лета улыбнулась опять. Взяла его руками и положила в себя, и судорога прокатилась по телу Горда. Так кролик проходит внутри тела удава, так ток, попадая в тело, уходит в землю, так рвота сотрясает тело от кончиков пальцев до головы.
Лета ничего не успела почувствовать, а Горд затих. Он был без сознания. Лета тихонько сняла его с себя. Положила рядом. Встала. Побрызгала водой из своей чаши. Горд открыл глаза. С удивлением посмотрел вокруг. Она надела на него рубаху. И, еще ничего не вспомнив, на мягких заплетающихся ногах, он вытек из храма. Он не скоро и потом вспомнит Лету, и будет вспоминать ее всю жизнь, пока его не зарежет вместе с Борисом Путьша, но и там, на том свете, он будет искать ее.
Глава о Лете и ее втором жертвенном муже Молчане
Вторым в храм вошел сын Святко – Молчан.
– Давай сначала поговорим, – сказал он Лете и сел на край ложа. Зашуршало сено. Молчан был грузен, тяжел и медлителен. – У меня там дочка, – сказал Молчан Лете, – и, когда мы отдали ее огню, в доме не было птицы, и она там голодна, – меня это мучает, – сказал Молчан, – возьми завтра с собой еще одну птицу.
– Хорошо, – сказала Лета, – больше просьб нет?
– В доме уже умерло семеро, – сказал Молчан, – и я хочу, чтобы им там не было холодно.
– Все зависит от тебя, – засмеялась Лета.
Молчан неторопливо разделся и стал медленно-медленно гладить рукой шею, грудь, живот, колени Леты. И словно нечаянно касаться паха ее, и делал это до тех пор, пока у Леты не подернулись пленкой глаза, пока она не задрожала и пока ее спина не стала выгибаться вслед руке Молчана.
И тогда Молчан лег на нее и навалился всем, что было в нем бережности, восхищения, нежности, силы, осторожности, медленности, тяжести, и медленно-медленно вошел, и Лета выгнулась, сначала закусив губы, застонала, потом вцепилась руками в волосатую спину Молчана и когтями провела по его коже, выступила кровь, но он тоже не почувствовал боли, он еще медленнее и сильней сжал Лету, и она вдруг внезапно лопнула криком, так пронзительно и громко, что вздрогнула вся Москва.
И долго-долго крик висел в воздухе, и не гас, и не исчезал, и не таял. И когда Лета пришла в себя, рядом никого уже не было. У нее было чувство усталости и гадливости. Странно, она вроде испытывала сейчас то, что испытывала только первый раз, до Волоса, там, под деревом, но это-то было тем более не похоже, что было похоже; и тяжесть легла на сердце, и тут же она вспомнила о птице для дочери Молчана, которую нужно будет взять туда с собой.
Глава о Лете, ее первой любви и ее третьем жертвенном муже Людоте
Третьим был зять покойного Добра. Людота вошел в храм неловко, обиженно, он не подымал глаз на Лету. Вошел и сел не справа от ложа, а слева, около деревянного Велеса, так что ноги упирались в жертвенник. Край острого, выступавшего из глины черепка царапнул ногу, показалась кровь. Капли округлились и, не добежав до пола, застыли на щиколотке. Лета заметила эти капли, Людота – нет.
– И долго ты будешь сидеть? – сказала Лета. – Ночь тебя не будет ждать.
– Не будет, – согласился Людота, – и Лета увидела руку, которая растопыренными пальцами упиралась в ложе, на белом холсте пальцы были длинны и дрожали, и она вспомнила Купалу, ту, ее Купалу, когда они с Людотой вместе прыгали через костер. И когда Людота сжал ее ладонь пальцами, они тоже дрожали. И когда она шагнула за дерево, он обнял ее, волна шероховатой и горячей реки прошла через ее ступни, бедра, сожгла грудь и опалила веки, и слезы потекли, чтобы потушить огонь, вспомнила, что ей пришлось забыть о себе, чтобы через секунду вывернуться из этих рук, уйти к Велесову дубу, потому что она в Купалу была определена, назначена, пожертвована ее Волосу, потому что каждый из них был рожден 22 березозола, или марта, всех ближе к празднику пробуждающегося медведя, и только в Купалу и только они могли зачать того, кто должен родиться 24 березозола, или марта, и кто станет Волхвом, таким, которого не одно столетие ждали на берегу Москвы-реки.
Но то, что испытала Лета с Людотой в ту ночь Купалы, жило в ней, и, наверное, оно вышло в нежность и крик и к жениху ее, и Волосу потом, и потом затаенно на дне ее ощущений текло в ней.
И вот он пришел. Тот, кого не видела она все девять лет, опуская глаза при встрече. Тот, кто жил рядом, имел своих детей, а она могла родить только одного, тот, который сейчас был в соседнем доме, тот, который был закрыт от нее невозможностью быть с ним, долгом, верой, службой чародейки, службой жрицы храма Велеса, жрицы Велесова дуба и матерью будущего волхва, родившегося впервые за двенадцать поколений именно 24 березозола, и вот, когда завтра она определена дымом уйти в небо и оттуда уберечь род от смерти, сообщить всем Щурам и Пращурам рода, и Пращуру Людоты, и Волоса, и Святко, и Емели, чтобы они оберегали род от смерти и огня… Но то было завтра…
А сегодня, между дымом и домом, она была свободна и от своей жизни, и судьбы, и долга, и Велеса, который молча стоял рядом, и Волоса, который ждал наступления утра, и Емели, который сидел на своей постели и плакал, потому что завтра Лета дымом уйдет в небо. Она была свободна от всех смертей, и от голода, и от бога Москвы-реки, и от этого светильника, и от обряда, и от оберега, и от обручей, и от бус, и от височных колец с семью лопастями – им больше нечего было беречь, это тело сейчас принадлежало не ей – оно принадлежало неслучившейся любви.
И Лета сняла с шеи бусы из белого стекла, и она сняла обереги, с ножом и ложицей, и она сняла обручи с рук, с Симарглом на деснице и русалкой на шуйце, и она чуть приподняла голову и протянула руки к Людоте.
– Милый мой, прощай, любовь моя, – и она положила его на спину и села на него, посвятив его в тайное тайных жрицы храма Велеса, и тронулась ладья с солнцем за море. Парус был прям и крепок, и, как ни гнул его ветер, ладья тащила солнце, и внутри нее сидели Людота и Лета.
Лета стонала слова прощальной песни, а уж море швыряло ладью по волнам, и крутило ее, и выкидывало в небо, и опять принимало на свои синие бешеные с белой каймой ладони. За все, чего не было, и за все, чего не будет, стонала Лета, за все, что есть, и за все, что было, пел Людота, а потом корабль стал падать в расступившуюся бездну и падал медленно, медленно – и борта его бились о выступы скал, разлетаясь по щепе, да мачте, да корме, да бортам, и парус сломался и отлетел, а ладья все падала, падала, и пена моря и волны моря медленно скатывались вниз по стенам из железа, камня, и воды, и дерева.
Глава о Лете и ее четвертом жертвенном муже Чудине, чужого рода и чужого обряда и чужой крови
Медленно ее мысли поднимались со дна, куда упал, утонул, вытек, развалился, исчез корабль и все, что осталось от него, рука не могла подняться, чтобы поправить волосы, не было сил вытереть слезы, и Лета как лежала лицом в подушку, так и, почти не шевелясь, несколько раз повела головой, и соломенная подушка холстом своим белым приняла ее слезы, и глаза стали видеть тьму, которая плыла пред глазами, и тьма была сухая.
Иногда в ней появлялись и исчезали круги, которые походили на радугу по цвету, но круги гасли, и опять вспыхивала тьма, но лежать было плавно и легко. Тело узнало знакомое ему, но уже почти забытое ощущение, и вдруг Лета вздрогнула, она услышала запах, хотя не услышала шагов, – зять мертвого Мала, пришлый именем Чудин, неслышно лег рядом. Каждый род пах своим запахом, своего Лета не чувствовала, но любой другой для нее был невыносим.
– Ты пахнешь чужим, – сказала Лета.
– Я бы не пришел, в дому больше нет мужчин.
Лета заплакала, уже другой слезой, любовь уходила от нее, дно затягивала тьма, корабль покрывался илом, флаг и парус таяли, как снег на ладони, как сахар в воде, как соль в мясе, как самолет в небе…
Она была чародейкой, женой Волоса, жрицей Велеса, любовь, как странница, могла заглянуть к ней в гости, заворожить мысли, поносить по волнам, взорвать, сломать, сжечь, но жить она у Леты не могла, ибо Лете некогда быть собой, и в ее судьбе она сама занимала так мало места, как птица в небе, как червь в земле, как травинка в поле, как лист в лесу, как капля в море…
Чудин был чудной, он был чудо, и чудо заключалось в том, что он иначе видел и Москву-реку, и сосну возле храма Велеса и говорил иначе, не как у них в залесье, хотя она знала, что он отсюда и остался один от своего рода, а все, кто жил в Москве, пришли сюда двенадцать отцов назад и остались здесь, и Чудины исчезли, потому что не умели сопротивляться, и всем уступали свою землю, свою реку, свою траву, свои деревья, и, по сути, это Лета – чужая Москве-реке, но не Чудин, но вышло так, что Чудин был чужой, а она была отсюда.
Запах ослаб от мысли, что она чужая, а не он, они принесли свой запах, но запах чуди остался в траве, лесу, листьях леса, и, понемногу, думая, Лета перестала ощущать разницу в запахе, Чудин пах ее медведем. Она вспомнила отчетливо этот запах, медленно перевернулась, посмотрела на него. Чудин плакал. У него были чудные голубые глаза, мягкие руки, вышитая иначе, чем у москвичей, рубаха, черные кресты на вороте, красные на подоле, черные на рукавах.
Чудин только сегодня похоронил единственную дочь Мала – Ладу, свою жену, а вчера – самого Мала. Глаза его были красны от слез и дыма, и у него в роду не было этого обычая, и он внутри был не готов и не настроен взять Лету здесь, в храме. Храм для него был местом жертвенника, молитвы. И он любил Ладу, ее хрупкое, тонкое, бедное, невесомое тело, ее печальную душу, ее песню о медленном огне, который пробивается наружу из-под земли и однажды придет к людям и каждого возьмет с собой обратно под землю.
Любил ее черные волосы, ее пальцы с синевой под ногтями, которыми она гладила его летом на берегу Москвы-реки, когда она сидела возле костра, и любил ее меняющие цвет глаза, которые смотрели туда, где кончались звезды и начинался Бог.
И он не понимал, почему ему надо сейчас стать зверем и любить ту, которую он не любит, ту, которая принадлежит живущему напротив Волосу, и стонать, и разваливаться на куски, как взорванный в воздухе самолет, когда из него вываливается все мертвое и живое.
Но он понимал, что по законам рода Мала от того, как он будет любить Лету, зависит жизнь там его жены, та вечная жизнь, в которой скоро они будут вместе. Но что скажет он ей, когда увидит Лету, и Волоса, и свою любимую…
Странно, но его в эту минуту понимала Лета и потому была бережна, нежна и терпелива с ним. И Чудин был благодарен ей за ее понимание и удивлялся в себе тому, что можно испытать похожее к той, кого он до сегодняшнего дня почти не замечал, потому что Лада была для него и Велесом, и храмом, и небом, и рекой, и лесом, и лугом, он был болен ею, может, сам не понимая, только потому, что больше, чем одну живую душу, чужую душу среди всех чужих, он не мог впустить в себя…
Но что-то в нем происходило помимо его воли и его любви, и Лета, жалея его, помогая ему, закрыв глаза, гладила его, целовала его, пока он не вздрогнул и не затих…