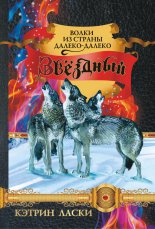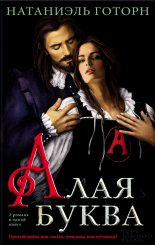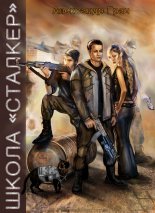Схевенинген (сборник) Шендерович Виктор

– Ну-ну, – улыбнулась женщина, и симпатичная ямочка снова прыгнула на ее щеку. – Сейчас будет готово.
Ему очень понравилась эта улыбка; и вообще в кухоньке ему было хорошо; вот только роста благосостояния народа здесь не наблюдалось совсем. Женщина осторожно поставила на стол тарелку и села напротив.
– Ешь.
У нее был теплый голос, и глаза теплые – и, поглядев в них сейчас, человек вдруг понял, что с этой женщиной он хочет пойти в районный отдел ЗАГСа и там связать себя узами брака. И, поняв это, ужасно заволновался.
– Ты что?
– Нет, ничего, – сказал он и покраснел, потому что ложь унижает человека.
– Ты ешь, ешь…
Он послушно взял ложку.
– Дай-ка пиджак! – Женщина ловко вдела нитку в игольное ушко. – Как тебя звать-то? – спросила через минуту.
Человек медленно опустил ложку в щи и задумался.
– Слава… – проговорил он наконец.
– Слава, – повторила женщина, примеряя к нему это имя. – А меня Таня.
Она тремя взмахами пришила пуговицу и, нагнувшись, откусила нитку. Человек украдкой смотрел на нее, и ему было хорошо.
– Ты не переживай особо, – вдруг сказала женщина. – Перемелется – мука будет…
– Да, – ничего не поняв, согласился мужчина и на всякий случай добавил: – Хлеб – наше богатство.
– А? – Таня поглядела на него долгим, тревожным и удивленным взглядом, и от этого взгляда у человека еще круче перехватило дыхание. – Ты чего?
– Я? – переспросил он. В груди его остро заныло какое-то новое чувство. – Я… – Он отложил ложку. Он решился. – Таня. – Голос человека зазвучал ровно и торжественно. – Я хотел сказать вам… – Он сглотнул. – Давайте с вами создадим семью – ячейку общества.
– Ты… Ты что? Ты с ума сошел? – Маленькие бусинки вдруг выбежали из ее глаз. – Издеваешься… За что?
Она резко встала, отошла к окну и отвернулась. Человек растерялся.
– Я не издеваюсь, – проговорил он наконец. – Я абсолютно нормален. Я серьезно.
Женщина вздрогнула, как от удара, взяла с подоконника сигареты и зачиркала спичкой. Человек насторожился. Он понял, что сделал что-то не так. В повисшей тишине потикивали ходики.
– Странный ты какой-то, – затянувшись наконец, сказала она в стекло и оглянулась. – Слушай, ты чего это, все время?..
– Чего я все время? – Человек изо всех сил пытался понять, что происходит.
– Ну, говоришь чего-то. Слова разные.
– Слова?
– Ну да, – Таня внимательно поглядела на него. – Ну, ты не обижайся только. Но ты будто какой-то ненастоящий, правда…
– Почему – ненастоящий? – раздельно, не сводя с женщины пристальных глаз, спросил человек.
Она не ответила – и тогда жернова мыслей заворочались в его лобастой голове.
– Таня, – сказал он, вставая. Слова медленно сходили с крупных губ. – Я сейчас уйду.
– Подожди! – Ее глаза заглядывали снизу, искали ответа. – Ты обиделся? Обиделся, да? Но я не хотела, честное слово… Господи, вечно я ляпну чего-нибудь! – Она жалобно развела руками. – Не уходи, Слава, сейчас картошка будет. Ты же голодный!
Последние слова она сказала уже шепотом.
– Нет, – ответил человек, чувствуя, как снова начинает плыть земля под ногами.
Он тонул в ее зеленых глазах, дымок поднимался от сигареты, зажатой в тонких пальцах. Он хотел сказать на прощание, что Минздрав СССР предупреждает, но почему-то промолчал, а потом, уже на пороге, сказал совсем другое:
– Таня. Вы – мне. Очень нравитесь. Это правда. Но я. Должен идти. Мне надо.
Говорить было трудно. Приходилось самому подбирать слова, и человек очень устал. Он хотел во всем разобраться.
– Заходи, Слава, – тихо ответила женщина. – Я тебя накормлю. – И протянула пиджак.
Что-то встало у человека в горле, мешая говорить. Он, как маленькую, погладил ее по голове огромной ладонью. Синяя струйка потянулась за ним к лифту.
Человек шел через город.
Он не знал адреса, он никогда не был там, куда шел, но что-то властно вело его, какое-то странное чувство толкало в переулки, заставляло переходить кишащие машинами улицы и снова идти. Его пошатывало, синяя струйка стекала по грязным ботинкам, окрашивая лужи на тротуарах, но человек не замечал ее. Он шел, боясь заглядывать в лица.
Он был чужим в этом бойком, свинченном светофорами городе – чужим со своим пиджаком, со своим ростом, со своими хорошими мыслями, заколоченными в восклицательные знаки.
У перехода человек остановился, пропуская машину, и она окатила его бурым месивом из лужи. Быстро обернувшись, он увидел за рулем холеную женщину, с тоской вспомнил Таню, ее кухоньку, луковицу в баночке на облупленном подоконнике – и насупил брови, уязвленный сравнением, и снова, как тогда, на скамейке, услышал свое сердце.
– От каждого по способности – каждому по труду! – Глухо произнес человек, провожая стремительный «Мерседес», и помрачнел, размышляя о таинственных способностях женщины за рулем. Проходившие мимо представительницы советской молодежи прыснули. «Псих!» – громко сказала одна представительница, а другая, пообразованнее, сказала: «Крэйзи!»
Человек шел через город, и, как почва в землетрясение, трещинами расходились извилины за высоким куполом его лба. Они впитывал в себя этот мир, он начинал понимать его, и что-то нехорошее бурлило в нем. Возле площади с огромным каменным гражданином на постаменте человек перешел улицу по диагонали. «Красный свет зажегся – стой!» – ожесточенно прошептал он, и кривая усмешка обезобразила крупное лицо.
Смеркалось, когда, повернув в затерянный переулок, человек остановился у подъезда старого, с облупленной лепниной на стенах, дома: здесь!
Кукин, чертыхаясь, начал пробираться через полутемный, заваленный листами картона коридор. В дверь снова трижды позвонили – громко и требовательно.
– Кто? – крикнул он, вытирая руки тряпкой, смоченной в растворителе.
– Слава, – ответили из-за двери.
«Храпцов приперся», – недовольно подумал Кукин, открывая.
Но это был не Храпцов.
– А-а! А-а-а-а!!! – завопил Кукин, попятился, обрушил с табурета коробку с красками и упал на полотно «Пользуйтесь услугами сберегательных касс», сохшее у стены.
Вошедший закрыл дверь и повернулся. Кукин сидел на полу и слабо махал рукой, отгоняя привидение.
– А-а, – простонал он, поняв наконец, что привидение не уйдет. – Ты как?.. – Слова прыгали у него на губах. – Ты откуда?
– От верблюда, – ответил гость. Он был грязен и нечесан, глаза горели диким огнем, но отдадим должное Кукину – он-то узнал вошедшего сразу.
Из лежащей на боку банки тихонько выползла синяя масляная змейка. Гость осторожно присел на корточки, поднял банку, втянул носом родной запах.
– Ну, здравствуй, – сказал он художнику.
Художник сидел, выставив вперед острый локоть и отчетливо предвкушая руки вошедшего у себя на шее. Художник был невзрачен, с узким иконным личиком, в старом прорванном свитерке на майку, но умирать ему еще не хотелось.
– Ты меня не узнаешь? – кротко спросил человек. Нервный смешок заклокотал в худой кукинской груди.
Он мелко закивал и, стараясь не делать резких движений, начал подниматься. Гость ждал, сдвинув брови. Совсем не таким представлял он себе своего Создателя, и досада, смешанная с брезгливостью, закопошилась в груди.
– Поговорить надо.
– П-пожалуйста. – Хозяин деревянным жестом указал в глубь квартиры. – Заходи… те.
Темнело. Дом напротив квадратиками окон выкладывал свою вечернюю мозаику; антенны на его крыше сначала еще виднелись немного, а потом совсем растаяли в черном небе. Стало накрапывать.
Потом окна погасли, квадратики съела тьма, только несколько их упрямо светились в ночи. Где-то долго звали какого-то Петю; проехала машина. Дождь все сильнее тарабанил по карнизу, и струи змейками стекали вниз по стеклу…
Художник и его гость сидели на кухне.
Между ними стояли стаканы; в блюдечке плавали останки четвертованного огурца, колбасные шкурки валялись на жирном куске «Советского спорта»; раскореженная банка скумбрии венчала пейзаж.
Художник жаловался человеку на жизнь. Он тряс начинающей седеть головой, размахивал руками, обнимал человека за плечи и снизу заглядывал в глаза. Человек сидел не совсем вертикально, подперев щеку, отчего один глаз у него закрылся, другой же был уставлен в стол, где двоился и медленно плавал туда-сюда последний обломок хлеба.
Человеку было плохо. Сквозь душные волны тумана в его сознание то врывались жалобы художника на жизнь, то вдруг – проглянувшее солнце и маленькая женщина у скамейки, то загаженный темный подъезд. Иногда большие полыхающие буквы складывались в слова «Пьянству – бой!».
Он не понимал, как произошло, что он сидит за грязным столом с патлатым человечком в свитере, и человечек обнимает его за плечи. Внутри что-то медленно горело, краска стекала с ног на линолеум, человек упрямо пытался вспомнить, зачем он здесь, и не мог.
Он посмотрел на маленького в свитере, вытряхивавшего из горлышка последние капли, – и горькая обида опять заклокотала в нем.
– Ты зачем меня нарисовал?
Маленький протестующе замотал руками и сунул человеку стакан.
– Нет, ты ответь! – крикнул человек. Маленький усмехнулся.
– Вот пристал, – обратился он к холодильнику «Саратов», призывая того в свидетели. – Сказали – и нарисовал. Кушать мне надо, жра-тень-ки! И вообще… отвали от меня, чудило полотняное… На вот лучше.
Человек упрямо уставился в стол.
– Не буду с тобой пить. Не хочу.
Замолчали. Бескрайнее и холодное, как ночь за окном, одиночество объяло человека.
– Зачем ты меня такого большого нарисовал? – снова спросил он, подняв голову. – Зачем? – И вдруг пожаловался: – Надо мной смеются. Я всем мешаю. Автобусы какие-то маленькие…
Художник притянул его к себе, обслюнил щеку и зашептал в самое ухо:
– Извини, друг, ну чес-слово, так получилось. Понимаешь, мне ж платят-то с метра. – Разведя руками, он зажевал лучок, а до человека начал медленно доходить высокий смысл сказанного.
– Сколько ты за меня получил? – спросил он наконец. Рыцарь плаката жевать перестал и насторожился.
– А? – Потом усмешечка заиграла у него на губах. – Ла-адно, все мои. Аккордная работа. Двое суток тебя шарашил.
Беспросветная ночь шумела за окном.
– Я пойду, – сказал человек, выпрямился, схватился за косяк и увидел, что маленький в свитере стал с него ростом.
Помедлив, он судорожно потер лоб, соображая, что же случилось. «Ишь ты, – тускло подумалось сквозь туман, – гляди, как вырос». Вместе с плакатистом выросла дверь, выросли плита, стол и холодильник «Саратов»; квадратики линолеума плыли перед самыми глазами.
– Ну куда ты пойдешь, дурачок? Давай у меня оставайся. Раскладушку дам. Жена все равно ушла…
– Нет. – Человек отцепил от себя навсегда пропахшие краской пальцы. – Я туда. – Он махнул рукой, и лицо его вдруг осветилось нежностью. – Там мой плакатик.
– Да кто его читает, твой плакатик? – Плакатист даже заквохтал от смеха.
– Все равно!
Уже у дверей человек попробовал объяснить что-то человеку, но раздумал, только безнадежно мотнул головой:
– Ты не поймешь…
«Он не понимает, – думал человек, качаясь под тяжелым, сдиравшим с него хмель дождем. – Он сам ненастоящий. Они сами… Но все равно. Просто надо людям напоминать. Они хорошие, только все позабыли».
Человека осенило.
– Эй! – сказал он, проверяя голос. – Эге-гей!
В ночном переулке, вплетаясь в шум воды, отозвалось эхо.
– Ну-ка, – прошептал человек, и, облизнув губы, крикнул в черные окна: – Больше хороших товаров!
Никто не подхватил призыв. Переулок спал, человек был одинок, но сердце его билось одиноко, ровно и сильно. Человек хотел сказать что-то главное, самое-самое главное, но оно ускользало, пряталось в черной ночи, и от этого обида обручем сдавила ему горло.
– Ускорим перевозку грузов! – неуверенно крикнул он.
– Прекратите сейчас же безобразие! – завизжали сверху и гневно стукнули форточкой.
Но человек безобразия не прекратил. Он предложил форточке летать самолетами «Аэрофлота», осекся, жалобно прошептал: «Не то!» – и, пошатываясь, пошел дальше. Он шел по черным улицам, сквозь черные бульвары, пересекал пустынные площади, качался у бессмысленно мигающих светофоров – и кричал, кричал все, что выдиралось из вязкой тьмы сознания. Он очень хотел привести жизнь в порядок.
– Заказам села – зеленую улицу! – кричал он, и слезы катились по его лицу и таяли в дождевых струях. – Пионер – всем ребятам пример!
Слова стучались в его горемычную голову, налезали друг на друга, как льдины в ледоход. У змеящихся по мосту трамвайных путей он вспомнил наконец-то самое-самое главное, и остановился.
– Человек человеку – брат! – срывая горло, крикнул он слепым домам, взлетающим над набережной. И еще раз – в черное небо, сложив ладони рупором: – Человек человеку – брат!
Он возвращался на свой пост, покинутый жизнь назад, серым утром этого дня. Огромные деревья шумели над ним, со стен огромных домов подозрительно смотрели вслед огромные правильнолицые близнецы.
Под утро дождь прекратился.
Солнце осветило сырую землю, разбросанные кубики многоэтажек, пустой киоск «Союзпечати», огромное полотнище плаката, стоявшее у проспекта. Сверху по полотнищу было написано что-то метровыми буквами, а в нижнем углу, привалившись к боковине и свесив голову на грудь, приютился маленький человек – в грязном мятом костюме, небритый, с мешками у прикрытых глаз. Человек блаженно улыбался во сне. Ему снилось что-то хорошее.
Суточное его отсутствие никем, по странному стечению обстоятельств, замечено не было, но возвращение на плакат в таком виде повлекло меры естественные и быстрые. В милиции, а потом в райсовете затрещали телефоны, и начались поиски виновных. Милиция проявила потрясающую оперативность, и очень скоро ее представители пришли в квартиру члена профсоюза живописцев Кукина Ю. А., каковой Кукин был обнаружен там среди пыльной кучи холстов, на которых намалевано было по разным оказиям одно и то же целеустремленное лицо.
Сам член профсоюза находился в состоянии, всякие объяснения исключающем. Приехавшие, однако, тоже были людьми целеустремленными – и получить объяснения попытались, но услышали в ответ только меланхолическую сентенцию насчет оплаты с метра, после чего члена профсоюза стошнило.
А к человеку, спящему над проспектом, подъехал грузовик; двое хмурых мужиков не торопясь отвязали хлопающее на ветру полотнище и повезли его на городскую свалку.
В огромной металлической ране у проспекта теперь высились дома, чернел лес, по холодному небу плыли облака и пролетали птицы.
Машину подбрасывало на плохой дороге, и человек морщился во сне.
1986
Дорога
Она сидела на краешке тахты и выла, комкая платок; давя раздражение, влезая в пальто в тесной, с покоробленными обоями прихожей, он успел удивиться: как его могло занести в этот сюжет, в эту квартирку…
– Я позвоню, – буркнул он, сбежал по лестнице вниз и распахнул дверь в слепящий зимний день, в свободу!
До поезда оставалось меньше часа. Черт бы ее побрал, подумал он, черт бы побрал ее с ее слезами и соплями! В окне застыла фигурка в свитере; он на ходу махнул рукой (не останавливаться!) и быстро пошел сквозь квартал – от взгляда в спину, от тоски и нелепицы последних минут: о чем было говорить, все давно сказано, он не позволит себя шантажировать, никакого ребенка.
Он вдохнул полной грудью колкий воздух окраины, подумал: во снегу навалило, прикинул: сколько отсюда настучит? Трешка? Четыре? Надо бы поскорее.
Стоянка такси пустовала, пуста была и дорога. Сбиваясь на бег, он двинул к шоссе – там не такси, так частник, кого-нибудь поймать можно. Не останавливаясь, он выцарапал из-под пальто часы и только тут понял, как худо дело. Проклятый район, и не выберешься отсюда!
Нагребая в ботинки снега, человек бежал наискось – мимо заледеневших качелей, мимо мертвых гаражей; красно-черный, в крупную клетку, чемодан бил по ноге, в груди пекло – скорее, скорей!
По шоссе медленно катило такси; он крикнул, махнул рукой, метнул затравленный взгляд влево и бросился наперерез. С бешеным гудком пронеслась за спиной «Волга», но он успел проскочить и стоял теперь, хватая ртом воздух, на островке грязного снега. Такси укатывало вдаль.
– Сволочь! – крикнул он вслед. Время стремительно уходило, он чувствовал это и без часов – томительным нытьем в животе. Опоздаю, думал он, ненавидя летевшие мимо машины, опоздаю.
Рука устала, но он не опускал ее ни на секунду. Колымага с почти стертыми шашечками на крыле резко вильнула и остановилась, визгнув тормозами.
– На вокзал! Опаздываю! Червонец!
Ну вот, подумал он, пристраивая к ногам чемодан, теперь от меня ничего не зависит. Он похолодел, нашарив пустой карман пальто. Но обошлось – бумажник лежал в костюме. Так можно и заикой стать, подумал он, разворачивая билет. Пятнадцать тридцать две. Эх, если бы хотя бы сорок…
– По кольцу поедем?
Таксист кивнул, повернувшись. Был он жирен, маленькие глазки сияли над небритыми щеками. Окороки рук в черных бухгалтерских нарукавниках тяжело лежали на руле. Ну и тип.
Пассажир откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, пытаясь расслабиться. Должны успеть. Он мысленно прочертил свой маршрут от стоянки такси до вагона, чтобы не дергаться потом, в цейтноте. Не надо было ехать к ней сегодня. Нет, надо! За неделю она бы устроила дел… А теперь? Он мотнул головой, отгоняя неприятные мысли. Позвонит жене? Вряд ли. Ладно, подумал он, время терпит. Кажется, терпит. До какого месяца делают аборты? Покосился налево. Ну и тип.
Мелькнули часы у метро, но они спешили – свои он сверял, ошибки быть не могло. Проспект стремительно уходил за спину. Каждый светофор, без остановки улетевший назад, был выигранным очком. Молчаливый таксист бросал машину в ничтожные просветы; внутри что-то скрипело, но разделительная полоса уходила под колеса и счетчик ритмично отщелкивал стометровки. Ну и колымага, снова удивился он. Интересно, сколько ей лет?
Резкое торможение бросило их вперед; красный глаз тупо уставился сквозь лобовое стекло. С досады он долбанул кулаком по ноге. Таксист усмехнулся, блеснув золотым зубом, пробурчал: успеем… Мигнул желтый; они рванулись с места и, выскочив на свободный ряд, первыми полетели вперед.
– Давно шоферишь? – спросил пассажир, пытаясь отвлечься от этой погони за временем.
– Не, – пробурчал таксист, не отрывая взгляда от дороги. – Вообще-то я лодочник.
– Чего? – недослышал пассажир. – А-а, на «Водном»?
– Ну да, вроде того…
Надо заранее достать билет, подумал пассажир. Лодочник, надо же. Почему лодочник?
Он снова вспомнил о ней: как позвонила утром, сказала «приезжай», он спросил, что случилось (хорошо еще, жены дома не было), а она снова – «приезжай, пожалуйста», а голос такой, что он сразу обо всем догадался. Сидела, как неживая, куталась в плед, как в кокон, когда заговорил о деньгах – заревела, а времени что-либо объяснять уже не оставалось совсем. Зря он вообще завел этот разговор об аборте. Главное, решил же отложить на потом – нет, дернул черт за язык! Никогда нельзя отступать от плана, никогда!
Проползло слева и сгинуло с глаз зеленоватое здание Склифа; ерзая от нетерпения, он не отрывал взгляда от выглянувшего шпиля высотки (там уже рукой подать!) – когда вдруг сдавило сердце; как не вовремя, подумал он, только бы нигде не застрять, только бы больше нигде не застрять!
– Сердце, – глухо говорит человек за рулем, на миг скосив вправо припухлый внимательный глаз.
Они мчатся по Садовому кольцу, с гудением уходит под машину белый пунктир, и впритирку начинают проноситься странные мысли: какое неприятное лицо у этого человека за рулем, что со мною, куда я еду, почему так ноет в груди, и эта испарина, и зимний день расплывается за лобовым стеклом?
– Значит, сердце, – говорит таксист.
Они въезжают под железнодорожный мост; грохот врывается в уши, чья-то рука рвет ему грудь – он не может ни вздохнуть, ни застонать от боли, он закрывает глаза, а когда открывает их —
…навстречу летит неровная, надвое рассекающая березняк проселочная дорога. Небритый человек за рулем напевает что-то на незнакомом гортанном языке, и сквозь гул пассажир слышит свой голос:
– Куда мы?..
– Тут короче будет, – не поворачиваясь, бурчит человек и снова принимается петь.
Стрелка спидометра мотается по шкале, и счетчик начинает вразброд выщелкивать цифры, похожие на годы. Колымага несется по пустой дороге.
– Где мы? – Человек не отвечает. – У меня же поезд! Человек не отвечает.
– Куда вы едете?
Боли почти нет почему-то, но собственный вопрос доносится до него совсем издалека; березняк обрывается, дорога круто уходит вниз. Тяжелая рука переключает скорость.
– Послушайте…
Он смотрит на табличку с фамилией и осекается, прочитав. Лодочник, врывается в мозг. Лодочник! Нет, этого не может быть, этого же не бывает!
Но излучина реки уже сверкает на солнце.
И тогда он все понимает и начинает кричать. Он кричит, вжавшись в дверцу, пронзительно, на одной ноте. Потом крик переходит в скулеж.
Машина тормозит у переправы; лодку, покачивая, бьет о мостки.
– Я не хочу! – визжит он, закрываясь чемоданом. – Мне на поезд!
Рука в мелких черных волосинках выключает счетчик.
– Выходи.
Пассажир затравленно мотает головой.
Лодочник молча выходит сам. Пассажир вцепляется в дверцу обеими руками; сильный рывок выбрасывает его на морозный воздух. Красно-черный чемодан медленно, как в замедленной съемке, валится в снег. Черные полы пальто лежат на белом крыльями раненой птицы. Стоя на коленях, пассажир начинает зачем-то застегивать отскочивший замок. Пальцы не слушаются его.
– Идем.
Тяжелая рука на плече.
Это нечестно, кричит кто-то внутри, почему я? Я еще молод, я не хочу, у меня билет на поезд! Рука в бухгалтерском нарукавнике легонько толкает его в спину – вниз, к черной воде, на которой, скребясь о низкие мостки, покачивается одинокая лодка.
– Отпусти меня, – тихо просит пассажир.
Человек пожимает плечами: ничего личного, план по перевозке…
А я, кричит кто-то внутри, как же я? Тропинка петляет сквозь молодой осинник, все это, как сон, но проснуться не получается. Ноги слабеют; поскользнувшись, он инстинктивно хватается за тонкий шершавый ствол – тот чуть пружинит под рукою, согревая ладонь. Весна! Будут лужи на асфальте, и шальной мартовский воздух, и женщины бабочками выпорхнут из зимних одежд… Как глупо, какая тоска, я не хочу в твою лодку, старик, отпусти меня!
Птицы взмывают над перелеском, сорванные хохотом лодочника.
На мостках, сжимая в кулаке монету, стоит женщина с бледным зареванным лицом. Широкая черная река мерно проходит за ее спиной.
– О-го-го, иду! – радостно кричит небритый старик и быстро ковыляет вниз.
– Стой тут, я мигом, – говорит он, обернувшись. – Знакомая твоя, вишь, раньше успела. В порядке, значит, очереди…
Вороны орут в небе. Ветер начинает раскачивать стволы. Еще не веря в спасение, человек в черном пальто, скуля и цепляясь за кустарник, бросается карабкаться наверх по склону – туда, где возле такси с распахнутой дверцей лежит на снегу его чемодан.
Там, наверху, он оборачивается. Лодка покачивается на середине реки, и лица женщины уже не видно. Визг уключин гонит его, падающего и тяжко бегущего прочь по снежной целине, настигает и снова гонит прочь, белое поле блестит и расплывается перед глазами, медленно превращаясь в залитый светом потолок…
Он любил стоять у окна палаты, глядя на медсестричек, перебегающих из корпуса в корпус в накинутых на плечи пальто. Дело шло к весне. Сердце почти не беспокоило его, и лечащий врач был им доволен.
Кроме жены и матери, никто больным не интересовался; только они да еще какой-то придурковатый таксист, вкативший однажды на своей колымаге через ворота морга.
Ему ответили в окне справок, что состояние хорошее.
1987
Синдром Степанова
Степанов ехал в троллейбусе с работы и вдруг вспомнил, как сжигали Яна Гуса. Вспомнил, как, ахнув, качнулась толпа за оцеплением, когда, потрескивая, занялся хворост, и вороний крик, взмывший над площадью, и самого Гуса – яростного, намертво прикрученного к тесаному столбу. В давке было трудно дышать, пахло потом и луком. Степанов вспомнил старушку, медленно идущую через площадь, ее мелкое глуповатое лицо и ветку хвороста в птичьей сухой лапке, гогот и улюлюканье толпы. А вот фразы насчет святой простоты, Степанов не помнил: да ее, кажется, и не было вовсе.
Гус молчал, пока, механически, творил ему отпущение бритоголовый детина с пятном от завтрака на сутане, и только когда пламя взметнулось по ногам, закричал что-то срывающимся голосом, но тут заголосили женщины. Через минуту пламя бушевало в полной тишине; люди начали расходиться.
Выйдя из троллейбуса, Степанов перешел через улицу, остановился прикурить, но зажигалка зачиркала вхолостую. Он потряс ее, но когда из ладоней выскочил наконец столбик огня, еще несколько секунд стоял, забыв про сигарету.
Что-то было не так.
Домой Степанов приехал совершенно разбитым. Заварил чай, сунул на всякий случай под мышку градусник, бухнулся в кресло, взял газету с кроссвордом. Прикрыл глаза. Кровь пульсировала в висках глухими толчками; в таком же ритме в осеннем Берлине, в тридцать четвертом, печатали шаги мускулистые ребята в униформе, и в сыром сумраке орал из репродукторов самозаводящийся фальцет.
Восторженно визжали фройлен в узких пальто. Возле Степанова стоял какой-то студентик и пронзительно кричал «хайль», не забывая посматривать, все ли кричат вокруг него.
Степанов поежился, вспомнив этот внимательный взгляд из-за стеклышек.
– Да, – вслух сказал он, и это означало, что все так и было: и истеричные фройлен со вскинутыми в приветствии руками, и песнопения (да-да, они там все время пели), и очкарик.
Он помнил это.
Степанов вынул градусник (тридцать шесть и восемь, и причем тут вообще градусник), пододвинул телефон и, посидев еще немного, набрал номер.
– Ну, Степанов, ты непрост, – рассмеялась женщина на том конце провода, когда он, смущаясь, рассказал о симптомах. Но, сменив тон, тут же успокоила: ничего страшного, давно описанное явление; все это Степанов слышал, читал, смотрел в кино, потом что-то подтолкнуло воображение (горящие листья на бульваре, шум крови в ушах), и началась неуправляемая цепь ассоциаций на фоне общей эмоциональной возбужденности пациента, о каковой возбужденности ей, кстати, известно, как никому.
Женщина посоветовала пациенту принять таблетку феназепама, хорошенько выспаться, а наутро позвонить еще раз тому же врачу и пригласить врача в какое-нибудь хорошее кафе…
Поговорив еще в таком тоне, они повесили трубки, а в десять Степанов лег и проспал ночь без сновидений.
Проснулся он за несколько минут до будильника. Спать не хотелось, озноб прошел, голова была ясной. Вчерашнее ушло без следа.
«Интересно, что это со мной было?» – как о постороннем, подумал Степанов и попытался что-нибудь вспомнить. Вспомнилась девушка, которую он любил когда-то, запах ее волос и шепот – десятый класс, весна семьдесят второго. Вспомнился выездной детсад в Подлипках, папа и мама, приехавшие на родительский день, начало шестидесятых, да – лето шестьдесят первого, как раз в тот день полетел Герман Титов.
Последнее, что помнил Степанов, был двор-колодец в районе Пироговки, сумерки и мама, зовущая ужинать. Дальше начиналось размытое изображение, невыученный урок из учебника истории, где римскому императору пририсованы со скуки очки с усами, но уже ни голосов, ни лиц.
«Как же так? – подумал Степанов. – Ведь я вчера все помнил. Я же все помнил!»
Острое чувство тревоги вдруг накатило на сердце – на секунду показалось Степанову, что от четкости фокуса, от ясности его памяти зависит что-то очень важное для всех.
Потом тревога ушла; Степанов лежал в постели, смотрел на разлинованный солнцем потолок и собирался с мыслями. Легкая тюлевая занавеска, поддуваемая ветром, чуть покачивалась, шуршала по ребру письменного стола. Потикивали часы. Впереди маячил рабочий день с тысячью маленьких неотложных дел; разнеживаться было некогда. С улицы доносились голоса, и один из них – резкий и чуть надсадный – показался Степанову знакомым.
Спустя час, маясь на троллейбусной остановке, он вспомнил: такой голос был у генерала Милорадовича, когда, рывками бросая коня по заснеженной площади, он кричал что-то угрюмому каре, застывшему в ожидании Трубецкого.
1985
Музыка в эфире
Сэму Хейфицу
Леня Фишман играл на трубе.
Он играл в мужском туалете родной школы, посреди девятой пятилетки, сидя на утыканном «бычками» подоконнике, прислонившись к раме тусклого окна.
На наглые джазовые синкопы к дверям туалета сбегались учительницы. Истерическими голосами они звали учителя труда Степанова. Степанов отнимал у Фишмана трубу и отводил к директрисе – и полчаса потом Фишман кивал головой, осторожно вытряхивая директрисины слова из ушей, в которых продолжала звенеть, извиваться тугими солнечными изгибами мелодия.
«Дай слово, что я никогда больше не услышу этого твоего, как его?» – говорила директриса. – «Сент-Луи блюз», – говорил Фишман. – «Вот именно». – «Честное слово».
Назавтра из мужского туалета неслись звуки марша «Когда святые идут в рай». Леня умел держать слово.