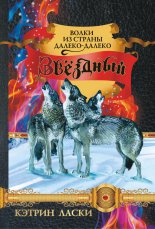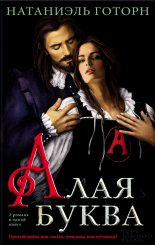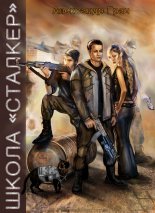Схевенинген (сборник) Шендерович Виктор

На третий день учитель труда Степанов, придя в туалет за трубой, увидел рядом с дудящим Фишманом Кузякина из десятого «Б». Вася сидел на подоконнике и, одной рукой выстукивая по коленке, другой вызванивал вилкой по перевернутому стакану.
– Пу-дабту-да! – закрыв глаза, выдувал Фишман.
– Туду, туду, бзденьк! – отвечал Кузякин.
– Пу-дабту-да! – пела труба Фишмана.
– Туду, туду, бзденьк! – звенел стакан Кузякина.
– Пу-дабту-да!
– Бзденьк!
– Да!
– Бзденьк!
– Да!
– Бзденьк!
– Да!
– Бзденьк!
– Да-а!
– Туду, туду, бзденьк!
Не найдя, что на это ответить, Степанов захлебнулся слюной.
Из школы их выгоняли вдвоем. Фишман уносил трубу, а Кузякин – стакан и вилку.
Степанов ждал музыкантов у дверей для прощального напутствия.
– Додуделись? – ядовито поинтересовался он. В ответ Леня дунул учителю в ухо.
– Ты кончишь тюрьмой, Фишман! – крикнул ему вслед Степанов. Слово «Фишман» прозвучало почему-то еще оскорбительнее, чем слово «тюрьма».
Учитель труда не угадал. С тюрьмы Фишман начал.
В тот же вечер тема «Когда святые идут в рай» неслась из подвала дома номер десять по Шестой Сантехнической улице.
Ни один из жильцов дома не позвонил в филармонию. В милицию позвонили семеро.
За музыкантами приехали – и дали им минуту на сборы, предупредив, что в противном случае обломают руки-ноги.
– Сила есть – ума не надо, – вздохнув, согласился Фишман.
В подтверждение этой нехитрой мысли, с фингалом под глазом, он сидел на привинченной лавочке в отделении милиции и отвечал на простые вопросы лейтенанта Зобова.
В домах сообщение о приводе было воспринято по-разному. Папа-Фишман позвонил в милицию и, представившись, осведомился, по какой причине был задержан вместе с товарищем его сын Леонид. Выслушав ответ, папа-Фишман уведомил начальника отделения, что задержание было противозаконным.
А мама-Кузякина молча отерла о передник руки и влепила сыну по шее тяжелой, влажной от готовки ладонью.
Удар этот благословил Васю на начало трудового пути – учеником парикмахера. Впрочем, трудиться на этом поприще Кузякину пришлось недолго, поэтому он так и не успел избавиться от дурной привычки барабанить клиенту пальцами по голове.
А по вечерам они устраивали себе Новый Орлеан в клубе санэпидемстанции, где Фишман подрядился мыть полы и поливать кадку с фикусом.
– Пу-дабту-да! – выдувал Фишман, закрыв глаза.
– Туду, туду, бзденьк! – отвечал Кузякин. На следующий день после разрыва он торжественно вернул в буфет родной школы стакан и вилку, а взамен утянул из-под знамени совета дружины два пионерских барабана, а со двора – цинковый лист и ржавый чайник. Из всего этого Вася изготовил в клубе санэпидемстанции ударную установку.
А рядом с ним, по-хозяйски облапив инструмент и вдохновенно истекая потом, бумкал на контрабасе огромный толстяк по имени Додик. Додика Фишман откопал в музыкальном училище, где Додика пытались учить на виолончелиста, а он сопротивлялся. Додику мешал смычок.
В антракте Фишман поливал фикус. Фикус рос хорошо – наверное, понимал толк в музыке. Потом Додик доставал термос, а Кузякин – яблоки и пирожки от мамы. Все это съедал Фишман: от суток дудения в животе у него, по всем законам физики, образовывалась пустота.
В конце трапезы Леня запускал огрызком в окно – в вечернюю тьму, где вместе с другими строителями социализма гремел костями о рассохшиеся доски одного отдельно взятого стола учитель труда Степанов.
Две недели он делал это под звуки фишмановской трубы, а в начале третьей недели тема марша «Когда святые идут в рай» все-таки пробила учительский череп. Степанов выскочил из-за доминошного стола и, руша кости, понесся в клуб.
Дверь в клуб была закрыта на ножку стула, и Фишман и Ко дважды исполнили учителю на бис марш «Когда святые идут в рай».
Свирепая правота обуяла Степанова. Тигром-людоедом залег он в засаду у дверей клуба, но застарелая привычка отбирать у Фишмана трубу сыграла с ним злую шутку. Едва, выскочив из темноты, он вцепился в инструмент, как хорошо окрепший при контрабасе Додик молча стукнул его кулаком по голове.
Видимо, Степанову досталось по идеологическому участку мозга, потому что на следующее утро он накляузничал на всех троих чуть ли не в ЦК партии.
В то историческое время партия в стране была всего одна, но такая большая, что даже беспартийные не знали, куда от нее деться. Через неделю Фишман, Додик и Кузякин вылетели из клуба санэпидемстанции, как пули из нарезаного ствола…
С тех пор прошло три пятилетки и десять лет жизни без руля и ветрил.
Теперь в бывшем клубе санэпидемстанции – казино со стриптизом: без фикуса, но под охраной. В школе, откуда выгнали Фишмана с Кузякиным, сняли портрет Брежнева, повесили портрет Горбачева, а потом сняли и его. Лейтенант Зобов, оформлявший привод, стал майором Зобовым, а больше в его жизни ничего не произошло.
Вася Кузякин чинит телевизоры.
Он чистит пайки, разбирает блоки и заменяет кинескопы, а после работы смотрит футбол. Но когда вечером в Лондоне, в концертном фраке, выходит на сцену Леня Фишман и поднимает к софитам сияющий раструб своей трубы:
– Пу-дабту-да! —
Вася вскакивает среди ночи:
– Туду, туду, бзденьк!
– Кузякин, ты опять? – шепотом кричит ему жена. – Таньку разбудишь! Выпей травки, Васенька.
– Да-да… – рассеянно отвечает Кузякин, а в это время в Канаде среди бела дня оцепеневает у своей бензоколонки Додик, и клиенты бешено давят на клаксоны, призывая его перестать бумкать губами, открыть глаза и начать работать.
– Сволочь, – бормочет, проснувшись в Марьиной роще, пенсионер Степанов, – опять приснился.
Вечное движение
Этюд
– «Оф… фен… ба… хер!» – прочел Карабукин и грохнул крышкой пианино.
– Нежнее, – попросил клиент.
– А мы – нежно… От винта! – Движением плеча Карабукин оттер хозяина инструмента, впрягся в ремень и скомандовал:
– Взяли!
Лысый Толик на той стороне «Оффенбахера» подсел и крякнул, принимая вес. Обратно он вынырнул только на площадке у лифта. Лицо у Толика было задумчивое.
– Тяжело? – сочувственно поинтересовался клиент.
– Советские легче, – уклончиво ответил Толик.
– Раза в полтора, – уточнил Карабукин. Он часто дышал, облокотившись на «Оффенбахер».
Они стояли на черт знает каком этаже, а грузовой лифт – на третьем. Уже два месяца.
– Взяли, – сказал Карабукин.
Через пару пролетов Карабукин молча лег лицом на «Оффенбахер» и лежал так, о чем-то думая, минут десять. Лысый Толик вылез из лямки и сполз вниз по стене. Он посидел, обтер рукавом поверхность головы и, обратившись в пространство, предложил покурить. Клиент торопливо распахнул пачку. Толик взял одну сигарету, потом подумал и взял еще три.
Карабукин курить не стал.
– Здоровье бережете? – льстиво улыбнулся клиент – и сам покраснел от своей бестактности.
– Здоровья у нас навалом, – ответил цельнолитой Карабукин, разглядывая клиента, похожего на подержанную мягкую игрушку. – Можем одолжить.
Тот испугался:
– Не надо, что вы!
Помолчали. Карабукин продолжал рассматривать клиента, отчего тот еще уменьшился в размерах.
– Сам играешь? – кивнув на инструмент, спросил наконец грузчик.
– Сам, – ответил клиент. – И дочку учу. Наступила тишина, прерываемая свистящим дыханием Толика.
– На скрипке надо учить, – посоветовал Карабукин. – На баяне максимум.
– Извините меня, – сказал клиент.
За полчаса грузчики спустили «Оффенбахер» еще на пару пролетов. Они кряхтели, хрипели и обменивались короткими птичьими сигналами типа «на меня», «стой», «ты держишь?» и «назад, блядь, ногу прищемил».
Хозяин инструмента, как мог, мешался под ногами.
Потом Толик объявил, что либо сейчас умрет, либо сейчас будет обед. Грузчики пили кефир, вдумчиво заедая его белой булкой. Глаза у них были отрешенные. Клиент, стараясь не раздражать, пережидал за «Оффенбахером».
– Толян, – спросил наконец Карабукин. – Вот тебе сейчас чего хочется?
– Бабу, – сказал Толян.
– Хер тебе на рыло, – доброжелательно сообщил Карабукин. – А тебе?
– Мне? – Клиент слабо махнул рукой, подчеркивая ничтожность своих притязаний. – Мне бы – переехать поскорее… Я не в том смысле, что вы медленно! – торопливо добавил он.
– А в каком? – спросил Карабукин.
– В смысле: много работы.
– Это вот?.. – Карабукин пошевелил в воздухе растопыренной пятерней.
– Да, – стыдясь себя, сказал клиент.
– А бабы, значит, тебе не надо? – уточнил Карабукин.
– Ну почему? – Клиент покраснел. – Этот аспект… – И замолк, сконфуженный.
Они помолчали.
– А вам, – спросил клиент из вежливости, – чего хочется?
– Мне, – сказал Карабукин, – хочется сбросить твою бандуру вниз.
– Зачем? – поразился клиент.
– Послушать, как ебанется, – ответил Карабукин. Клиент пошел пятнами. – Ладно, ни бэ! – успокоил Карабукин. – Я пошутил.
Толик заржал сквозь булку.
– Что вы нашли смешного? – спросил клиент.
– А вот это… – охотно ответил Толик и двумя руками изобразил падение «Оффенбахера» в лестничный пролет. И опять от души захохотал.
– Это не смешно, – сказал клиент.
– Ладно, – откликнулся незлобивый Толик. – Давай лучше изобрази чего-нибудь. Чем зря стоять.
Клиент, в раннем детстве раз и навсегда ударенный своей виной перед всеми, кто не выучился играть на музыкальных инструментах, вздохнул и открыл крышку. «Оффенбахер» ощерился на лестничную клетку желтыми от старости зубами.
Размяв руки, очкарик быстро пробежал правой хроматическую гамму.
– Во! – сказал восхищенный Толик. – Цирк! Клиент опустился полноватым задом на подоконник, нащупал ногой педаль и осторожно погрузился в первый аккорд. Глаза его тут же затянуло поволокой, пальцы забродили вдоль клавиатуры.
– Ну-ка, стой, – приказал Карабукин.
– А? – Клиент открыл глаза.
– Это – что такое?
– Дебюсси, – доложил клиент.
– Ты это брось, – неприязненно сказал Карабукин.
– То есть? – не понял клиент. Карабукин задумчиво пожевал губами.
– Ты вот что… Ты – «Лунную сонату» можешь? Очкарик честно кивнул.
– Вот и давай, – сказал Карабукин. – Без этих ваших…
– Что значит «ваших»? – насторожился клиент.
– «Лунную сонату», – отрезал Карабукин и для ясности снова пошевелил в воздухе растопыренными пальцами. – Добром прошу.
– Хорошо, – вздохнул пианист. – Вам – первую часть?
– Да уж не вторую, – сказал Карабукин.
На звуки «Лунной» откуда-то вышла старуха, похожая на некормленное привидение. Она прошаркала к «Оффенбахеру», положила на крышку сморщенное, средних размеров яблоко, бережно перекрестила игравшего, поклонилась в пояс грузчикам и ушла восвояси.
– Вот! – нравоучительно сказал Толику Карабукин, когда соната иссякла. – Бетховен! Глухой, между прочим, был на всю голову! А у тебя, мудилы, уши, как у слона, а что толку?
– Сам ты слон, – ничуть не обидевшись, ответил Толик – и, стуча несчастным «Оффенбахером» по стенами и перилам, они поволокли его дальше. Клиент морщился от каждого удара, прижимая заработанное яблоко к пухлой груди.
– Бетховен… – сипел Толик, размазанный лицом по инструменту. – Бетховен бы умер тут. Глухой… Да он бы ослеп!
На очередной площадке они рухнули на пол. Из легких вырывались нестройные хрипы. Клиент, стоя в отдалении, опасливо заглядывал в глаза трудящимся. Ничего хорошего как для художественной интеллигенции вообще, так и, в особенности, для пианистов в этих глазах видно не было.
Клиент же, напротив, любил простой народ. Любил по глубокому нравственному убеждению, легко переходившему в первобытный ужас. В отчаянном расчете на взаимность он любил всех этих грузчиков, сантехников, шоферов, продавщиц… Гармония труда и искусства грезилась ему всякий раз, когда рабочие и колхозники родной страны при случайных встречах с прекрасным не били его за бессмысленную беглость пальцев, а, искренне удивляясь, давали немного денег на жизнь.
– Хотите, я вам еще сыграю? – не зная, чем замолить свою вину, осторожно предложил он.
– Потерпеть не можешь? – спросил Карабукин.
– Не, пускай, почему! – вдруг согласился Толик. – Концерт, блядь, по заявкам! – рассмеялся он. – Давай, убогий, луди!
Музыка взметнулась в пролет лестничной клетки. Навстречу, по прямой кишке мусоропровода, просвистело вниз что-то большое и гремучее, где-то в недосягаемом далеке ударилось о землю и со звоном разбилось на части. С последним аккордом клиент погрузился в «Оффенбахер» аж по плечи – и затих.
– Наркоман, что ли? – с уважением спросил Толик. – Чего глаза закатил?
– Погоди, – осек его Карабукин, озадаченный услышанным. – Это – что было?
– Шуберт.
– Тоже глухой? – поинтересовался Толик.
– Нет, что вы! – испугался клиент.
– Здоровско! – Толик так обрадовался за Шуберта, что даже встал. – А я смотрите что могу!
Он шагнул к «Оффенбахеру», одной рукой, как створку шкафа, отвел в сторону клиента, обтер руки о штаны, отсчитал нужную клавишу и старательно, безошибочно и громко отстучал собачий вальс. Каждая нота вальса отражалась на лице хозяина инструмента, но прервать исполнение он не решился.
В последний раз влупив по клавишам, Толик жизнерадостно расхохотался, после чего на лестничной клетке настала относительная тишина. Только в нутре у «Оффенбахера», растревоженном сильными руками энтузиаста, еще долго что-то гудело.
– Толян, – сказал пораженный Карабукин, – что ж ты молчал?
– В армии научили, – скромно признался Толян.
– Школа жизни! – констатировал Карабукин и повернулся к клиенту. – Теперь ты.
…День клонился к закату. Толик лежал у стены, широко разбросав конечности по лестничной клетке неизвестно какого этажа.
За время их путешествия с «Оффенбахером» в подъезде прозвучала значительная часть мирового классического репертуара. Переноска инструмента сопровождалась вдохновенными докладами клиента о жизни и творчестве лучших композиторов прошлого. Сыграно было: семнадцать прелюдий и фуг, дюжина этюдов, уйма пьес и один хорошо темперированный клавир.
В районе пятнадцатого этажа Толик сделал попытку исполнить на «бис» собачий вальс, но был пристыжен товарищем – и покраснел. В последний раз это случилось с ним в трехлетнем возрасте, во время диатеза.
Полет валькирий сменился шествием гномов, а земли все не было. Лысый, крепкий, как у лося, череп Толика блестел в закатном свете. Чудовищное количество переходило в какое-то неясное качество, и казалось: череп меняет форму прямо на глазах.
Напротив Толика, привалившись к косяку и с тревогой прислушиваясь к своей развороченной душе, сидел Карабукин.
– Это – кто? – жадно спрашивал он.
– Рахманинов, – отвечал клиент.
– Сергей Васильевич? – уточнял Карабукин.
Они стаскивали «Оффенбахер» еще на пару пролетов вниз и снова располагались для культурного досуга.
– А можно вас попросить, Николай Игнатьевич, – сказал Карабукин как-то под утро, – исполнить еще раз вот это… – Суровое лицо его разгладилось, и, просветлев, он намычал мелодию. – Вон там играли… – И показал узловатым пальцем вверх.
– «Грезы любви»? – догадался клиент.
– Они, – сказал Карабукин, блаженно улыбнулся – и заснул под музыку.
Через минуту в подъезде раздался голос проснувшегося Толика.
– Ференц Лист! – сказал Толик. Сильно испугавшись сказанного, он озадаченно потер лысую голову. Потом лицо его разнесло кривой улыбкой.
– Господи, твоя воля… – прошептал он.
Однажды Николай Игнатьевич съездил на лифте домой и привез оттуда к завтраку термос чая, сушки и бутерброды. Он был счастлив полноценным счастьем миссионера.
Грузчики не спали. Они разговаривали.
– Все-таки, Анатолий, – говорил Карабукин, – я не могу разделить ваших восторгов относительно Губайдулиной. Увольте. Может быть, я излишне консервативен, но мелодизм, коллега! – как же без мелодизма!
– Алексей Иванович, – отвечал лысый Толик, прикладывая к шкафообразной груди огромные ладони, – мелодизм безнадежно устарел! Еще в тысяча девятьсот восьмом году, как вы, конечно, помните, Скрябин писал Танееву…
Тут они заметили подошедшего клиента и внимательно на него посмотрели, что-то вспоминая.
– Простите, что вмешиваюсь, – сказал клиент. – Но давайте попьем чайку – и двинемся.
– Куда? – спросил Карабукин.
– Как «куда»? – бодро ответил клиент. – Вниз!
– Не хочется нас огорчать, Николай Игнатьевич, – сказал Карабукин и, повернувшись, нежно погладил лаковый бок «Оффенбахера», – но вниз мы пойдем без него.
– Как «без него»?
– Одни.
– Как «одни»?
– Ну-ну, – сказал Карабукин. – Будьте мужчиной.
– Видите ли, – мягко объяснился Толик, – я ведь не подъемный кран. И Алексей Иванович тоже. Согласитесь: унизительно тяжести на себе таскать, когда повсюду разлита гармония…
– Я вам заплачу… – позорно забормотал клиент, шаря по карманам.
– Эх, Николай Игнатьевич, Николай Игнатьевич, – укоризненно протянул Карабукин, – даже странно слышать от вас такое…
– Что деньги?.. – заметил лысый Толик. – Бессмертия не купишь.
Они по очереди пожали клиенту вялую руку, спросили у него адрес консерватории и ушли.
Клиент сел на ступеньку и минут пять смотрел на «Оффенбахер». Он чувствовал себя миссионером, съеденным во имя Христа. Потом он мысленно попробовал «Оффенбахер» приподнять и мысленно умер. Потом воля к жизни победила, клиент вызвал лифт и направился к магазину.
Через пять минут он вернулся с тремя мужиками, которым как раз переноски «Оффенбахера» не хватало, чтобы наклюкаться наконец до лысых ежиков. Мужики впряглись в оставленные грузчиками ремни и с криком понеслись вниз.
Через пять минут, сильно постаревшие, они повалились на лестничную площадку и начали дышать кто чем мог.
– Слышь, хозяин, – придя в себя, заявил наконец один из вольнонаемных, – ну-ка, быстро сбацал чего-нибудь.
– Ага! – поддержал другой. – Пока все равно лежим.
– Ты это… – сказал третий и почесал голову сквозь кепку. – «Лунную сонату» можешь?
Все трое уставились на работодателя, и он понял, что его звездный час настал.
– А вот хер вам всем на рыло! – сказал хозяин «Оффенбахера». – Тащите так!
1995
Жизнь масона Циперовича
Ефим Абрамович Циперович работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон.
По дороге с работы домой Ефим Абрамович всегда заходил в «Гастроном». Человеку, желавшему что-нибудь купить, делать в «Гастрономе» было нечего, это знали все, включая Ефима Абрамовича, но каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающего детинушку в халате:
– А вырезки, что, опять нет?
Он был большой масон, этот Циперович.
Дома он переодевался из чистого в теплое и садился кушать то, что ставила на стол жена, Фрида Моисеевна, масонка. Фридой Моисеевной она была для внутреннего пользования, а снаружи для конспирации полжизни проходила Феодорой Михайловной.
Ужинал Ефим Абрамович без водки. Делал он это специально. Водкой масон Циперович спаивал соседей славянского происхождения. Он специально не покупал водки, чтобы соседям больше досталось. Соседи ничего не подозревали и напивались каждый вечер, как свиньи. Он был очень коварный масон, этот Циперович.
– Как жизнь, Фима? – спрашивала Фрида Моисеевна, когда глотательные движения мужа переходили от «престо» к «модерато».
– Что ты называешь «жизнью»? – интересовался в ответ Ефим Абрамович. Масоны со стажем, они могли разговаривать вопросами до светлого конца.
После ужина Циперович звонил детям. Дети Циперовича тоже были масонами. Они масонили, как могли, в свободное от работы время, но на жизнь все равно не хватало, потому что один был студент, а в ногах у другого уже ползал маленький масончик по имени Гриша, радость дедушки Циперовича и надежда мирового сионизма.
Иногда из соседнего подъезда приходил к Циперовичам закоренелый масон Гланцман, в целях конспирации взявший материнскую фамилию Финкельштейн и ушедший с нею в глубокое подполье. Гланцман пил с Циперовичами чай и жаловался на инсульт и пятый пункт своей жены. Жена была украинка и хотела в Израиль. Гланцман в Израиль не хотел, хотел, чтобы ему дали спокойно помереть здесь, где промасонил всю жизнь.
Они пили чай и играли в шахматы. Они любили эту нерусскую игру больше лапты и хороводов – и с трудом скрывали этот постыдный факт даже на людях.
После пары хитроумных гамбитов Гланцман-Финкельштейнов уползал в свое сионистское гнездо во второй подъезд, а Ефим Абрамович ложился спать и, чтобы лучше спалось, брал «Вечерку» с кроссвордом. Если попадалось: автор оперы «Демон», десять букв – Циперович не раздумывал.
Отгадав несколько слов, он откладывал газету и гасил свет над собой и Фридой Моисеевной, умасонившейся за день так, что ноги не держали.
Он лежал, как маленькое слово по горизонтали, но засыпал не сразу, а о чем-то сначала вздыхал. О чем вздыхал он, никто не знал. Может о том, что никак не удается ему скрыть свою этническую сущность; а может, просто так вздыхал он – от прожитой жизни.
Кто знает?
Ефим Абрамович Циперович был уже пожилой масон и умел вздыхать про себя.
Стена
Страдая от жары, Маргулис предьявил офицеру безопасности полиэтиленовый пакет с надписью «Мальборо», прикрыл лысеющее темя картонным кружком – и прошел к Стене.
У Стены, опустив головы в книжки, стояли евреи в черных шляпах.
Собственно, Маргулис и сам был евреем. Но здесь, в Иерусалиме, выяснилось, что евреи, как золото, бывают разной пробы. Те, что стояли в шляпах лицом к Стене, были эталонными евреями, и то, что у Маргулиса было национальностью, у них было профессией; они безукоризненно блестели под Божьим солнцем. А в стране, откуда приехал Маргулис, словом «еврей» дразнили друг друга дети.
Дегустируя торжественность встречи, он застыл и прислушался к себе. Ему хотелось получше запомнить свои мысли при первой встрече со Стеной, и это оказалось совсем несложно. Сначала пришла мысль о стакане компота, потом – о прохладном душе на квартире у тетки, где он остановился постоем. Потом он ясно увидел стоящим где-то далеко внизу, у какой-то стены, дурака с пакетом «Мальборо» в руке и картонным кружком на пропеченной башке, и понял, что это он сам. Потом наступил провал, потому что Маргулис таки перегрелся. Из ступора его вывел паренек в кипе и с лицом интернатского завхоза.
– Ручка есть? – потеребив Маргулиса за локоть, спросил паренек. – А то моя сдохла. – И он помахал в душном мареве пустым стержнем. В другой руке у паренька было зажато адресованное лично Господу заявление страниц на пять.
– Нет, – ответил Маргулис.
– Нет ручки? – не поверил паренек. Маргулис виновато пожал плечами. – А че пришел?
Маргулис не сразу нашелся, что ответить.