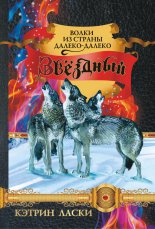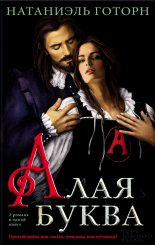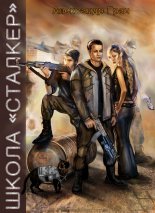Схевенинген (сборник) Шендерович Виктор

– Так, постоять… – выдавил он наконец.
– Хули стоять, – удивился паренек. – Писать надо! Он ловко уцепил за трицепс проходившего мимо дядьку и с криком «хэв ю э пен?» исчез с глаз.
Маргулис огляделся. Вокруг, действительно, писали. Писали с таким сосредоточенным азартом, какой на Родине Маргулис видел только у киосков «Спортлото» за день до тиража. Писали все, кроме тех, что стояли в шляпах у Стены: их заявления Господь принимал в устной форме.
Маргулис нашел клочок бумаги и огляделся. У лотка в нише стоял старенький иудей с располагающим лицом московского интеллигента. Маргулис, чей спекшийся мозг уже не был способен на многое, попросил ручку жестами. Старичок доброжелательно прикрыл глаза и спросил:
– Вы еврей?
Маргулис кивнул: этот вопрос он понимал даже на иврите.
– Мама – еврейка? – уточнил старичок. Видимо, гоям письменные принадлежности не выдавались.
Маргулис опять кивнул и снова помахал в воздухе собранными в горсть пальцами. Старичок что-то крикнул, и перед Маргулисом вырос седобородый старец гренадерского роста.
Маргулис посмотрел ему в руки, но ничего пишущего там не обнаружил.
– Еврей? – спросил седобородый. Маргулис подумал, что бредит.
– Йес, – сказал он, уже не надеясь на жесты.
– Мама – еврейка? – уточнил седобородый.
– Йес! – крикнул Маргулис.
Ничего более не говоря, седобородый схватил Маргулиса за левую руку и сноровисто обмотал ее черным ремешком. Рука сразу отнялась. Маргулис понял, что попался. Устраивать свару на глазах у Господа было не в его силах. Покончив с рукой, седобородый, бормоча, примотал к голове Маргулиса спадающую картонку. При этом на лбу у несчастного оказалась кожаная шишка – эдакий пробивающийся рог мудрости. Линза часовщика, в которую позабыли вставить стекло.
Через минуту взнузданный Маргулис стоял лицом к Стене и с закрытыми глазами повторял за седобородым слова, смысла которых не понимал. В последний раз подобное случилось с ним в шестьдесят шестом году, когда Маргулиса, не спрося даже про мать, приняли в пионеры.
– Все? – тупо спросил он, когда с текстом было покончено.
– Ол райт, – ответил седобородый. – Файв долларз. Маргулис запротестовал.
– О кей, ту, – согласился седобородый.
С облегчением отдав два доллара, Маргулис быстро размотал упряжь, брезгливо сбросил ее в лоток к маленькому иудею и опрометью отбежал прочь. Он знал, что людей с располагающими лицами надо обходить за версту, но на исторической родине расслабился.
Постояв, он вынул из пакета флягу и прополоскал рот тепловатой водой. Сплевывать было неловко, и Маргулис с отвращением воду проглотил. «Что-то я хотел… – подумал он, морща натертый лоб. – Ах да».
Ручку ему дал паломник из Бухары, лицом напоминавший виноград, уже становящийся изюмом.
– Я быстро, – пообещал Маргулис.
– Бери совсем! – засмеялся бухарец и двумя руками стал утрамбовывать свое послание в Стену.
Ручка была не нужна ему больше. В самое ближайшее время он ожидал решения всех проблем.
Маргулис присел на корточки, пристроил листок на пакете с ковбоем и написал: «Господи!»
Задумался, открыл скобки и приписал: «Если ты есть».
Рука ныла, лоб зудел. Картонный кружок спадал с непрерывно лысеющего темени. Маргулис вытер пот со лба предплечьем и заскреб бумагу.
У Всевышнего, о существовании которого он думал в последнее время со все возрастающей тревогой, Маргулис хотел попросить всего нескольких простых вещей, в основном касавшихся невмешательства в его жизнь.
Прожив больше полусотни лет в стране, где нельзя было ручаться даже за физические законы, Маргулис очень не любил изменений. Перестановка мебели в единственной комнате делала его неврастеником. Перспектива ремонта навевала мысли о суициде. Добровольные изменения вида из окон, привычек и гражданства были исключены абсолютно.
Закончив письмо, Маргулис перечел написанное, сделал из точки запятую и прибавил слово «пожалуйста». Потом перечел еще раз, мысленно перекрестился и, подойдя к Стене, затолкал обрывок бумаги под кусок давно застывшего раствора.
Кинотеатр повторного фильма
Я увидел ее у кассы, пока пытался дозвониться жене.
Она рассматривала афишу на апрель: зеленый распахнутый плащ, в тонкой руке – пакет (книжки, тетрадки, яблоко – вечный студенческий набор). Я еще успел подумать: надо же, до чего похожа – но тут девушка обернулась.
Это была она, и ей было девятнадцать, как тогда, вначале.
Двенадцать лет назад.
Я повесил трубку на рычаг. Стрельнув глазами, девушка знакомо сморщила носик: вот, мол, уставился…
В дверной проем врывались свет и гомон улицы Герцена. От окошка кассы отлип долговязый парень с билетами в руке, улыбнулся, что называется – рот до ушей, и, запихивая в кошелек сдачу, шагнул ей навстречу.
Прошло еще несколько секунд, прежде чем до меня наконец дошло, что это – я сам.
Вам случалось внимательно рассматривать свои детские фотографии? Тогда вы знаете это ощущение: солнечный день с потрепанной карточки вдруг пронизывает вас теплом, и вы ясно вспоминаете и этот день, и это солнце, и старое пальтишко, – и все, что случилось потом, умещается в несколько сантиметров от вас до черно-белого прямоугольника, где весело скалится в объектив человек, которым вы были когда-то.
Взял билеты, оборачиваюсь, а она смотрит на меня и улыбается одними глазами. А глаза у нее знаете какие? Песочные, с крупинками янтаря – и когда она смотрит, кажется, что наступило лето; скорей бы укатить к черту на кулички, лежать на горячем песке у моря, и касаться друг друга, и падать в прохладную воду, и плыть рядышком…
Иногда я чувствую, что если сейчас же не поцелую ее, меня кондрашка хватит. Честное слово! А потом, никого и не было, только хмырь какой-то у телефона: главное, стоит и пялится – хоть бы трубку для приличия снял… Ну и смотри, думаю, дядя, завидуй, что тебе остается! И обнял ее еще крепче. А у нее щеки покраснели – симпатичная, сил нет! – и давай колотить мне кулачками в грудь – как фортепианными молоточками, ей-богу. «Да-да, – говорю, – войдите!», а она шепотом: «Вредина, ну вредина же!» – а у самой смешинки в глазах.
Я вспомнил этот день. Вспомнил фильм, на который мы тогда ходили, – ну конечно, он! Семьдесят третий год, конец первого курса, боже мой, сколько лет прошло! Семьдесят третий. Короткое замыкание, недосмотр небесного диспетчера – и вот они целуются, а я звоню жене и пялюсь на них, как старушка у подъезда.
Кино, потом бульвар, ее рука. «Родичи на даче…» – она сказала это, когда возвращались по Тверскому. Помню, как пересохло в горле, как мучительно долго тянулся поезд, и мы молчали, не разнимая рук. От метро до ее дома шли пешком, перешагивая сверкающие на солнце лужи, и сердце мое выпрыгивало из грудной клетки и кружило, как молодой сеттер, метров на десять впереди…
К столику, где над стаканами яблочного сока сидели парень и девушка, подошел человек. – Можно к вам?
– Пожалуйста, – ответил парень и, напрягшись, бросил взгляд в сторону: столики вокруг пустовали.
– Спасибо.
Человек поставил свой стакан и сразу отглотнул чуть ли не половину. Парень и девушка переглянулись.
– Извините, – сказал незнакомец и улыбнулся, – вдруг, знаете, захотелось посидеть рядом со счастливыми людьми.
Лицо у парня закаменело, но в голосе человека – того самого, что пялился у кассы, – не было издевки, и парень только напряженно улыбнулся в ответ.
– Вот, Паш, – откликнулась девушка, – мы с тобой, оказывается, счастливые люди… – Глаза из-под мягких ресниц с любопытством изучали незнакомца, и он сделал еще один большой глоток.
И вдруг спросил:
– Хотите, я вам погадаю? Парень усмехнулся.
– А вы умеете? – В голосе девушки звенела ирония.
– Да, – хрипло ответил он, и она, не раздумывая, протянула ладошку – легкую, хрупкую и почти прозрачную, как слюда. Человек помедлил, но девушка улыбалась, не убирая руки.
– Это не обязательно, – сказал он. – Я умею гадать по лицам.
Зачем эта встреча? Подписанное наверху – «исправленному верить»? Но что я могу изменить и что рассказать?
Что еще два года он будет ждать ее в метро с букетиком тюльпанов, что будут прогуливать лекции, бродя по привычным, как переплетенные пальцы, улочкам, по тихому, пронизанному солнцем Коломенскому, а зимой прятаться в кафешке, и он будет дыханием отогревать ее ладошки, два белых лепестка?
Что однажды эти глаза начнут избегать его, и разговор перестанет клеиться, и они промолчат всю долгую дорогу от «Темпа», где смотрели эту дурацкую комедию с де Фюнесом, и в наступивших сумерках ее рука будет лежать в его ладони неподвижно, и он сам отпустит эту чужую руку, а у дома она быстро скажет: «Ну, пока», – и войдет в подъезд, не оглянувшись?
Прошлое налетело на меня, его горькая волна накрыла с головой, сбила с ног и потащила назад.
Рассказать, как встретились на следующий день, как пытались сделать вид, что ничего не произошло? Она была нежной, ее рука снова была теплой и живой, мы ели круглое, с островками варенья, мороженое из одной вазочки, мы смеялись, но ее уже уносило от меня, как уносит от Земли воздушный шарик, наполненный газом из шипящей трубки…
Потом были еще встречи и расставания, фильмы – хорошие и плохие, была холодная, нескончаемая зима и снова весна, но что-то уже сломалось непоправимо, и мы оба чувствовали это. Я не мог сам отпустить тоненькую ниточку, связывавшую нас – у нее не хватало сил эту ниточку оборвать.
А может, она просто ждала, что все разрешится само собой?
Что рассказать еще?
Когда я вернулся из армии, мы встретились там, где встречались обычно, и медленно пошли рядышком вдоль университетской ограды. Рядышком, но не касаясь друг друга. Дошли до Ленинских гор; выбрели к ее дому. За это время я многое узнал, мы обо всем спокойно поговорили. Издалека напоминали, наверное, пожилую супружескую пару, совершающую вечерний моцион.
– Ну все, я пошел? – спросил я.
Она поглядела мне прямо в глаза – первый раз после нашей встречи – погладила по щеке и заревела. И я заревел тоже. Мы ревели, обнявшись на площадке возле лифта – и это было наше прощание.
– По лицам? – переспросила девушка и рассмеялась. – Интересно, интересно… Давайте по лицам. Ну? Что же ждет нас впереди?
Этой осенью Москва столкнула нас на улице.
Она была одна – по-прежнему одна. У ее золотистых глаз я увидел первые морщинки, и в самих глазах появилось новое выражение: еще не тревога, но первое предвестие, когда человек начинает слышать, как шуршит песок в его часах.
– Куда ты пропал? – спросила она, и мне показалось, что в голосе ее дрогнула обида. Раньше я звонил ей изредка – на день рождения и еще два-три раза в год, когда тоска накатывала особенно сильно. Звонил – и всегда заставал дома вечерами.
Я объяснил, куда я пропал.
– Поздравляю… – сказала она. – В общем, у тебя все хорошо?
– В общем, да, – сказал я.
Площадь Белорусского вокзала – не лучшее место для разговора, час пик – не лучшее время. Да и говорить было уже не о чем.
– Звони, – сказала она, – не пропадай.
Позвонил я ей только под Новый год. Мы встретились, пошли в пиццерию – они как раз пооткрывались в тот год по всей Москве – взяли пузатенькую бутылку кипрского вина; я развлекал ее как мог, стараясь получше запомнить это усталое лицо. Потом мы ехали в метро, и ее рука иногда касалась моей, но поезд мчал по туннелю, и гул безнадежно ушедшего времени стоял над нашими головами. Я проводил ее, поцеловал в щеку и быстро пошел обратно – сквозь влажный сумрак, к светящейся шайбе метро. В груди оседал горький ком жалости и недоумения: все, что осталось от моей любви.
Резко затрещал звонок. Раскрылись двери; люди потянулись на сеанс. Парень нетерпеливо повернул голову: этот странный незнакомец раздражал и тревожил его. Раздражала затея с гаданием – парень не верил во всякую чепуху, а тревожило то, как улыбается незнакомцу девушка – его девушка с песочными глазами. Большие руки парня ерзали в карманах курточки.
– Послушайте, – волнуясь, сказал человек. – Я действительно знаю, что с вами произойдет. – И, подавшись вперед, заговорил торопливым шепотом. – Вы будете ходить в кино, отсиживаться в кафешках, бродить по улицам; поедете в Коломенское – вы ведь еще не были в Коломенском? Так будет еще четыре года – и счастливей этих лет у вас в жизни ничего не случится, это уж вы мне поверьте. А потом… – Он повернулся к парню и осекся, заглянув, как в зеркало, в эти раненые ожиданием глаза, до конца узнав это лицо, эти отпущенные под Леннона волосы, эту тайную неуверенность, эту привычку усмехаться, когда тяжело.
Другие – песочные, с солнечными крупицами янтаря глаза светились счастьем и тревогой, и мужчина не сразу отвел от них взгляд.
– Потом будет армия, – медленно подбирая слова, сказал он. – Потом вы встретитесь снова – семнадцатого мая семьдесят девятого года, вечером, на троллейбусной остановке возле метро «Университет» – и уже не расстанетесь никогда.
Он замолчал. Они молчали тоже. Их руки, сами найдя друг друга, были намертво сцеплены под столом.
– Семьдесят девятый… – медленно, словно примериваясь к вечности, проговорил наконец парень. Ироническая судорога понемногу отпускала его лицо.
– Это гораздо ближе, чем вам кажется, – сказал мужчина.
– А потом, потом? – спросила девушка.
– Потом – еще не знаю. Честное слово, не знаю. Мужчина перевел дыхание и принялся допивать сок, хотя допивать там было уже нечего. Снова дважды протрещал звонок, и над столиком повисла тишина.
– А… А откуда вы знаете… – вдруг сказала она. Мужчина отодвинул стакан и встал.
– Простите, мне пора.
– А…
– Этот фильм я уже видел.
– Подождите! – Девушка вскочила из-за столика. – Ну подождите же… Кто вы?
– Это трудно объяснить, – чуть помедлив, ответил мужчина.
– Да-а? – вдруг жалобно протянула она. – А можно, я… мы вам как-нибудь позвоним?
Он покачал головой.
– У меня нет телефона.
– Тогда запишите мой, – попросила девушка.
– Я запомню, – чему-то усмехнувшись, пообещал мужчина.
Девушка назвала цифры.
– Повторите. Он повторил.
– Ну вот, – она вдруг радостно улыбнулась. – Очень простой номер, правда?
Он кивнул.
– Правда, все будет так, как вы сказали?
– Да, – ответил он.
– Обязательно позвоните, – попросила девушка. – Ну пожалуйста.
Уже у лестницы мужчина обернулся. Они смотрели ему вслед. Больше в фойе никого не было: начинался сеанс.
Выйдя на улицу, мужчина остановился, мотнул головой, глубоко вдохнул весенний уже воздух и коротко, нервно хохотнул. Потом достал из кармана сигареты, закурил. Он затянулся раз, другой, и пошел по улице, но у телефонной будки замедлил шаг и остановился.
Он постоял, поглядел на пустую кабину, медленно выгреб из кармана мелочь и нашел двушку. Зажав ее в потном кулаке, он стоял посреди тротуара, и прохожие, обходя, задевали его локтями.
1986
Тайм-аут
Глава I
Четверг
Еще сквозь сон чувствую, что по мне кто-то ползает и без умолку лопочет.
– И-ир, – тяну я, стараясь, чтобы голос звучал как можно противнее. – И-ир, убери Чудище. Я так не играю…
– Чудище, – откликается моя половинка с нескрываемой любовью. – Чудище, кто это? Кто это дрыхнет в четверть десятого?
– Имка! – радостно отвечает Чудище, прыгая у меня на голове.
Имка – это я, и сегодня Имке больше не спать. Встаю и, сладко потягиваясь, издаю долгий звук несмазанной двери. С недосыпу меня мотает по комнате и бьет о разные предметы.
Мы с Иркой состоим при Чудище уже полтора года. «Чудище» произошло от «Чуда» путем наблюдения за трансформацией наклонностей.
В настоящий момент это бывшее Чудо, слезши с кровати и открыв дверцы секретера, методично выбрасывает оттуда мои бумаги.
– Екатерина!
Услыхав официальное обращение, моя дочь, Екатерина Дмитриевна Скворешникова, пригнувшись, как под обстрелом, и вихляя попкой, начинает молча драпать к двери.
– Екатерина! – сурово окликаю я снова. Настигнутое Чудище останавливается и поднимает на меня свои невинные глаза. – Разве можно ЛЕЗТЬ В ШКАФ?
По глазам Чудища становится ясно, что никто в шкаф не лез. Разве может такой замечательный, послушный, милый ребенок лезть в шкаф?
– А кто это сделал? – спрашиваю я тогда с театральным жестом руки.
– Атя, – грустно признается моя честная дочь. Уходить от прямых вопросов она еще не научилась.
Я становлюсь на четвереньки, и бумаги мы собираем вместе. Мир-дружба.
На кухне, не переставая крутиться по одной ей известной траектории, Ирка сообщает: полдесятого, а еще не вскипело, не протерлось, не отжалось, не остыло, когда Чудище позавтракает, надо сразу идти гулять, иначе обедать она будет вообще черте когда, я не забыл, что сегодня зачет?
Я-то? Ну забыл.
Бухаюсь в драное кресло, открываю «склерозник» и выдаю утреннюю порцию звонков.
Звонок первый – Пепельникову: завтра сдавать текст! Не кручинься, Пепельников, ступай себе с богом, будет тебе три куплета к празднику, со слезой и историческим оптимизмом, только уж не обмани, родной, позолоти ручку… Ты видишь, Пепельников, моя муза уже зависла у антресолей, и в руках у нее, вместо лиры, обещанный тобою договор на двести рэ. И я, Пепельников, начинаю понимать, откуда столько оптимизма в советских песнях.
Нет на месте – ну и черт с тобой, позвоню потом, главное – кровь из носу начать сегодня! Дз-зынь!
– Алло!
– Дима?
Людмила Леопольдовна Косицкая – мой ангел-хранитель на грешной земле поэтического перевода: я ведь переводчик, черт возьми; связной культур, а не куплетист какой-нибудь!
– Здравствуйте, Людмила Леопольдовна!
– Здравствуй, Дима. У меня есть к тебе дельце. Но сначала выкладывай, какие новости…
Новостей уйма. Денег нет, за телефон не заплачено, надо купить картошку. «Ни дня без строчки» – это сказано прекрасно, но без учета реальности, в которую входят переезд с ремонтом. В августе закинул я своего Венслея на полку, и за два месяца так до него и не добрался. Ему-то что, он два века ждал… Но видит бог: разделаюсь с халтурой, заткну финансовую дыру и сразу осяду в библиотеке.
– Двигается помаленьку, – лукавлю я.
– Давай, милый, давай!
От радостного голоса Косицкой мне становится стыдно. Странно признаваться, но я до сих пор, как малец, боюсь огорчить ее.
Ну ничего, ничего… Как говорится, будет день – будет пища; авось и до Венслея доберемся.
А пока что под руками юлой вертится Чудище – и визжит, и кричит «Алё!», и желает лично повертеть колечко. Ирка ожесточенно натирает яблоко, и по ее съежившейся спине ясно, что в борьбе с этим стихийным бедствием, нашей дочерью, – каждый за себя.
– Извините, Людмила Леопольдовна! – кричу я, не слыша собственного голоса. – Я потом позвоню.
Будет у меня здесь нормальная жизнь, а?
– Катя, у тебя есть свой телефончик! Этот телефон НЕ НАДО ТРОГАТЬ!
Чудище немедленно начинает кривить ротик и, не забывая поглядывать в мою сторону, выдает на-гора Очень Горький Плач.
– Ни капельки не жалко! – безжалостно уверяю я. – Ни ка-пель-ки!
Чудище с воем топочет к маме.
– Кто обидел мою девочку? – не переставая тереть яблоко, интересуется мама. – Кто?
– Имка, Имка!
– Нехороший Имка. Мы за это не дадим ему тертого яблочка и вкусной кашки!
Через минуту ябеда сидит перед тарелкой и радостно размазывает содержимое по доступным предметам.
Десять часов, а день еще не начался. Куда-то я еще должен был позвонить, кроме… И раньше, чем вспоминаю, куда, уже ищу на холодильнике коряво записанный карандашом номер: Пашка!
Господи, а я-то забыл. Пашка.
Медленно накручиваю диск, уже зная, что нажму на рычаг, прежде чем начнутся гудки. Что говорят в таких случаях? И что им теперь мои слова?
Года три назад одна моя знакомая притащила в Институт белобрысого пижонистого акселерата с кожаным шнурком на шее и тетрадкой в руках. Акселерата звали Паша. Поглядывая на меня с холодноватым интересом и в буквальном смысле слова сверху вниз, он отдал тетрадку, записал мой телефон, бросил «чао» и отчалил, помахивая спортивной сумкой.
В общем, нахал.
Стихи его, аккуратно переписанные печатными буковками с редкими островками вымарок, я читал не без ехидства. Стихи были жутко вторичные – что-то такое о жизни, в которой все обман, кроме горных вершин. В общем, сопли.
Он позвонил, как договаривались, через неделю, мы сели в метро, и под шум поездов я полчаса безжалостно обгладывал косточки его строк – почти дословно повторяя выражения, в которых лет за десять до того один маститый поэт демонстрировал мне мою поэтическую немощь. Сержант, вымещающий собственные курсантские унижения на новом наборе. Акселерат сидел бледный, молчал. Один раз, переусердствовав, я поймал на себе взгляд, полный такой затравленности, что сбавил обороты.
На прощанье я милостиво предложил показывать мне то, что он будет писать. Мне понравилось быть мэтром. И вообще, сказал я, не стесняйся, звони. Он кивнул и стал запихивать в свой баул тетрадку. Тетрадка не лезла, и акселерат с силой и ожесточением ударил по ней.
Я думал, больше он не объявится.
Но он объявился – и пригласил меня на какую-то вечеринку, где должен был петь какой-то никому не известный, но, разумеется, гениальный бард. Я отказался; мы разговорились. Суждения его, в отличие от стихов, были оригинальны. Вскоре Паша стал моим приятелем.
Стихов своих он мне больше не показывал, и это меня, кстати, задевало.
Однажды он таки вытащил меня на сборище московских инопланетян конца шестидесятых годов рождения. Инопланетяне рассматривали меня с живым интересом естествознателей к неплохо сохранившемуся реликту. Юный гид, сидя в уголке, тихонько посмеивался в намечающиеся полоски усов.
Так, то исчезая, то появляясь на моем горизонте, белобрысый акселерат удивлял меня до тех пор, пока однажды, уже первокурсником журфака, не пригласил на свои проводы в армию. Я пообещал ему массу новых впечатлений – он пообещал поделиться ими через пару лет.
И вот я сижу в коридоре с аппаратом в руках и собираюсь с мужеством, чтобы набрать номер. Перед тем как отпустить диск в последний раз, делаю глубокий вдох и выдох.
– Да.
– Здравствуйте, Лев Яковлевич. Это Скворешников.
– Кто? – голос у Пашиного отца бесцветный и резкий.
– Скворешников. Я был у вас на Пашиных проводах. В армию. – Я не знаю, как еще объяснить, кто я.
– Да-да, – пауза. – Пашу, наверное, привезут завтра. – Пауза.
– Лев Яковлевич, я утром позвоню?..
– Да, конечно.
Мы молчим еще несколько секунд.
– Хорошо. До завтра.
Трубка молчит, словно пытаясь понять, что я нашел хорошего. Потом начинаются гудки.
На кухне Ирка, изнемогая, читает «Тараканище», Чудище плюется кашей, дирижирует ложкой и требует всех благ.
– Твоя дочь надо мной издевается! – чуть не плачет Ирка. – Скажи ей, чтобы съела. Ты отец или не отец?
Я отец и поэтому точно знаю: если Чудище чего не хочет, значит, так тому и быть.
– Ир, – говорю я, – оставь человека в покое. (Заодно имею в виду и себя.)
Начало одиннадцатого. Надо срочно соображать, как жить дальше. Подумав, соображаю, что для начала надо умыться. Из зеркала на меня глядит отупевшее от недосыпа, небритое существо неопределенных лет и занятий. Три пригоршни холодной воды скрашивают картину не сильно.
На жужжание электробритвы в коридор прибегает счастливое и грязное Чудище; Ирка, измочаленная утренней борьбой, сидит в кресле с учебником, у нее сегодня зачет, ха-ха.
– Никто, никто не приготовил Ирочке завтрак, – печально сообщает она.
Намек понят, и я начинаю отрабатывать свои утренние сны. Я шурую в холодильнике, одновременно излагая диспозицию: завтра с утра, возможно, похороны Паши. Поэтому за деньгами и в редакцию надо успеть сегодня. Посему – завтракаем, гуляю с Чудищем и рву когти. К шести возвращаюсь и отпускаю женушку сдавать зачет.
Казавшееся бескрайним пространство свободного дня неожиданно оказывается крохотным и безнадежно забитым.
За столом молчим. Ну, стол – это громко сказано, стол в нашу кухню не войдет; в общем приткнулись, жуем. Ирка уставилась в учебник, не выспалась еще больше моего, бедолага. И просвета не видно. Не отвлекаться! Одну строфу для Пепельникова надо бы соорудить во время гулянья – может, дальше полегче будет. Главное начать…
– О чем задумался, Имка?
– Так, – говорю. – Двести рублей привиделись.
– А-а.
Ирка понимающе хмыкает, и есть над чем. Женихаясь, я строил из себя чистого интеллектуала. Я бы, собственно, и сейчас не против – но чистыми чистый интеллектуал получает сто восемнадцать в месяц…
– Дзынь!
Мама, привет, у нас, как всегда, замот. Да нет, все в порядке. Чудище здорово – еще как! А у вас? Более-менее? Ну хорошо. Мам, все, извини, бегу.
Доглатываем чай. Без двадцати двенадцать. Аврал! Ирка, заговаривая Чудищу зубы, впихивает ее в комбинезончик, я споласкиваю чашку, хватаю тетрадку, ручку и нахожу «рыбу».
Дз-зынь!
Витька, старик, жутко рад тебя слышать. Ты сегодня дома? Я позвоню, ага? А то сейчас тут все кувырком. Извини. Ну, хоп.
– Димка, скорее, она уже парится!
– Я вот он!
Запах прелой листвы и свежего намокшего асфальта ударяет в ноздри. Засадив Чудище в песочницу, примощаюсь рядом в развилке дерева, вынимаю тетрадь. Наши цели ясны, задачи определены… Вперед!
Вот она, моя «рыба»: бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу. Трехстопный анапест, чудненько! А про что, интересно, это бу-бу? Как сценарий-то называется? «Могучая поступь державы». Отлично, как раз в размер попадает. Строчка есть.
Для скорейшего прихода вдохновения представляю себе восемь новеньких двадцатипятирублевок.
«И могучая поступь державы…»
Ну, понеслось. Это будет третья строчка. Теперь нужен глагол. Что может делать поступь? Греметь может, идти… Нет, идти поступь не может. Слышаться? «И могучая поступь державы на такой-то планете слышна». На какой? На зеленой планете слышна. Почему на зеленой? Вообще-то Земля голубая, но голубая не влезает в размер. «На прекрасной планете слышна». О!