Поединок со смертью Миронова Лариса
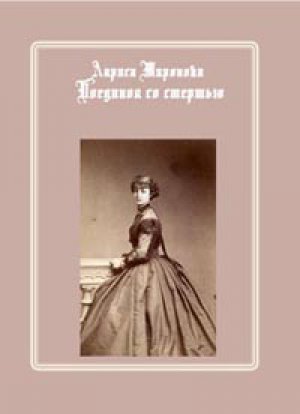
– Может и хорошо, – ответила я уклончиво, не желая заостряться.
– Чего ж хорошего? У него уже старческое дело пошло, а я всё молодая. Вот и ревновал меня до смерти.
– Дуся, ты прости меня, но я не верю в это.
– Во что не веришь? Что ревновал?
– Что мучил тебя.
– Ещё как мучил!
– Просто он любил тебя, потому и не хотел, чтобы тебя, такую хорошую, портили местные нравы, ты же знаешь, какие здесь есть завистливые к чужому счастью да языкатые бабы. А ты ведь сама, как чистая жемчужина, чудесная и красивая, как раз и есть единственная пара Лёше, а Лёша тоже удивительный человек, весь благородный, я таких людей и не встречала в своей жизни больше нигде и никогда. Он тонкой органаизации.
– Он человек, на редкость тонкий, это я тебе говорю, поверь мне. А я ведь разных людей видела. У него благородство в крови, понимаешь? Это сразу видно.
– Любил… Может, и любил, – не слушая меня, сказала она задумчиво, но как-то сразу потеплевшим голосом. – Вот оно что…
– Конечно, любил. Это все знают.
– И тебя он тоже любил, – вдруг сказала она задиристо. – Как увидит в окне, что ты идёшь, так весь и встрепенётся. И кошку твою сам кормил, всё рыбу ходил на речку для неё ловить.
– И что? Он же понимал, что я его очень уважаю, вот он тоже ко мне, наверное, за это хорошо и относился.
– Не «хорошо относился», а именно любил! – настойчиво и зло твердила Дуся.
– Зачем ты так, Дуся? Я сделала сердитое лицо.
– Ладно. Любил, как сродницу свою, я перед смертью его так и спросила.
– Что спросила?
– Кого любил, кроме меня, своей жены, спросила.
– А он что?
– Так и сказал, что ещё тебя любил. Говорил, что ты на его бабку вроде сильно похожа – лицом и статью.
– Вот это новость.
– Новость, а то как же.
– Откуда он свою бабку помнил?
– Бабку он свою помнил по карточкам да по воспоминаниям. Здесь не слыхать про неё, видно, никогда и не бывала. Про них у нас мало кто помнит.
– Интересно…
– Так что и тебя он любил тоже.
– Но это так он сказал, я думаю, из вежливости. Любил-то он по-настоящему только тебя, Дуся, только тебя, это все знают. И никому не верь, кто другое что скажет.
– Любил говоришь? А я как по нём скучаю! Сижу на кухне, а сама всё думаю, что он в спальне спит, удивляюсь, что долго не выходит… Или думаю, вот он у зеркала стоит, причёску свою гребнем поправляет… Или вот утром проснусь, гляну, его на постеле нету, думаю, уже на двор вышел… Стоит на крыльце в своей рубашке белой… Ворот уже в полоску вытерт, а всё на тряпки не отдаёт, он в ней был, когда меня и сына младшего из роддома забирал. Он сына очень хотел, а у нас всё дочки велись… Вот нет его, а я помню, каждую самую малую малость. И не хочу думать, а из головы эти картинки никак нейдут… – Потом она немного помолчала, закусив губу, и сказала тихо, с нежностью, но очень значительным тоном: Он там, за крепкими дверями, да только они все прозрачные…
– Это потому что любил он тебя очень, вот никак из памяти и не уходит, – сказала я, сама не на шутку растревоженная Дусиными страстями и тоже вся дрожа.Она жила всю свою жизнь в заботах о муже и детях. Дети выросли, уехали, а мужа теперь нет. Её планы никогда не уходили слишком далеко в будущее. Так она жила, думала, говорила, это было её защитой, спасением от злобы внешней жизни, которая неминуемо должна была обступить её со всех сторон, как только этот спасительный щит исчезнет.
Я понимала – теперь навечно в глубинах её поражённого тяжёлой утратой сознания останутся картины прощания с ним. Она уже ни о чём не сможет думать, ничем не займётся всерьёз, будет стремиться к нему, всегда боясь этого и тоскуя о нём…
Она внимательно смотрит остановившимися глазами, как бы не узнавая меня, потом подозрительно как-то снова спрашивает:
– Любил, говоришь?
– Ну да, любил.
– Любил… – повторила она, качая головой и скрещивая руки на животе. – Любил… Подарок вон мне оставил на память. В наследствие.
– Покажешь? – осторожно спросила я, пугаясь странного выражения её мгновенно вспыхнувшего внезапным румянцем лица.
Она долго не отвечала, всё тело её сотрясалось мелкой дрожью. Потом она, сделав над собой усилие, прерывисто вздохнула и сказала:
– Пойдём в горницу.ЧАСТЬ VII Обретение
Перед самой дверью она остановилась в нерешительности, как будто всё ещё что-то старательно обдумывая.
Тишина, поджидавшая её там, таила в себе страшные воспоминания…
Луч солнечного света затейливо играл на блестящей дверной ручке, было таинственно и безмолвно, и лишь в палисаднике попрежнему настырно жужжал огромный шмель… А может, это уже был его сменщик…
Она нахмурилась и взялась за ручку, как вдруг заметила, что я тревожно смотрю на неё. Она глянула в мои глаза так прямо и пристально, впервые за весь наш разговор с момента встречи, что я, кажется, поняла значение этого взгляда.
Она могла быть решительной хозяйкой дома только тогда, когда в нём был её хозяин.
Но вот Дуся глубоко вздохнула, словно чувства её вдруг очнулись, и теперь она отчётливо слышит его шаги за дверью, шорох его малейшего движения, его дыхание… Ощущает запах его тела… И стоит лишь протянуть руку, чтобы коснуться его щеки, волос…
В ней словно росло некое новое чувство, или, быть может, прежнее исправлялось, усиливалось и превращалось во что-то иное.
И она снова ощутила подъём, снова полюбила жизнь…
Мне казалось, она искренне рада тому, что я здесь, вместе с ней в этот момент, вижу её обновление. И от этого мне тоже стало хорошо.
…Она как-то рассказывала мне, как в самом начале семейной жизни, когда они с Лёшей жили на служебной квартире, проснувшись однажды утром, она вскочила, выскользнув из-под одеяла, будто там была змея, лихо уселась на спинке железной кровати, расправила вокруг себя пышные оборки своей ночной рубашки и решительно объявила, что хочет жить только в своём доме.
Что ей не нравится жить на квартире, где есть только кухня с плиткой и одна комната. И что в этой одной комнате нужно делать всё – есть, спать, растить детей…
Поэтому ей нужен свой дом.
И что этот дом должен быть очень большим и светлым, чтобы в нём хватило места всем – и детям, и внукам, и дорогим гостям…
Он даже не смог рта раскрыть для возражения. И дом был построен – самим Лёшей, точнёхонько к первым родинам.
Однажды, в густой ночной тьме, когда они слегка повздорили, и Дуся решительно замкнулась в себе, а наутро он превратился в человека с безумными глазами и перекошенным от злости ртом, между ними и случился тот странный разговор…
Срывающимся шёпотом он говорил ей, пытаясь объяснить необъяснимое, что она его мучит, убивает, а она, уже забыв свою обиду, нежно улыбалась в темноту и молча слушала его взволнованные слова. Потом обняла за шею и сказала, что он вообще ничего не понимает в этой жизни…
Тогда она не разделила с ним его муку, не исцелила его, а всего-то и надо было – впустить его в свой мир или войти в его святилище…
А она жила там надёжно, в этом ясном счастливом мире своей любви к дому – к семье и своему хозяйству. И этот дольний мир плавно сливался с миром горним в её восприятии, а он, её любимый муж этого перехода никак не мог понять.
И он должен был жить где-то подле её мира – говорить её словами, принимать её мнения, даже если они казались ему совсем глупыми, – и так было всегда, кроме редких счастливых минут.
Сначала она думала, что Лёша просто не хочет владеть собственостью, обрастать вещами, обзаводиться своим хозяйством. В нём была какая-то отрешённость. А ей невозможно было даже представить себе такой жизни, когда нет постоянной заботы. Её беспокойные руки требовали непременного занятия.
Эти руки просто не переносили покоя.
Дуся была высокой и стройной, ладно скроенной по самым высшим лекалам, с годами осанка её нисколько не испортилась от тяжёлой работы. Видя их вместе, нельзя было не восхищаться тем, как они подходят друг другу.
У неё были такие чудесные глаза – огромные, в поллица, с прямыми длинными ресницами. Когда они становились задумчивыми и печальными, невольно приходила мысль попросить у неё прощения, будто ты и есть – причина этой печали.
Когда же они, Дусины глаза, искрились весёлым смехом, тотчас же хотелось улыбнуться.
Она никогда не была котёнком, зайкой, мышкой. И в лице её рано исчезло выражение пленительной детскости. Её фотографии прежних лет – черно-белые или раскрашенные поверх изображдения розовой и голубой краской, ясно говорили об этом.
Когда она начинала говорить, невозможно было не следить за её глазами – так богаты и разнообразны были оттенки чувств, отражённые в них. Но иногда казалось, что она только притворяется взрослой, так наивны и простодушны бывали иные её рассуждения.
Распаляясь, она совершенно менялась – будто это был уже другой человек, и я легко могла вообразить себе, как она может отчитать мужа и довести его до бешенства, так, что он даже может наброситься на неё и задушить…
Постояв ещё немного в смутном предчувствии, она, коротко вздохнув, рванула тяжёлую дверь на себя – она сделала это так, как если бы в отчаянии вдруг решила броситься в пропасть.
Мы вошли в горницу. В доме стоял какой-то приторный сладковатый запах. О ужас! Это жасмин…
Я села на стул у круглого стола. Она, смахнув со скатерти крошки в согнутую лодочкой ладонь, вышла и через минуты три вернулась – принесла из кладовки шкатулку, укутанную в большой коричневый платок. Медленно развернула и аккуратно поставила на стол.
– Судья мертвых пощади его, – сказала она хриплым, шершавым каким-то голосом.
– Так и будет.
– Он ждёт меня там. И родители ждут…
Она протянула мне шкатулку, слегка коснувшись моих рук. На этот раз её пальцы были просто лед. Они дрожали, словно от слабости. Две крупные прозрачные слезы выкатились из её затуманившихся чёрных глаз, и с её побелевших губ слетело странное слово, которое я потом уже вспомнила – она сказала что-то вроде «ники»…
– Вот, все на терраске возился, станок у него там есть. Из камушков да стёклышек каких цацек мне наделал, глянь, сверкают, что настоящие…
– Можно? – с нарастающим любопытством спросила я.
– Смотри.
Шкатулка, изящно исполненная из чёрного дерева, довольно большая и очень ладно сделанная. Её крышка украшена сложной фигурной резьбой. В самой серединке красовался жук с четырьмя крыльями, углы её были окантованы жёлтым металлом.
– Откуда у него эта шкатулка? – спросила я сразу как-то севшим голосом – меня била дрожь.
– Говорит, отец когда-то дал. Он в ней сначала хранил какие-то заметки. Потом вот это всё… своё изделие… сюда сложил.
Я открыла шкатулку. Едва сдерживаемое спокойствие, которое я стремилась во что бы то ни стало, сохранять, и это мне, кажется, удавалось, теперь сменилось страшным волнением, близким к истерике. Дуся тоже была сильно взволнована. Щеки её пылали, огромные чёрные озёра лихорадочно блестели.
Глаза мои сами собой зажмурились.
Потом я с осторожностью приоткрыла их – не сон ли это наяву? – и снова долго восторженно смотрела на удивительное содержимое шкатулки…
Потом я перевела взгляд на Дусю.
Её волнение тотчас же сменилось странным, почти мертвенным спокойствием. Краска сбежала с только что полыхавших щёк, её дрожащие губы едва слышно произнесли:
– Знаю я зачем это… Он хотел, чтобы я ему поклонилась за всё… Что меня воли лишил… взапертях всю жизнь держал… Как вспомню об нём, так во рту горько делается… Он мои туфли, сапоги, всю мою обувь прятал, чтобы я из дому не вышла, когда спит…
– Дуся, милая, он просто без памяти любил тебя.
Вдруг в калитку постучали. Удары были такими сильными, что мне подумалось, не пожар ли где?
Быстро, как ветер, перепрыгнув порог и крыльцо, Дуся вылетела во двор и ловко задвинула задвижку, пока люди, по устойчивой деревенской привычке входить вольно во всякую дверь, не ворвались в дом прежде, чем их успеют спросить – зачем они здесь?
Они о чём-то поговорили через ворота, и люди ушли, а Дуся, так же поспешно, вернулась в дом. Села молча напротив и стала смотреть на меня.
Я же смотрела на то, что находилось в шкатулке.
Брошь, чудная брошь, украшенная огромных размеров овальным сапфиром, лежала сверху…
А это что?
О боже, какое чудо! Сияющая бриллиантовая застёжка и подвеска из жемчужины в виде изящной капельки…
Ещё брошь… Овальная, бриллиантовая, с красивой застёжкой…
Опять бриллинты…
Изящно изогнутая таира с чудесным сапфиром посередине…
А это что?
Изящный воротник в три слоя – из чистых бриллиантов и мягко мерцающего жемчуга…
Я по очереди рассматривала украшения, подробно разглядывала их снова и снова, но всё не решалась опустить руку в шкатулку.
Но вот все сокровища осмотрены. Я не знала, что и как говорить.
Дуся по-прежнему с волнением смотрела на меня.
Дыхание моё перехватило, и я продолжала молчать, не в силах хоть что-либо сказать.
Драгоценности в шкатулке легли так, что по сверкающей поверхности отчётливо проступали жемчугом четыре буквы латиницей:
NIKI
Дуся смотрела на меня вопрошающе. Так и не дождавшись комментариев, она, теперь уже умильно и растроганно, сказала:
– Понравилось? Робятишкам отдать что ли в игрушки… – Потом задумчиво добавила, рассеянно закрывая крышку и вертя шкатулку в руках: Вот внучка приедет на поминание, скоро полгода Лексею будет, ей и отдам, – сказала так и снова открыла крышку и вытащила из шкатулки чудесную бриллиантовую таиру. – Пусть играется, – шёпотом уже произнесла она, выставляя таиру передо мной.
– Дуся, солнце, послушай моего совета, – сказала я срывающимся голосом, – никому эту шкатулку не показывай, если не хочешь большой беды. Запрячь её так далеко, как только можешь, и главное, подальше от дома. И никому, никому об этом не говори, даже если тебя будут резать на части.
Она внимательно посмотрела в мои глаза.
– И ты думаешь, что это из радиоактивного стекла сделано?
– Не знаю… Возможно… Но только не надо её никому показывать и даже в доме не надо держать. Это же тебе Лёша подарил! Вот и храни его подарок как зеницу ока.
Она вздохнула.
– Значит, правда, опасная материя. Я тоже так сначала подумала, он никогда меня не пускал, когда на терраске с этой шкатулкой возился. Только потом так мне эти игрушки самой понравились, что и оставила в доме. – Она снова повертла шкатулку в руках.
– Я, пожалуй, в речку её с моста брошу, в надлежащую волну, путь до самой Волги плывёт, – отчаянно сказала она.
Я вскочила.
– Дуся, ты что – Стенька Разин? Какая Волга? Просто надо спрятать, но не дома, а то ведь…
– Что? Прятать? От народа?
– Народ… народ! Ты же знаешь…
– А и сама знаю, какой. Так прятать? А где?
– Где хочешь, спрячь. Хоть в лесу. У вас же много тайников повсюду. Ну, где вы деньги прячете.
Дуся смущённо и загадочно улыбнулась.
– Вот ты как рассуждаешь… А я хотела, было, их тово…
– Чево?
– Уже как-нибудь определить, когда денег не было. Теперь ведь только моя пенсия. Две с половиной.
– Что ты хотела с ними сделать? – спросила я в ужасе.
– Да тут у нас одна покупает всякую безделицу, по сто рублей за штуку. За всё вместе тыщу бы дала, и даже больше. А и правда, хорошо сделано. – Дуся поднесла шкатулку к самым глазам. – Он искусник большой. Вон зеркала какие резал одним топором. Кружево, а не дерево, ты только поглянь!
Я крепко схватила её за локти.
– Вижу, Дуся, вижу, но ты поняла меня? Спрячь, и – подальше. Это память о Лёше. И она принадлежит только тебе. Ты поняла?
Она снова заплакала, завернула шкатулку в платок, поставила её на буфет, потом достала из верхнего ящичка фото, приложила к губам, что-то пошептала и протянула его мне.
– Это… кто? – спросила я, едва ворочая языком от волнения. – Знаешь, эта фотогрфия… у меня в доме была такая же… На стенке висела в тёмной рамочке.
Она нежно ткнула пальцем в изображение.
– Лексей это, в младенчестве с родителями. Они вроде в тот год в нашу Виндру с Урала как раз и приехали.
– А жили… жили они где?
– Да в твоём доме. Неужли не знала?
– Первый раз об этом слышу.
– Самый культурный дом во всём селе был, на всю нашу Виндру главный, построили его барские работники. А хозяева план дали. От барской усадьбы ничего уже не осталось, а этот дом стоит вот. И забор у них стоял в два яруса – три на три. Крепость настоящая, а не дом. Бирюками однако жили, Лексей весь в них, своих сродников. У них ещё рабочий один жил, с ними приехал, поляк вроде. Пшекал когда говорил.
– Вот! А говоришь – ничего не помнишь. А где же он теперь?
– Тоже помер. Давно уже. После войны сразу. Дуся замолчала и задумчиво смотрела на шкатулку.
– Спасибо тебе, милая моя, спасла ты меня, – сказала я со вздохом.
– Да где уж – спасла? – улыбнулась Дуся. – Ты и сама живучая. А спас нас обеих бог.
– Это верно, – согласилась я. – Ну так я пошла.
– Куда это? – вмиг встрепенулась Дуся.
– Попутку ловить до станции. Моя рана уже начинает болеть. А завтра может и вовсе загноиться. Жара ведь. Хотя крови я выпустила из неё будь здоров сколько. Здесь ведь нет врача, так что надо ехать.
Дуся внимательно посмотрела на мою, всю, от колена до щиколотки, ободранную, ногу.
– Пластырь крепкий, а надулся весь. Давай ещё марлей повяжем по ране, чтоб не отвалился.
– Давай.
Она сделала мне новую повязку, потом встала у двери и сказала строго, даже сердито:
– Сначала поешь, потом пойдёшь.
– Ладно, – сказала я, прекрасно зная, что она меня из дому не выпустит, пока не накормит.
Я сидела, положив раненую ногу на табуретку и смотрела на Дусю.
Она же проворно включила двухкомфорочную электрическую плитку, сварила в солёном кипятке макароны, ловко откинула их на дуршлаг, потом снова сбросила в кастрюлю, перемешала с двумя ложками тёмного топлёного масла, затем из холодильника доставла баночку с размоченными и, наверное, отваренными уже загодя сухими грибами, ошпарила их кипятком, мелко порезала, смешала с мелко же нарезанным луком, морковью и зеленью, обжарила на сковородке, потом всё это снова долго мешала в кастрюле, вылила туда ещё стакан сливок и всё вместе кипятила минут десять.
Я голодно нюхала воздух и жадно глотала слюнки.
– Сегодня в продуктовую палатку водку привезут со станции, часа в три машина бывает. Попросись с ними обратно ехать, – говорила она, подкладывая в мою тарелку божественную пищу.
– А сколько это будет стоить?
– Может, за сотню согласятся. Им что жадничать? Они на водке хороший навар имеют. Вечером есть поезд на Москву?
– Есть, и не один. Только бы успеть.
– А вернёшься ли? Виндру не бросишь? – спросила Дуся, глядя на меня исподлобья.
– Обязательно вернусь. Я же сюда приехала не просто так.
– А зачем? – лукаво спросила она, прищурясь. – Кого ты здесь, у нас в глуши забыла?
– Тебя, Дуся. Тебя и твоего Лёшу. Приеду, как только залечу боевые раны, – сказала я, весело смеясь. – И на могилку Лёшину сходим с тобой обязательно.
– Дом будешь другой покупать? А то тут рядом со мной, на горке и построилась бы. Маленький домок срубят недорого.
– Нет, Дуся, я буду жить в своём доме на старом месте.
Она с досадой покачала головой.
– Какая ты упорная. Так точно приедешь? Ой ли?
– Приеду, да, когда поправлюсь. Тогда и отремонтирую его, свой дом. И всё будет там, как прежде. Ничего лучше всё равно не придумаешь. Только двухэтажного забора не будет, это точно. Цветы вокруг дома, по всему участку посажу. И будем Лёше на могилку их носить на поминание.
Дуся узко сощурилась и спросила утверждающе:
– Значит, Винду не бросишь?
– Не брошу, сказала же.
– Бабы тут разное говорят, зачем ты сюда приехала. Кто говорит, чтоб здесь за мужиками вольно гулять.
– А ещё что говорят?
– Ещё? Ну, кто бает, что ты за лесом подслеживаешь, кто ворует, и в Москву по телефону сообщаешь. И тебе премию за это плотют.
– Да уж… Миллионщицей скоро буду. Дуся усмехнулась.
– А кто тебе про нашу Виндру сказал-то? Как ты сюда забралась?
– Ой, Дуся, я уже много раз говорила, ты просто забыла. Серафим Саровский, вот кто мне про Виндру сказал. В 91 году в Москве голод был страшный, цены жуткие, а зарплаты старые, всё ещё доперестроечные. Вот и решила я купить дом в деревне и кормиться с детьми от своей земли.
– А Серафим Саровский причём?
– А его икону в нашей церкови Спаса на Песках как раз и выставили. Я тогда не знала, что он из Сарова. Но, видно, это мне был знак. Потом пошла в профком, взносы платить, а там на двери объявление висит – адрес и текст, что дом можно на лето недорого снять в селе Виндра. Так я сюда и приехала.
– А про Виндру нашу ты откуда знала?
– Ниоткуда. Я вот сама удивляюсь, как это я вдруг сорвалась с места и рванула сюда. И как дом этот увидела и решила его тут же купить. Восемьсот советских рублей он мне встал. Я как раз за книжку деньги получила.
– Здесь, на Красной Горке, Мода-ава когда-то жила-была, – сказала Дуся задумчиво.
– Была? Мода-ава?
– Ну да, много раз являлась людям, Матерь Пресвятая по-мордовски. И она хаживала к Серафому Преподобному, такое поверие тоже есть.
– Вот! – обрадовалась я. – Значит, меня интуиция верно привела в эти места.
– Верно-то верно, а вот денег много лишних за дом дала.
– Дорого за дом заплачено, и ты так думаешь?
– Дорого, – сказала Дуся, – тогда и за двести дома покупали. И крыша была вся в дырах и потолок провален, и сени разломаны. Один ремонт чего стоил.
Она сосредоточенно молчала, а я, в некотором смущении, смотрела на окно – между туго накрахмаленными занавескаи слабо пробивался, несмело падая на свежую краску подоконника, косой весёлый лучик солнца.
Дуся хотела включить телевизор, однако на экране вспыхнула серая пурга, потом побежали полосы.
Она, махнув рукой, выдернула шнур из розетки. Волнуясь всё сильнее, искала, чем заняться, явно не находя себе места. Взяла доску и принялась на ней нарезать хлеб, много хлеба, будто здесь собиралась обедать большая крестьянская семья.
Нож яростно взвизгивал под её рукой.
Тогда она, отложив нож и доску в сторону, избоченять, вдруг сказала с вызовом:
– Дорого, говорю тебе, за такой дом столько отдавать!
– Дорого, – миролюбиво согласилась я, – но он того стоил. Дом был так сделан, что на него можно было часами любоваться. Хозяин знал своё дело. Фундамент, штукатурка, снаружи обшит тёсом.
– А печи?
– Чудо что за печи! Голанка великолепная. И русская печь тоже чудо.
– Конюшня тогда ещё была цела?
– Конюшня отлично сохранилась, но мне пришлось её разобрать. Она очень много места занимала, а пахотной земли почти уже не стало. Только под конюшней и на задах кусок. А она как раз тень давала на весь этот участок.
– А где раньше у хозяев огород был, что не сажаешь?
– Там давно всё заболочено. Я смородину посадила и иву-краснотал. Больше там, на такой влаге, сажать нечего.
– Конюшню жалко, Лексей гворил, что у них коней много было.
– Наверное. Подков, сбруи и прочего лошадного инвентаря до сих пор в земле полно. Как начну копать, так обязательно что-нибудь железное да и откопаю. А в кладовке старинных вещей полно, и лапти из лыка, и деревянная утварь для кухни. Книги были разные, учебники старые, химию помню дореволюционную, с рисунками с гравюр – опыты алхимиков. Старый, довоенный ещё радиоприёмник был, похоже, самодельной сборки. Но хороший, я в этом понимаю. Вообще, не бедно они жили.
– Ясное дело, Лексей меня замучил готовкой, хорошую еду любил и чтоб всё чисто было, ел же всегда один за столом. Он поест, потом я уже. Но денег мне всегда давал без отказа, если на хозяйство. Он хорошо зарабатывал на лесоповале. Бригада большая у него была. Его слушались, он хорошо руководил.
– Конечно, Лёша авторитетный человек.
Дуся подумала и спросила уже другим, деловым каким-то тоном:
– А одежды там не было, когда ты дом купила? Лексей рассказывал, что много одёжи должно быть в подполе, на жердях всё висело. Подпол там высокий, сухой, не то, что у нас здесь, одна сырость. Пчёл даже держали, говорят, зимой в этом подполе.






