Поединок со смертью Миронова Лариса
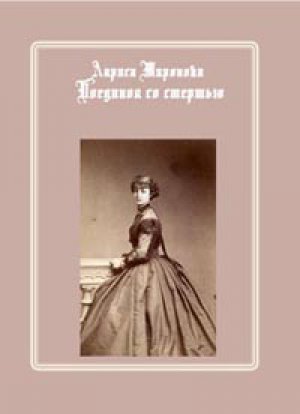
– Хорошо бы, а то как-то надоела уже эта китайская пытка.
– Вот и Лексей так говорил, когда ему ранку перевязывали.
– Что… говорил? – спросила я.
– Что его как пилой пилит всё время.
– Пилой?
– Ну да, пилой. Он, знаешь, как пилу называл?
– Интересно, как, – сказала я удивлённо, мне не доводилось заставать Лёшу за шуткой.
– Что пила это ножик новорожденный.
– Почему? – засмеялась я.
– А потому что у него только-только зубки прорезались. Смешно.
– Смешно, да, очень, – улыбаясь, сказала я.
– Он и сам смеялся, – тоже улыбнулась она. – Ну как, уже не болит?
– Спасибо, Дусь, вообще боли не чувствую. Но только нужен ещё пластырь, да побольше. Видишь, марля промокает. Иначе мне не доехать до Москвы.
– Куда ты в таком состоянии? – ужаснулась она.
– А куда прикажешь? Кто мне здесь помощь подаст? Ради меня скорую со станции вызывать не будут, да и, к тому же, сегодня воскресенье.
Она промолчала.
– То-то же, – сказала я, морщась от боли.
– Ой, ёй… И ноги все побиты! – тихо заплакала Дуся. – Только мази больше нет. Куда с такими ногами…
– Пустяки. Они же ходят, это главное.
– А синё всё. А кровишша хлещет. На вот ещё полотенце!
– Да это ничего, я просто неловко повернулась. Когда сижу спокойно, то почти не течёт.
Она посмотрела на меня с ужасом и сказала:
– А как вся кровь выйдет да здесь помрёшь?
– Глупости. Я не за тем сюда приехала и пешком почти двадцать километров шла по грозе.
– Да смерть не спрашивает, кто за чем шёл! За нею посылать не надо, сама явится. Я вот в церковь шла, а угодила прямо в молнию.
– Так ведь жива осталась.
– Осталась?! Такой живой иной мёртвый позавидует. Вон вся горю. И пахнет молнией вся одёжа на мне.
Я обняла её.
– Это пройдёт, ничего страшного. Но где пластырь взять? Если рану не заклеить, кровь, похоже, не скоро остановится.
– А что толку заклеивать?
– Главное, остановить кровь хотя бы на время.
– А потом?
– А потом можно ногу повыше устроить, ну и.
– Что? – напряглась она.
– Что… что? Начнём колдовать.
– Так ты прямо сейчас и колдуй, – серьёзно сказала Дуся и даже слегка толкнула меня в плечо. – Чего тянуть. Я на тя удивляюсь.
– Прямо сейчас не… могу.
– Почему?
– Потому что для этого надо сосредоточиться. А сейчас я вся какая-то раздрызганная.
– А ты озлись.
Я с досадой сказала:
– Пластырь нужен, понимаешь. Без пластыря какое колдовство – говорю тебе, не могу.
Она тут же присмирела и сказала торопливым шёпотом:
– Ладно тогда. А ты сиди уже тихо.
– А ты куда?
– Я к Лизке сбегаю, побудь минуту, я мигом. У неё всего запас имеется, – сказала она, тут же быстро ушла и скоро вернулась с пластырем – большим, как раз таким, как мне нужно, в ладонь.
– Спасибо, Дусечка, давай, клей, не бойся, быстро только делай, чтобы края не намокли.
– И тут ещё кровь… И тут… – шептала она ожесточённо.
И правда, учитывать синяки и садины можно было долго. Когда она ловко приклеила пластырь на рану и закончила обряд приведения меня в божеский вид – оттёрла грязь и кровь, в которых я вся была порядком испачкана, дыхание её стало свободней.
Не без волнения смотрела она на меня, видно, не осмеливаясь делать дальнейшие расспросы. Она вполне понимала, что спасает меня. Возможно, ощущая в этот миг чистое сострадание, она уже забыла о том ожесточении, в котором встретила меня менее получаса назад.
Такой взволнованной я её никогда раньше не видела.
Но вот лицо её потемнело, глаза потухли, похоже, она снова вернулась к прежним мыслям – душа её словно омрачилась тяжёлыми предчувствиями…
– Дуся, эй, ты здесь? – спросила я тихо. Она ласково улыбнулась мне и спросила:
– Что ещё сделать, чтоб тебе полегчало?
– Ничего, пока всё в порядке, – ответила я, – главное, нет переломов и обошлось без сотрясения. Я ведь когда-то была гимнасткой, навык группировки при падении не утрачен. А самое главное, милая Дусечка, что мы обе с тобой сегодня утром попали в переделку и живы остались.
Выпрямившись во весь рост и глубоко вздохнув, она, снова полыхая румянцем во всю щёку, смотрела перед собой.
Потом она закрыла лицо руками и вскричала:
– Чёрт! Чёрт всё подстроил!
– Успокойся, прошу тебя, – сказала я не без испуга – такой Дусю я ещё не видывала.
– Чёрт! Чёрт! – не отнимая рук от лица, причитала она.
– Да, пожалуй, он, проклятый, конечно, он, – согласилась я. – Мы ему, дураку, сильно не нравимся. Хотя я сперва подумала, что всё это кое-какие серые волки – сиречь злые люди, подстроили.
– Ой, тут и не такое подстраивают. – продолжала всхлипывать она.
Я кивнула.
– Волчью яму можно, конечно, силами злых людей устроить, а вот как такую мощную грозу на ровном месте можно организовать, да ещё молнию на тебя, мою лучшую подругу и спасительницу, как они, эти злые люди, смогли направить? Тут даже ресурсов лесопилки вместе с аптекой, да ещё двух магазинов, конечно, боюсь, не хватит, – нервно смеясь, сказала я.
Она отчаянно замахала руками.
– Смеётся! Чёрт, чёрт это устроил, вот кто! Будь они все прокляты!
– Не ругайся, – сказала я просто так, хотя мне и самой очень хотелось кое-кого обругать как следует. – Так чёрт или «они», надо бы как-нибудь определиться. Хватить бестолку кричать, голова от этого болит, Дусечка.
– А что – не ругайся? – опять возмутилась Дуся. – Злыдней надо проклинать, когда злыдня ругаешь, это хорошо, бог за это грехи простит.
– Новый апокриф?
Она схватила мою руку и крепко стиснула её в своих горячих ладонях. Такой разгневанной я Дусю ещё не видывала. Слепо повинуясь её настроению, я отчётливо произнесла:
– Проклинаю.
– Не так! – в отчаянии махнула рукой она. – Кляни как следует, кляни иродов, на душе легче будет! – с большим сердцем выкрикнула она и, вконец обессиленная приступом внутренней злобы, не имевшей достойного исхода, упала на широкую лавку у стенки дома.
– Наверное, ты права, – согласилась я и сказала с азартом: Будь они все прокляты! Трижды прокляты, собачьи дети!
– Собачьи?! – взвилась Дуся в новом приливе сил.
– Собака, она пользу человеку приносит, а эти ироды одни мученья людям делают!
– Ладно, – сказала я примирительно, – берём выше – вражье отродье. Так подойдёт? Будь оно проклято, вражье отродье! – пафосно выкрикнула я. – По-моему, нормальное ругательство. Грехов пять-шесть мне будет отпущено за это. Как думаешь?
– Смеёшься всё.
И она снова горько заплакала.
– Дуся, хватит плакать, мне это надоело, – уже начала сердиться я. – Давай соберёмся с силами и придумаем, что делать. Моё положение идиотское, из него надо как-то выбираться. Помоги мне в этом.
– Надо… – сказала она, вытирая мокрыми ладонями лицо, однако всё ещё продолжая плакать.
– Главное, мы обе остались живы. Значит, бог сильнее чёрта, и он нас – любит. Потому и спас – тебя и меня, не допустил нашей погибели.
– Спаси, Господи, наши души, – сказала она со всхлипом, сквозь слёзы и вдруг заплакала навзрыд.
Я рассвирепела.
– Дуся, да что с тобой? Ты просто не в себе. Перестань плакать, радоваться надо, нам с тобой крупно повезло – молния тебя не убила, а это знак. Теперь ты непростая Дуся, ты теперь – дитя молнии.
– Дитя молнии? – сказала, всхлипнув, она, и вытерла глаз краем платка. Вдруг лицо её вспыхнуло новым приступом – гнева: – Это он, он хотел меня убить.
– Кто – он?
– Лексей.
– С чего бы это? Ты просто с перепугу рехнулась, милая Дуся.
– Да он всё руку мою просил, а я не давала. Вот и разозлился на меня, чёрт окоянный.
– А почему руку не дала?
– Страшно.
– Чего испугалась?
– Я не его боялась, мне он совсем не страшный был, мы с ним в одной постеле так и спали до последнего дня.
– А что тогда?
– Боялась. Что меня с собой потащит.
– Дуся! Ты чего боишься? А?
– Не смерти боюсь, я с ним боюсь туда идти.
– Почему?
– Я кто знает, куда оно всё пойдёт? Он такой… непонятный…
– Мне так не кажется.
– Ага! Причащаться отказывался долго.
– Так что с причастием?
– Потом уже исповедовался и причастился. Когда все уколы принял.
– И что?
– А я знаю? Не мне же он исповедовался. Кто поймёт, что у него на уме.
– Дуся, что у него может быть на уме, сама подумай.
– Да он всю жизню такой был, что-то от меня в душе скрывал. Вот какой антихрист! Всех моих подруг… Ы-ыыы…
– Я уйду сейчас же, если ты не перестанешь ругаться, нести эту напраслину, – сказала я, вскакивая, уже всерьёз и очень сердито. – Лёша тебя любит, и все это знают. Я не хочу больше этот бред слушать. Хватит гнать пургу.
Дуся притихла и смотрела на меня исподлобья. Румянец во всю щеку тут же сменился бледностью.
Я была порядком смущена столь откровенным и даже грубым соприкосновением с чужой семейной тайной, хотя и понимала, что она всё это специально говорит, сейчас я была для неё чем-то вроде экрана, который защищает её от ужасного отчаяния, отчаяния, способного, может быть, даже убить…
– Ладно, не буду, – вдруг сказала она умильно, – давай вот присядем на лавку, в ногах правды нет, садись рядышком со мной, – вмиг присмирев, говорила она. – Так теперь, ты говоришь, дитёй молнии буду называться?
– Да, дитя молнии, так называют людей, которым удалось выжить после подобного случая. У тебя даже могут открыться сверхспособности. Ты почти что святая теперь.
– Скажешь такое… – шумно откашлявшись, сказала она.
– Дусь, мы тут раскричались. Давай потише, что ли.
Она глубоко вздохнула и сказала:
– А что тише? Люди здесь редко ходят. А Лексея теперь не разбудишь. Хоть плачь, хоть кричи, хоть смейся. Умер как пять месяцев будет, перед смертью всё говорил: «Дай руку. Дай мне руку!» А я не давала, боялась, что утащит за собой в могилу. Так он теперь сердится на меня.
Я ошарашенно смотрела на неё.
– Дуся, прости, я же не знала. Я подумала, что его в больницу забрали.
Как сжалось моё сердце от этого известия! А ведь было у меня предчувствие ещё прошлый год, что недолго ему уже осталось. Почему я это понимала – сама не знаю.
Я, словно и впрямь какой-то злобный всеведущий дух, ощущала его близкий конец, видела, наверное, по его глазам, как он в одиночестве отбивает приступы смерти, а она, костлявая, настырно близится к нему, совсем уже рядом.
И ему, конечно, требовалось настойчивое внимание близких.
Видела все его судоржные и тщетные усилия выжить, излечиться от душевной хвори, смертной тоски и страдания о непонятом, видела его терпение и мужество в этой неравной борьбе, но никак и ничем не могла ему помочь.
Был день, это уже на исходе осени позапрошлого года, когда я, возвращаясь из леса с корзинкой грибов, зашла к ним проконсультироваться насчёт двух из них – подозрительных, с большими изогнутыми фиолетовыми шляпками. Лёша сидел на табурете, ровно прислонившись спиной к печи, видно было, что ему плохо – он вдруг весь прозрачный стал, невесомый, одной ногой будто уже там.
Дуся на ухо мне шепнула, когда мы подсели к столу и разоложили на нём грибы из корзинки, что на прошлой неделе брали анализы, и что признали у него рак.
Тогда удалось приостановить болезнь, в таком возрасте процессы идут медленно, и он, по словам врача, мог ещё лет пять-семь, а то и больше прожить. Истинную причину ему не сказали, чтобы терзания по поводу болезни не мучили его и не омрачали последние годы жизни.
А в них ещё могли быть и радость, и свет.
Когда ему стало сильно плохо, недели четыре Дуся отчаянно мучилась – поправится ли он. Но вот он стал поправляться, болезни будто и не бывало. Так получилось, что тогда, разбирая грибы, я была так подавлена сообщённой мне Дусей новостью, что, сама не зная почему, протянула эти два сомнительных гриба Лёше и сказала:
«Возьмите вот, на память».
Он взял грибы, повертел их в руках, понюхал, потом положил оба гриба на узкий печной выступ. Фиолетовые шляпки очень смешно смотрелись на белой печке.
Теперь мне подумалось, а что, если бы он угас в ту осень? Конечно, мне трудно себе вообразить, какие страдания пришлись бы на Дусю тогда, поскольку горе свалилось бы на неё внезапно. Но думать о том, что она всё это время жила с мыслью о его неизбежном скором конце, мне было трудно.
Эти два человека крепко проросли друг в друга, и я любила их нежно и пылко, одинаково сильно жалела обоих, своих самых надёжных друзей – Дусю и её необыкновенного мужа Лёшу.
Они уже давно были одно целое. И смерть одного из них могла ранить и другого – насмерть.
Эта отсрочка дала Дусе некоторую передышку, избавила её от угрызений совести, что «не всё сделано». Конечно, она мучается сожалением, что «мало уделяла» ему внимания, своей любви.
Когда близкого, любимого человека уже нет с нами, его значение непомерно разрастается. Он уже занимает весь мир, вытесняя из него всё, что не связано с ним лично.
Он не хотел ложиться в больницу, и это понятно. Больница была в городе, рядом своих никого, и как это страшно – осознавать себя беззащитным, брошеным на растерзание равнодушным врачам, которые видят смерть каждый день и для них это рутина, а мысли у них всегда одни – где взять денег на прожитьё?
И нет рядом родных глаз, которые смотрят на тебя с тревогой, когда накатывает ужас смерти, нет под рукой анальгетиков, когда дикая боль со всей яростью, приступом начинает вдруг впиваться в тело…
Никто не ведёт с умирающим ласковую, такую необходимую, хотя и насквозь фальшивую болтовню о будущей здоровой жизни…
Ничто, ничто не может заполнить пустоту надвигающегося бездонного небытия…
И только если сам человек жил в ладу вечностью, ему в этот час не будет так страшно. И на него может снизойти просветление.
Человек почти всегда умирает не потому – жил-был да и состарился, он умирает от конкретной причины, проявляя до конца тщетное упорство в борьбе за каждое мгновение.
Чем же эта жизнь как мила ему?
Своей неповторимостью, тем, что другой такой больше никогда не будет.
Смерть сама по себе не может появиться в мире. Ни одно несчастье не существует само по себе – оно всегда изделие рук человеческих.
Ибо мир есть потому, что живёт в нём человек. Почему так устроено – никто не знает.
Мира без человека человек не знает.
Меня не было здесь, когда он ушёл, и это вдвойне больно. Я не видела всех издёвок смерти у его одра, её гримас и последней, дарованной всем нам доверчивой его улыбки…
Когда говорят, что кому-то «пора умирать», этот кто-то почти никогда так не считает.
Из опыта жизни мы знаем, что «все смертны», но всякий раз, когда это случается с твоим близким, родным человеком, – это бедствие настигает его, как репрессии, как ничем не оправданное насилие над неповинным.
«Прах еси и в землю отыдеши…»
Рано или поздно каждому из нас ниспосылается Великое Знание. Иным оно даётся слишком поздно и в очень краткой формулировке:
«Жизнь прожита зря…»
Вот в чём жестокий парадокс творения, тайна умысла Творца…
Да, всякий человек в потоке бытия, отрекаясь от посюсторонней юдоли, неумолимо приближает ставку со смертью.
И однажды эта встреча неминуемо состоится.
И не дай бог, если именно тогда тяжкий груз последнего откровения внезапно падает на плечи – кажется, жизнь прожита зря.
Лёша ушёл как раз тогда, когда уже перестали беспокоиться о его здоровье – так хорошо он себя в последнее время чувствовал.
Я не могла смириться с этой нелепой мыслью – Лёши больше нет…
Он тогда отказался исповедоваться, ему сказали, что у него крупозное воспаление лёгких, он действительно был сильно простужен…
Фиолетовые грибы лежали на припечке долго, совсем высохли, сморщились, но по-прежнему продолжали издавать резкий, терпкий, особый грибной запах. Потом они куда-то пропали, я Дусю не спрашивала, а она сама по этому поводу ничего не говорила.
Лёша после этого стал себя называть «грибной человек»…
Да… не знала…
– А что знать? – сказала Дуся, исподлобья поглядывая на меня своими огромными, тёмными глазами. – И я не знала, что так скоро помрёт, вроде излечился от прежних хворей. Хотя и в возрасте он уже давно.
– Рак пожилым менее страшен, – сказала я, чтобы хоть что-то ответить растревоженной Дусе.
– Он не от рака помер, у него опухоли все рассосались. Врачи всё удивлялись, даже думали, что ложный диагноз сделали.
– Такое случается.
Дуся покивала головой и сказала очень огорчённо:
– До последнего дня крепкий был, свежий. Хоть и старый совсем уже стал… А тут взял да и помер. Хотя возраст его такой, что давно пора помирать.
Глаза её стали просто бездонными, иссохшее от худобы лицо превратилось в простую для них оправу.
Они как-то фантастически вдруг распахивались, взгляд вперялся в пространство, и она, Дуся, вся в этот момент была сосредоточена в этих бездонных черных озёрах в опушении прямых жёстких ресниц…
Взглядом этих моодых горящих глаз она как бы отделяла себя от бренного мира, не давала ему полностью поглотить, перемолоть себя.
– Да что ты говоришь, я здесь знала пять бабулек глубоко за восемьдесят, хоть вон Кланя за твоим огородом жила, помнишь? Или баба Варя Авилова, двоюродная сестра Ахромеева. А Лёша куда моложе был. Восемдесят хоть сравнялось?
Дуся резко подняла руки, решительно сдвинула ладони, соединила их в чашу, и держала так перед собой, будто отчаянно ждала манны небесной – градин пота божьего, радеющего о нас.
Всю жизнь она жила волшебной жизнью своей трепетной души и всегда досадовала, когда её от этого отвлекали, а теперь она вдруг внезапно и жестоко выброшена из своего привычного бытия.
Я с ужасом думала о том, как теперь она будет горе мыкать – ощупью пробираться по закоулкам такого чужого для неё, жестокого внешнего мира.
Она, словно прочтя мои мысли, сказала дрожащим голосам:
– Бросил меня одну… Да…
– Дуся, не вечно же ему на этом свете находится, это теперь не поправишь, – промямлила я, сама содрогаясь от бессмыслицы этих слов.
Она кивнула и горько сказала со вздохом:
– Старый он был. Ему по паспотру восемдесят, а по жизни – куда больше. Когда война началась, начальство всё разбежалось кто куда, а кто остался на селе, те все документы посжигали. И в сельсовете все бумаги пожгли в огул.
– Зачем?
– Никто ж не знал, что за порядок дальше будет, когда немец до Волги дойдёт. И он свои документы тогда все пожёг.
– А что, его на войну разве не брали?
– Не брали, хоть и просился. Он болезный был с детства.
– Вот оно что.
– А как немца прогнали, так он новые документы сделал и годов себе порядком поубавил, никто ж не проверял, всё новое начальство было.
– Так он сильно старше тебя?
– Да, разница у нас с ним большая, он уже когда в женихах вокруг меня ходил, я его дядькой почитала.
– А с кем он жил до женитьбы?
– А с родителями. Они будто померли, как война началась. Старые уже стали. Я их плохо знаю, совсем не помню. Лексей меня ни на шаг от себя не отпускал. Ни к нам никто, ни мы ни к кому. Взапертях всю жизнь и просидела.
– А чем они, родители Лёши, занимались до войны?
– Я ведь тоже не местная. Плохо что про людей здешних знаю. Родню его видала только раз, да и то второпях. Лексей молчун, не разговоришь его никак. Мы сюда в самую войну приехали, в эвакуацию, да так и остались. Мама моя сразу после войны и померла. Тогда голод был, многие старики померли. И детей много мёрло. А я за Лексея замуж с охотой вышла – он за отца мне был. Я что? Бедная невеста. Один сундук только с кой-каким скарбом. И на квартире жили. Потом Лексей сам дом к первым родинам построил.
– Ты рассказывала. А его родители всё же кто, хоть что-то о них помнишь?
– Лексей говорил, что отец его вроде конюхом был, а мать по хозяйству работала. Они в село как раз после революции и приехали, откуда-то с Урала.
– С Урала?
– А что?
– Я думала, из Прибалтики откуда-нибудь.
В нём, и, правда, был европейский какой-то шарм. И во всём это видно было – и как он говорил, и как одевался, как ходил…
– А ещё дети у них в семье были?
– Может и были, они, родители его, уже в летах Лексея родили, – сказала она с ударением на «о». Привезли сюда мальчонкой, у него и фотография была – все втроем снялись.
– Жалко Лёшу, – сказала я сочувственно.
– Жалко? – взвилась она, вдруг снова меняя тон. – А меня не жалко? А как меня мучил своей ревностью? Меня тебе не жалко? Со двора не пускал ни на шаг! Как в крепостном праве всю жизнь прожила при нём. Только когда болеть стал, я уже сама в магазин ходила. А то ведь от калитки до речки – вон пять шагов, и годе. Мы же тут, как и ты в своём доме, на хуторе живём. Хорошо это, а?






