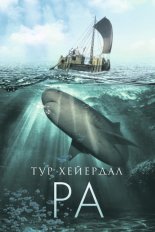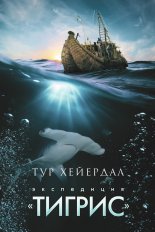Щит и меч Венеры Степнова Ольга
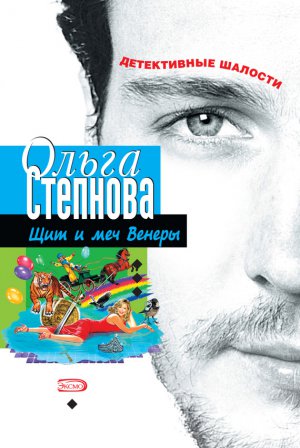
— Басова, — резко оборвал меня шеф. — Я не могу сейчас с тобой разговаривать. За мной… за мной пришли, Ася! Меня собираются арестовать!
— Что?!
— Меня хотят арестовать по подозрению в убийстве этого ряженого, по подозрению в соучастии ограбления банка, и еще черт знает, по каким подозрениям… — Он заговорил быстро-быстро, захлебываясь словами, словно счет шел на секунды и он мог не успеть мне всего сказать. Я все поняла, я не стала сбивать и путать его вопросами, я не стала причитать и рыдать, я стала слушать, слушать и слушать, чтобы правильно все понять, чтобы во всем разобраться и сделать все возможное, чтобы помочь ему.
— Ась, я не могу говорить долго… у меня сейчас обыск, тут на квартире… дело в том, что на моей даче, за городом, нашли… Ася, я не понимаю, я ничего не понимаю! Там во дворе нашли коня, повозку, пустой мешок из-под денег и… и автомат, Ася! Соседи услышали ржание коня, увидели через забор клоунскую повозку, о которой твердят во всех криминальных новостях, и позвонили в милицию! Все… Басова… я погиб… прощай, не поминай лихом…
— Костя! Держись!!! Костя… — крикнула я в трубку, но оттуда уже неслись короткие гудки. — Костя, я тебя… я тебе… — Я даже зареветь не смогла, только смотрела на телефон и слушала отрывистые сигналы, которые словно бы говорили «вот и все, вот и все, вот и все…»
— Аська, ну что там еще?! — ко мне подбежал Нарайян.
Я коротко и почему-то шепотом рассказала ему о своем разговоре с Жулем.
Нара подавился жвачкой, закашлялся, и выдал себе под нос какое-то длинное замысловатое ругательство, из которого следовало, что его спокойной жизни в халявном Инете пришел окончательный и бесповоротный… конец.
«Я люблю Константина Жуля. Я спасу Константина Жуля».
Я повторила эти слова в уме тысячу раз, прежде чем поняла, что должна делать.
Оставив Нарайяна общаться со следователем, который на этот раз приехал по поводу поджога нашего агентства, я пешком пошла к казино «Империал», чтобы забрать свою машину.
Я люблю Константина Жуля. Я спасу Константина Жуля…
Решение того, что я должна сделать, было настолько простым и очевидным, что я удивилась, как оно сразу не пришло мне в голову и почему я должна была пройти долгий путь от банальной истерики до монотонного и тупого повторения в уме «Я люблю Константина Жуля…»
Машина оказалась в полном порядке — бензина полный бак, колеса не спущены, зеркала заднего вида не сбиты с отлаженного положения, и даже шильдики не откручены. Минут пять я просидела в салоне, приводя мысли в порядок и восстанавливая дыхание после быстрой ходьбы.
Я сделаю это. Я припру его к стенке. Он все мне расскажет. Вынужден будет рассказать! В конце концов, он публичная личность и боится скандалов. А уж я-то сумею этот скандал организовать! Того, что я слышала, достаточно, чтобы поднять в прессе бучу, учитывая мой до сих пор звездный статус.
Дворец Спорта встретил меня прохладой кондиционированного воздуха и гулом тренировок, доносившимся из многочисленных залов.
— Здравствуйте, — обратилась я к охраннику, сидевшему в стеклянной будке. — Я с телевидения, программа…
— «Девушки на абордаж!» — радостно выкрикнул охранник. Он подскочил и высунулся из будки почти по пояс. — Кто же не знает вашу программу?! Кто же не знает вас, Ася?! Проходите, пожалуйста, вас проводить?!
— Нет, спасибо. Достаточно будет, если вы подскажете мне, где я смогу найти Сергея Дьяченко.
— А автограф дадите?
— Дам. Где расписаться?
Охранник протянул мне ладонь. Если парень решил, что удивит меня этим, то он очень ошибся. На чем мне только не приходилось раньше расписываться — на пакетах с кефиром, на носовых платках, на мобильниках, авиабилетах, одноразовых стаканчиках, пивных бутылках и даже голых спинках китайских хохлатых собачек. И уж тем более нет таких частей человеческого тела, на которых бы я не оставляла автограф. Для этого у меня в сумке есть специальный маркер, который я по старой привычке всегда таскаю с собой.
— Ух, ты! Похвастаюсь своей девушке, если до вечера не сотрется! — охранник с восхищением посмотрел на свою ладонь.
— Не сотрется, — заверила я его. — Так где мне найти Дьяченко?
— А он сейчас звездит не хуже вашего! — засмеялся охранник. — Тоже автографы раздает налево-направо. С утра к нему с телевидения приезжали, потом глянцевый журнал его на фотосессию пригласил, потом какой-то репортер американский за ним по всему Дворцу гонялся, потом он уехал куда-то, а вот вернулся ли, точно не знаю, потому что он предпочитает через черную дверь во Дворец заходить, чтобы журналисты не знали о его передвижениях. Вы, Ася, идите на второй этаж, там зальчик есть небольшой под номером двести восемь. Щит всегда в нем тренируется. У него там личные вещи находятся, и уголок отдыха есть. Если Дьяченко вернется, то мимо не пройдет. Обязательно его там застанете, если даже и подождете немножко. Идите, зал двести восемь всегда открыт!
— Спасибо!
Я побежала на второй этаж.
— А что, нашлась девушка, которая решила взять Дьяченко на абордаж?! — закричал охранник мне вслед. — Вот это будет шоу так шоу!! «Дом-2» по сравнению с этим сюжетом — гнилая морковка! Ни в коем случае не пропущу!
Уголок отдыха представлял собой отгороженное ширмой пространство возле окна. На этом пространстве помещался столик с электрическим чайником и всеми чайными принадлежностями, велюровое кресло, пугавшее в такую жару своей меховой накидкой, и довольно большой диван с наваленными горой уютными подушечками. На подоконнике, в горшке, рос огромный розовый куст, цветущий множеством красных, махровых розочек. Они благоухали, заполняя пространство ароматом, от которого немного подкруживалась голова. Этот куст поразил меня больше всего. Зачем кикбоксеру розы? Как любит говорить Нара — на фига козе баян, она и так веселая.
В зале никого не было. Я зашла за ширму и решила, что буду сидеть здесь до тех пор, пока не придет Дьяченко. Другого способа поговорить с ним у меня нет. Вещей его я здесь никаких не заметила — только аккуратно сложенное красное полотенце лежит на спинке дивана, да спортивные тапочки стоят возле кресла.
Я люблю Константина Жуля. Я спасу Константина Жуля.
Даже если ради этого мне придется унижаться, умолять, или угрожать.
Я заставлю Щита говорить.
Время шло. В зал никто не входил. Из маленькой лейки, которую обнаружила под столом, я полила розовый куст, а потом опрыскала ее водой из специального распылителя.
Время шло. Мне стало жарко, душно и захотелось пить. Я вскипятила чайник, в котором воды оказалось вполне достаточно. Кружка была только одна — керамическая, большая, с изображением тощего веселого цыпленка и надписью «Я стану орлом!» Ополоснуть кружку было негде, но с виду она показалась мне абсолютно чистой — никаких чайных налетов, и я смело налила в нее заварку из чайничка.
Судя по чистой кружке, порядку на чайном столике, ухоженной розе, тщательно сложенному полотенцу и тапочкам, стоящим строго параллельно между собой и перпендикулярно креслу, этот Дьяченко — зануда и аккуратист.
Чай оказался потрясающе вкусным. Это был даже и не чай вовсе, а заваренные лепестки роз.
В металлической коробке я обнаружила печенье — тоже необычное: маленькие фигурки зверей, покрытые белой глазурью.
Я немного поборолась с собой, но все же съела одного бегемота. Потом жирафа. Затем бабочку, потом змею с единственным хитрым взглядом, потом… Очнулась я, когда в коробке осталась только собачка с обломанной лапой и половина животного, породу которого я определить не смогла. Я даже смутилась немного. Никогда не была обжорой, а уж сладким вообще не злоупотребляла. Но в этом уголке было так уютно, так одуряющее и расслабляющее пахло розами, что я почувствовала умиротворение. Усталость, накопившаяся за эти несколько дней — моральная и физическая, вдруг навалилась свинцовой тяжестью. Я прилегла на диван, подсунув под голову одну из подушек, и приказала себе: «Не спи! Не смей засыпать! Это глупо — придти сюда, чтобы спасать Жуля, а вместо этого полить розу, напиться чаю, съесть все печенье и завалиться спать на чужом диване…»
Мысли плавно перетекли в видение: я и Жуль едем в клоунской повозке и целуемся, целуемся без конца и без остановки, а вместо Корчагина нас тянет Бубон. Тянет тяжело, сгибаясь и надрываясь от врезающейся в плечи упряжи. Бубон кряхтит и постанывает, и звенит колокольчиком, и цокает копытами по асфальту. «Эй! Пошел веселее!» — Жуль отрывается от моих губ, хватает хлыст, чтобы огреть по спине Бубона, но тот вдруг останавливается и оборачивается. Его лицо без грима, без красного носа, и я в ужасе отшатываюсь назад, потому что это лицо… я узнала его…
От невероятного, потрясающего открытия, я проснулась, открыла глаза и тут же поняла, что разбудил меня вовсе не страшный сон, а звуки глухих ударов, раздающиеся из зала. Удары были размеренные и монотонные, как стук огромного маятника.
Оказалось, что я проспала долго, преступно долго: за окном стемнело, а значит, уже был даже не вечер, скорее — ночь. В зале тоже было темно, только вдалеке, в противоположном углу, темноту разряжало слабое освещение. Скорее всего, там был точечный светильник, освещающий лишь небольшое пространство.
С замирающим сердцем я осторожно выглянула из-за ширмы.
В противоположном углу зала, в одних спортивных трусах прыгал человек и ожесточенно колотил боксерскую грушу.
Это был Щит. Я узнала его по смуглой спине, по коротко стриженному затылку, по резким и сильным движениям, по мелькающим в ударах локтям, по мочкам ушей, по капелькам пота на спине… На нем не было боксерских перчаток, — он молотил грушу голыми кулаками, и обуви на нем не было, — он скакал босиком, и почему-то от этой неполной экипировки он напоминал молодое животное, которому некуда деть свою силу и резвость.
«Какая у него задница!» — вдруг восхищенно сболтнула бабуля, смирно молчавшая целый день.
«Тебе не стыдно?! — возмутилась я. — Ты играла Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Вагнера и даже Листа! А говоришь мне про…»
«Не стыдно! Здесь ничего не стыдно, Аська! И так хочется наверстать упущенное!! Я никогда не говорила тебе, что твой дед был ни к черту не годным любовником?!»
«Заткнись! Меня не интересует любовный пыл моего деда, которого я и в глаза-то не видела! Лучше посмотри на физиономию этого кикбоксера, когда я тихонечко подкрадусь и окликну его из темноты…»
«Аська! Там в углу такие, такие маты!! Как ты думаешь, на них удобно…»
«Бабуля, немедленно замолчи! Не узнаю сегодня тебя».
«… я хотела сказать — падать! Падать, когда прыгаешь через козла! Ася, детка, я ведь ни разу в жизни не прыгнула через козла! Ну до чего обидно!»
«Я люблю Константина Жуля! Я спасу Константина Жуля!» — попыталась я заглушить бабкину болтовню.
Она и впрямь замолчала. Обиделась, наверное. Ну и пусть.
Я на цыпочках подкралась к Щиту.
— Здравствуйте, Щит! — с усмешкой сказала я.
Он вздрогнул спиной и замер с занесенной для удара рукой.
— Выспалась? — не оборачиваясь, спросил Дьяченко.
Эффекта внезапности не получилось. Он видел, как я дрыхла на его диване, и наверняка рассматривал меня спящую; наверное, у меня отвисла губа, некрасиво смялась щека, наверное, я бормотала что-то во сне, может быть, морщилась, а может быть, сопела, свистела, или хуже того — пузыри пускала.
От досады и злости я сжала руки в кулаки так, что ногти впились в ладони.
— Я не спала, — сквозь зубы процедила я, чувствуя, что начинаю отчаянно ненавидеть этого Сергея Щита Дьяченко. Он все же провел свой незавершенный удар и снова начал размеренно колотить грушу, словно я не стояла у него за спиной, растерянная и злая.
— Ты не хочешь знать, зачем я пришла?
Он промолчал, только удары стал наносить сильнее и чаще.
Я чувствовала запах его разгоряченного тела — запах пота, дезодоранта и еще чего-то терпкого, чуть с горчинкой, наверное, это был его собственный запах, который не смог перебить ни пот, ни парфюм.
Я обошла грушу с другой стороны, чтобы видеть его лицо. Лицо было хмурым, сосредоточенным и непроницаемым. Наверное, я подошла слишком близко, потому что отскочившая от удара груша сильно шибанула меня по лицу. Я упала, больно ударившись затылком о пол. Дьяченко, одним прыжком очутился возле меня.
— Больно? — он присел рядом на корточки и приподнял ладонями мою голову. — Ты что — дура, лезть под удар?!
Перед глазами плясали разноцветные мушки, в ушах стоял гул, а в голове, удобно лежавшей в руках кикбоксера, не было ни одной умной мысли.
— Нокаут? — зачем-то спросила я.
Он засмеялся. Здорово, белозубо, совсем не по-злодейски расхохотался и начал считать, выбрасывая поочередно пальцы перед моим носом:
— Раз, два, три, четыре, пять…
На счет восемь я села.
— Нокдаун. Это всего лишь нокдаун. Но счет в мою пользу! — сказал Дьяченко и уселся рядом со мной. Мы сидели на пяточке света, друг против друга, смотрели друг другу в глаза, а над нами тряслась и вибрировала боксерская груша, настойчиво требуя другого удара.
Я собралась с духом.
— Сергей, я слышала, что ты вчера говорил на кладбище своему отцу. Я знаю, что ты замешан в какую-то темную историю. У меня есть все основания полагать, что эта история напрямую касается ограбления банка. Я нашла на заднем дворе Дворца Спорта, в мусорном баке, клоунский нос, а в доме Бубона обнаружила свидетельство о смерти твоего отца. Бубона убили! Его тело с обезображенным лицом нашли на берегу реки Радунки. Ты должен все рассказать, потому что сегодня утром по подозрению в соучастии в этих преступлениях, арестовали невиновного человека, Константина Жуля. Певица Милда Якушева — кем она приходится твоему отцу? Почему у тебя другая фамилия? Кто такая Катя Самойленко?! Куда пропал Лавочкин, почему он не был на бое, и откуда у него появились такие большие деньги?! Ты должен мне рассказать все, что знаешь. Я никому… Тот человек, которого сегодня арестовали… я его очень люблю. У него на даче нашли Корчагина, повозку, пустой мешок из-под денег и автомат. Ты обязан все рассказать! — Я говорила быстро, бессвязно, боясь, что он оборвет меня, встанет и уйдет, или убежит, как вчера на кладбище, и я ничего не смогу сделать — ни выбить из него признание, ни остановить его. — Жуля арестовали! — заорала я и хотела разрыдаться, чтобы надавить на жалость или на совесть, если она у него есть, но у меня не получилось. В ушах гудело, в глазах по-прежнему мелькали мушки, а слезы не желали литься из глаз.
— Арестовали, — эхом повторил за мной Щит.
— Бубона убили! — напомнила я. — Ведь раз свидетельство о смерти твоего отца хранилось в доме у клоуна, ты должен был знать Бубона!
Дьяченко посмотрел мне прямо в глаза и вдруг отчетливо произнес:
— Его не убили.
— Что?!
— Сейчас. — Он вдруг встал и направился к какой-то двери, которую я раньше не видела.
— Стой! — Я догнала его и схватила за руку. — Ты опять хочешь удрать?! Трус! Только и думаешь о своей чемпионской карьере! Тебе плевать на людей! Ты…
Он вдруг схватил меня за руку, подвел к двери, открыл ее, завел в просторное помещение и горячо, быстро сказал:
— Тут душ! Смотри, это комната для переодевания, в которой находится душевая кабина! Отсюда нет другого выхода, только в зал! Я никуда не сбегу! Стой и жди меня там, я сейчас. — Щит вытолкал меня из душевой и закрыл перед носом дверь.
Я отошла в глубину зала. Ладно, пусть моется, если ему это необходимо для того, чтобы сказать мне правду. Подойдя к груше, я пару раз ударила по ней, но она никак не отреагировала на мои удары, даже не дернулась.
«Его не убили», — сказал мне Дьяченко.
Что за бред он несет?!
Я подошла к душевой и прислушалась. Из-за двери не доносилось ни звука. Во всяком случае, шума льющейся воды точно не было слышно. Может, он все-таки обманул меня и там есть запасной выход? Я подергала дверь, но она оказалась заперта изнутри. Ничего не поделаешь, нужно ждать. Не бегать же по бескрайним просторам Дворца Спорта, пытаясь отыскать, куда мог подеваться Сергей Дьяченко из душа.
Прошло минут двадцать, не меньше. Я пыталась поболтать с бабкой, но она упорно молчала. Я уже было решила, что сделала огромную глупость, попытавшись обратиться к совести Дьяченко, как дверь вдруг открылась и на границе света и темноты…
Я обеими руками зажала свой рот, чтобы не заорать, но все равно позорно, малодушно и сдавленно закричала, потому что…
Потому что на пороге душевой комнаты стоял клоун Бубон.
На нем были розовые шаровары, зеленая рубашка, манишка в горошек, берет с помпоном и смешные фиолетовые туфли с загнутыми вверх носками. Это был Бубон! В рыжем смешном парике, с нарисованной до ушей улыбкой, с пурпурным румянцем и грустными, обведенными черным глазами. Только вот носа у него не было. Вернее был, но не накладной — круглый и красный, а обычный, человеческий, с небольшой горбинкой…
— Бубон, — прошептала я. — Буб! Откуда ты? Как… почему…
— Бубона не убили, — голосом Дьяченко сказал клоун. — Буб — это я. Во всяком случае, последние полтора года. До этого Бубоном был мой отец — Якушев Григорий Акимович.
— Ты… врешь. У моего клоуна другой голос!
— Такой? — слегка изменив интонацию и на полтона выше, спросил Дьяченко.
— Да… Но я не верю.
— А так? — Щит вдруг сделал сальто, потом другое, остановился в глубине темного зала и запел песню, под которую я засыпала и просыпалась долгие годы:
— Путешествует по миру
Одинокий пилигрим,
И, терзая мандолину,
Напевает себе гимн:
«Миромирроу, миромирроу,
Я для всех неуловим…
— Миромирроу, миромирроу, я счастливый пилигрим, — допела я за него и заревела. И вспомнила сон, который приснился мне на диване за ширмой: Бубон оборачивается, он без грима, без красного носа, и у него молодое, загорелое лицо Дьяченко.
Я ревела и медленно осознавала весь ужас происходящего. Значит, последние полтора года я разговаривала не с Бубоном, а с… этим тупым кикбоксером?.. Это ему я исповедовалась той ночью под дождем, ему призналась в своей любви к Жулю?! Это ОН не бросился меня утешать, а произнес пространный и дурацкий монолог о счастье?!! Это ОН звал меня пить кофе и называл Мисс Вселенная!!
— Ты… гад, — прошептала я. — Ты предал меня, мое детство, мою мечту, мою улицу и моего… клоуна!! Я выворачивала душу перед Бубоном, а не перед тобой! А ты слушал, слушал, слушал, и не остановил меня! Сволочь! Сволочь!! — Я бросилась на него и, размахивая кулаками, стала бить размалеванное лицо. Он не пытался прикрыться, стоял и смотрел на меня нарисованными глазами, с улыбкой, которая издевательски краснела от уха до уха.
Я стала молотить его по плечам, по груди, хотела лягнуть в пах, но он неожиданно перехватил мою ногу и сказал:
— Хватит. Мне твои удары, как слону дробина. Наверное, пришло время сказать, что я очень давно и очень сильно люблю тебя.
— Что?! — Я выдернула у него из рук свою ногу и чуть не упала, потеряв равновесие, но Щит подхватил меня и прижал к себе так, что сопротивляться не было смысла.
— Я те-бя, дав-но и безнадежно люб-лю, — тихо, по слогам произнес он. — Я тебя люблю, и это была основная причина, по которой после смерти отца я стал Бубоном. Другого способа часто видеть тебя и разговаривать с тобой я не придумал. Кто была ты, и кто — я? Ты и не посмотрела бы в мою сторону, не стань я Бубоном.
Наверное, со мной приключилось временное помешательство. Я захохотала.
— Любит он меня! Лю-бит! И поэтому стал Бубоном!! Ха-ха, видели этого идиота?! Ты врал мне! Каждый день врал! О какой такой любви ты говоришь? Ты, тупой кикбоксер, у которого вместо мозгов мышцы! — Я сорвала с него парик и манишку. Потом одним рывком разорвала рубашку. Потом спустила с него розовые штаны. Одним словом, раздела. Он совсем не сопротивлялся. Этот идиот под своим костюмом оказался абсолютно голым, но это меня не смутило. Можно сказать, что я этого не заметила. Я колотила его, и плевать мне было, что мои удары для него ничего не значат. Зато для меня они много значили. Похоже, он понимал это, потому что дал мне себя избить. Остановилась я только тогда, когда совсем не осталось сил. Даже на маленький, слабый ударчик, даже на щипок, тычок, укус или вялую пощечину.
— Ну все. — Он меня сгреб в охапку, на этот раз очень надежно и крепко, уткнулся в затылок и сказал, обжигая дыханием: — Никто в жизни меня так не бил.
Только тут я поняла, что он стоит рядом со мной совершенно раздетый, что клочья, в которые я превратила его костюм, лежат у меня под ногами, что нет никаких сил сопротивляться его близости, его горькому запаху, его жару и его железной мускулатуре.
— Все, — прошептала я и не подумала отшатнуться, когда он закрыл мои губы своими и начал жадно изучать меня руками, губами, каждой клеткой своего существа.
«Нет, ну какое тело! — не к месту ожил голос бабули. — Какое отличное, сильное, красивое тело!»
«Бабуль, ты всегда учила меня, что главное в человеке — душа!», — простонала я.
«Конечно, душа! Но какое у него тело! Потрогай плечи, спину и ниже…»
«Он спортсмен! И возможно — преступник!!»
«Ой, это так заводит!»
«Бабка, я тебя не прощу…, никогда не прощу, я уже трогаю… его плечи, и спину, и ниже…»
«Маты, маты, там в углу были такие удобные маты!»
«Кажется, назад пути нет! И виновата в этом ты, гениальная исполнительница русской классики…»
«Я имела в виду, если прыгать через козла, детка!»
Бабка отключилась и на связь больше не выходила. Мы с Щитом боролись, кружились в бессвязном, сумбурном танце, пока действительно не оказались у матов, а дальше все было просто и естественно до безобразия, и старо как мир, и прекрасно, и так возвышенно, что вся низменность происходящего больше не лезла мне ни в сердце, ни в голову. У него прекрасное тело, а с душой мы разберемся потом, ведь сначала хочется слопать аппетитный кусок, а будет ли от него несварение, узнаю чуть позже…
Мы лежали на спине, держались за руки и пялились в потолок.
— Я люблю Константина Жуля. Я спасу… — В горле пересохло, и я больше не смогла говорить.
— Нокаут, — хриплым голосом отозвался Щит.
Мы еще полежали немного, слушая, как рикошетят от матов наши сердца.
— Слушай, Ася, я сейчас тебе все расскажу. Пока я еще не до конца осознал, что между нами произошло, я все тебе расскажу!
Пожалуй, я шлюха, решила я.
Мне удалось завоевать титул Мисс, ни разу не пустив в ход такой пошлый прием, как доступ нужных людей к своему телу, а тут… чтобы добиться правды от этого спортсмена…
Или совсем не ради того?
От ужаса я зажмурилась. Как ни крути, а получалось, что я отдалась первому встречному в большом, гулком зале, на не очень чистых и пыльных матах, хранивших следы чужих потных тел. Да, я стопроцентная шлюха, и нет прощенья бабуле, которая в сложный момент моей жизни вместо того, чтобы образумить меня, несла полную околесицу.
— Понимаешь, Ася, — продолжил Дьяченко, — Григорий Акимович мне не родной отец. Мои родители погибли, когда мне только-только исполнилось шесть лет. Меня хотели определить в детдом, но Якушев забрал меня к себе. Усыновить он меня не мог, так как жил абсолютно один, да и возраст его, кажется, не совсем подходил для этого. Он оформил опекунство, где-то с кем-то как-то договорился, и я переехал жить к нему, в его маленький, неказистый домик в частном секторе. Квартиру моих родителей он закрыл и сказал, что я поселюсь там сразу, как только вырасту и решу жить отдельно. За все годы батя ни разу не пустил туда квартирантов, хотя у нас всегда было негусто с деньгами.
Якушев был мне никто, даже не родственник. Просто дядька, наряженный клоуном, который за десять рублей катал меня на своей скрипучей повозке, разукрашенной воздушными шариками. Я даже в пять лет понимал, что клоуны, это обычные люди, которые рядятся в смешные костюмы и веселят людей, чтобы зарабатывать деньги. Я знал, что клоуны просто делают свою работу, как кондукторы в трамваях, или продавцы в магазинах.
Я был одним из тех пацанов, которые по десять раз на дню залезали в повозку и катались по маршруту Патриотическая — Театральная. Я не знаю, как Якушев узнал, о том, что погибли мои родители, и что никаких родственников на всем белом свете у меня не осталось. Он просто пришел и забрал меня жить к себе. Сначала я звал его дядей Гришей. Но не прошло и полгода, как слово «папа» вырвалось само собой.
Он не заигрывал со мной, не пытался понравиться, он просто жил, привлекая меня ко всем своим взрослым делам и проблемам, а сам искренне интересовался моими детскими радостями и горестями.
Он научил меня простым и нужным вещам: быстро чистить картошку, жарить яичницу, заваривать чай, орудовать молотком и плоскогубцами, ухаживать за цветами, он… научил меня жить просто и радоваться самым обычным вещам. Он одевал меня с рынка, а прокорм нам почти полностью обеспечивал маленький огородик у дома. У нас был скупой, мужской быт с простой едой, недорогой одеждой и нехитрыми развлечениями. Но я никогда не чувствовал себя бедным! Буб внушил мне, что самая большая ошибка людей — мерить все материальными ценностями. Он говорил, что самое главное все равно не купишь — красоту, любовь, здоровье, доверие, преданность, уважение. Я ему верил, Аська, безоговорочно верил. Мне казалось, что только так и нужно жить — просто и весело. Я очень гордился, что мой батя — клоун, который зарабатывает на жизнь тем, что дарит людям хорошее настроение. Кстати, мы жили с ним не только на то, что он зарабатывал с Корчагиным на повозке. Батя получал еще пенсию, но никогда не рассказывал мне о своей прошлой жизни, о том, где он работал, и я почему-то свято уверовал, что он всю жизнь был клоуном.
В семь лет он отвел меня в первый класс. Ася, мы одиннадцать лет проучились с тобой в одной школе, в параллельных классах — я в «Г», а ты в «Б»! Неужели ты не помнишь меня?!
— Нет.
Может, переспать с одноклассником не так безнравственно, как с малознакомым спортсменом?! Может, стоит сказать, что я отлично помню его?
— Нет, — повторила я.
— Ну еще бы! Ты с первого класса была красавицей. Высокая, с длинными, очень светлыми волосами, огромными голубыми глазами и гордой осанкой. Ты была благородной, возвышенной, да к тому же еще и отличницей! А я… я маленький заморыш, ниже всех в классе, щуплый, чернявый, со спутанными кудрями, которые не брала ни одна расческа. У меня были сплошные тройки в первом классе, и двойка по чистописанию. Еще бы ты меня помнила!
— Нет, подожди, — я чуть-чуть сжала его руку, — подожди, кажется, вспомнила! Это ты писал мне смешные записки и передавал через толстую Светку? «Твои глаза прекрасней всех на свете, люблю тебя, как никого на свете?!»
— Я. — Щит засмеялся. — Это я передавал через толстую Светку идиотские записки. За это я отдавал ей булочку, купленную в буфете. Но класса с четвертого я перестал писать всякую ерунду. Я понял, что это мой крест — любить тебя и не ждать ответа. Я рассказал о своей любви Бубону. Он не стал убеждать меня, что мое чувство к тебе — ерунда и что оно скоро пройдет. Батя сказал, что это здорово, так любить девочку, но нужно не просто слепо любить, а самому становиться сильным и интересным человеком, достойным любви. В школе меня лупили все, кому не лень. Потому что я был хилый, мелкий и плохо одетый. Зимой и летом я ходил в одном и том же синем костюме и в красных ботинках. Нам с батей казалось, что это очень красиво — красные ботинки! Но в классе надо мной все смеялись. Когда я вырастал из одного костюма, мы с батей ехали на рынок и покупали другой, точно такой же. С блестящими металлическими пуговицами и длиннющими рукавами, чтобы подольше хватило. С ботинками была такая же ерунда. На рынке работала одна тетка, которая каждый год снабжала нас красной обувью любого размера. В общем, когда я признался бате в своей любви к самой красивой девочке в школе, он взял меня за руку и отвел в секцию бокса. Прямо так и отвел, в синем костюме с блестящими пуговицами, в красных ботинках и со свежим фингалом, оставшимся после школьных разборок.
Он сказал тренеру:
— Вот вам заморыш. Сделайте из него человека.
Тренер осмотрел меня с головы до ног, ухмыльнулся, пощупал мои тощенькие ручонки и сказал:
— Будет трудно, но я попробую. Иногда из таких дохликов получаются неплохие бойцы.
— Я тебя вспомнила! — От нахлынувших воспоминаний, я выдернула у него свою руку и села. — Точно вспомнила! В старших классах ты стал довольно высоким. У тебя была черная шевелюра и о твоих боксерских победах в областных и районных соревнованиях писали не только в школьной, но и во всех городских газетах. Но мне это было неинтересно. Слушай, а куда делась твоя дурацкая шевелюра?
— Я давно стригусь очень коротко. С тех пор, как ушел из бокса в кикбоксинг и решил стать профессиональным спортсменом. Это был трудный путь, мне неохота о нем вспоминать. Пришлось пройти даже через бои в закрытых клубах, где на меня ставили деньги, через травмы, обман и другую гадость, но меня вовремя образумил мой тренер и вернул в профессиональный спорт.
— Кажется, на выпускном вечере тебе вручили золотую медаль!
Он засмеялся и потянул меня за руку, чтобы я снова легла рядом с ним.
— А ты до золота не дотянула!
— Схлопотала четверку по химии.
— Я хотел пригласить тебя на выпускном на вальс, но возле тебя все время крутился этот длинный, из одиннадцатого «А»…
— Логвиненко Сашка!
— По-моему, он потом стал бандитом.
— Он и тогда уже был им.
— Но ты ему не отказывала. Протанцевала с ним весь выпускной.
— Он был самый красивый парень в школе, и в него были влюблены все девчонки из нашего класса.
— Да, наверное. Но я тогда уже решил для себя, что красота для мужика не главное.
— Расскажи, отчего умер Бубон.
Щит отпустил мою руку, сел и обхватил руками голову.
— Полтора года назад батю убили какие-то подонки. Остановили повозку, попросили довезти до ресторана на Театральной, по дороге огрели Буба чем-то по голове, выкинули его из повозки, а сами уехали.
— Я помню эту историю. С тех пор Бубон стал возить под сиденьем дубинку.
— Дубину возил уже я. Потому что будь ты хоть трижды кикбоксером, против удара стальным прутом приемов нет.
Батю тогда нашел случайный прохожий, он и вызвал «Скорую». Мне о беде сообщили под утро. Я держал его за руку, когда он лежал в реанимации под аппаратами. Он на минуту пришел в сознание, отнял у меня руку и стал бормотать: «Рука, рука!» Я удивился, потому что руки у него были абсолютно целые, только голова пробита. Я взял его снова за руку, но он опять вырвал, стал шевелить пальцами и говорить: «Рука!.. В ней очень большие деньги…» Я понял, что он бредит, вызвал врача, ему сделали укол, и он вроде заснул. Но минут через пятнадцать открыл глаза, посмотрел на меня и вдруг отчетливо произнес: «Бубон на должен умереть. Это богатство…» Он умер, не договорив. Я понял эти слова, как наказ. Я решил, что люди не должны заметить смерти любимого клоуна, что улица без Бубона осиротеет, потеряет свое лицо, а еще я понял, что смогу теперь общаться с тобой так же легко и непринужденно, как общался мой батя, когда ты садилась к нему в повозку. Я похоронил отца и целую неделю мастерил из подручных средств новую повозку. К тому времени я жил уже в родительской квартире, но дом Бубона по-прежнему был для меня родным домом. Повозку я сделал, а Корчагин приплелся через неделю сам — ободранный и голодный. Подонков, которые убили отца, так и не нашли.
Для меня началась новая жизнь. В то немногое свободное время, которое я выкраивал между тренировками и боями, я проводил, выполняя работу отца. По-моему, из меня получился неплохой клоун, веселый, добрый и щедрый. К тому же, я мог часто видеть тебя, разговаривать с тобой, наслаждаться тобой и при этом не выглядеть страдающим идиотом. Я приучил себя к мысли, что ты — недоступная, нежная, зыбкая, прекрасная мечта.
— Мне казалось, что Бубон ездил круглые сутки! Я даже не понимала, когда он спит! Я просыпалась и засыпала под его песню, под цокот копыт Корчагина, под звон его колокольчика!
— Настоящий Буб — да, он колесил по улице с утра до вечера, с вечера до утра. Ему всегда хватало трех часов сна, а иногда он дремал прямо в повозке. Ася, ты просто с детства привыкла, что по улице постоянно курсирует повозка. Поэтому, когда стал ездить я — не так часто, но ездить, — ты просто не заметила измененного графика.
Я задумалась. Пожалуй, Дьяченко был прав. Я только по старой памяти считала, что Бубон курсирует по улице круглосуточно. На самом деле, в последнее время, Корчагин таскал повозку только ранним утром и поздним вечером. Днем он появлялся редко, и в основном, в выходные дни.
— А я ездил и мечтал, что когда-нибудь смогу открыться тебе. Нужно только еще немножечко подождать, немножечко поднапрячься. Я решил, что смогу рассказать тебе все только тогда, когда стану чемпионом мира. Ведь с чемпионом мира ты стала бы разговаривать?!
— Пожалуй, да, — согласилась я. — С чемпионом бы стала. Но…
Он склонился надо мной и заглянул мне в глаза.
— Я знаю. Ты любишь Константина Жуля. Потому что он — Трубадур, а ты — Трубадурочка. — Щит усмехнулся, но тут же спохватился: — Прости. Я не должен злоупотреблять тайной исповеди. Слушай, мне еще долго рассказывать, может, пойдем на улицу? Тут душно, темно, неуютно и такое противное эхо!
Я встала и начала собирать разбросанные вокруг матов вещи.
— Пойдем, — согласилась я. — Как-то странно изливать душу в спортивном зале.
Щит тоже поднялся и, не стесняясь своей наготы, пошел в душевую одеваться и смывать клоунский грим.
Мы шли по аллее, освещенной тусклыми фонарями. В руках я несла охапку цветов, которые Дьяченко нарвал на центральной клумбе центральной площади, рискуя быть схваченным милицейским патрулем. Цветы неблагородно пахли мокрой травой и клопами, но я все равно несла их, прижимая к груди, потому что это был самый экстремальный букет в моей жизни, и мне не хотелось осчастливить им какую-нибудь урну. Цветов было так много, что они то и дело падали из моих рук и компании подростков, встречавшиеся нам по пути, с хохотом их поднимали.
— Я съела все твое печенье, — зачем-то призналась я Щиту.
— Знаю! — Он засмеялся. — А еще ты выпила литра два розового чая и внеурочно полила розовый куст на подоконнике. Он этого не любит.
— Зачем тебе роза в спортзале?
— Не знаю. Она стояла в коридоре, сохла и умирала. Пришлось ее взять к себе и долго уговаривать не загибаться. Она послушалась и даже начала буйно цвести.
— Странно.
— Что?
— Странно, что ты такой… клоун-кикбоксер, уговаривающий розу не загибаться и ворующий цветы на центральной площади. Скажи, тогда на могиле Бубона, когда ты говорил: «Я боюсь ее потерять», ты говорил обо мне?
— А о ком же еще?! Я, конечно, не буду врать, что совсем не встречался с девушками, но…
— Мог бы и не говорить этого. Глядишь, я поверила бы в чистую платоническую любовь.
— Так и есть. В смысле, было… То есть…
— Ладно, не путайся в оправданиях! Я вот честно скажу, что сваляла дурака, там, на матах.
— И я свалял. Нельзя было торопиться.
— Давай оба раскаемся и забудем об этом.
— Нет. Я не забуду. И не раскаюсь!
— Как хочешь! Напоминаю, ты должен мне еще многое рассказать. Почему ты на кладбище говорил, что влип в какую-то темную историю? Почему по-хорошему, тебе нужно было бежать в милицию, но ты побоялся за свою репутацию?!
— В тот день, пятнадцатого июня, в семнадцать часов дня у меня был показательный бой с чемпионом мира Джерри Зверем Канниганом.
— Помню. Ночью я изливала перед тобой душу в повозке, потом полдня отсыпалась, а в результате перепутала гостиницы, за что теперь и расплачиваюсь. — Я заткнулась, поняв, что сболтнула лишнее. Но Щит ничего не заметил.
— Я утром тоже встал с тяжелой головой. Можешь не верить, но меня мучили угрызения совести. Ведь ты рассказала мне то, что должен был слышать не я, а мой батя. Эх, зря ты тогда не согласилась поехать со мной выпить кофе! Возможно, все сложилось бы по-другому.
— Почему?