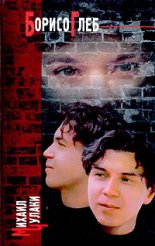Неон, она и не он Солин Александр

– Я сейчас далеко и не одна, – ступила она на самый край, с замиранием чувствуя, как от ее темных, словно воды Чусовой намеков вибрирует натянутый эфир.
– Что значит – не одна? – замерев на пару секунд, спросил он хриплым голосом. – У тебя что… кто-то есть?
– Да, есть, – натягивая леску до периферийной крайности, сказала она. Ощущая жаркий, мстительный восторг, наслаждаясь предсмертным воплем телепортированной тишины, она не без сожаления призналась: – Отец и мать. Я в Первоуральске…
– Наташа, – помолчав, прохрипел он, – разве можно так шутить…
– Я не шучу, это ты у нас шутишь…
– Ты когда обратно? – успокаиваясь, спросил он.
– Пока точно не знаю.
– Ты мне разрешишь тебя встретить?
– Разрешу.
– Я могу тебе звонить?
– Можешь. Только не так поздно. У нас здесь почти час ночи.
– Извини, пожалуйста, извини! Ты на меня очень сердишься?
– Да, сержусь.
– Прости меня, а? Прости, пожалуйста, дурака! Ты даже не представляешь, как я тебя люблю! Наташенька, ну, скажи, что не сердишься, ну, скажи! Ну, пожалуйста!! – рвалось из трубки его страдание.
– Хорошо, хорошо, успокойся, не сержусь! – испугалась она истерических ноток в его голосе. Не хватало еще, чтобы он расплакался!
– Хочешь, я к тебе приеду? – воскликнул он.
– Нет! – решительно отказала она. – Я скоро сама приеду.
– Я ужасно люблю тебя и целую! – заключил он.
– Хорошо, хорошо, звони, не пропадай! – заключила она.
На этом исторический с точки зрения их истории разговор завершился.
10
Такова хронология и основные события их первой войны, развязанной ими без особой нужды и завершившейся, как и следовало ожидать, его капитуляцией.
Разумеется, не обошлось без нюансов. Их мерцающие вкрапления в мрачную картину ссоры, их клейкое значение для образования на ее поверхности нелепого, несуразного, противоестественного узора были весьма ощутимыми, будь то разорванный на тоскливые куски сон с безрадостными пробуждениями или сосредоточенное курение на виду сиятельного месяца, алмазной кромкой царапающего темное стекло ночного неба. Тут и сердитый керосиновый гул самолетов, недовольных непоседливостью граждан, и отвергнутая, лишенная внимания природа, и назойливая навязчивость чужой радости. А также прочие тонкости настроения, в мелкой совокупности своей составляющие скелет их ссоры, включая поникший копчик его собачьей преданности.
Сразу после разговора он выбежал во двор и пошел ходить по дорожкам, глубоко затягиваясь и дымным головокружением приветствуя наступившее облегчение. Он перебирал остывающие подробности разговора, возвращаясь к волнению первых слов, когда он вдруг почувствовал, насколько своевременным оказался его звонок и как близки были их отношения к летальному исходу. Вспомнил, как неожиданно легко она приняла его объяснения и как он воспрянул и тут же обмер, услыхав, что она сейчас далеко и не одна. Какой ужас ощутил и как впервые узнал, каким непослушным может быть сердце. Как в порыве раскаяния вымаливал прощение, находясь в одном шаге от слез.
Теперь, когда душа его после вывиха встала на место, когда боль утихла, но фантомы вывихнутого самочувствия еще остались, он ощутил вместо радости стыд за то чрезмерное и унизительное усердие, с каким искал ее расположения. Нет, не так следует вести себя с ней, если он не хочет превратиться в игрушку ее настроения, говорил он себе. Нужно возвысить свой покладистый голос, унять излишнюю искренность, расправить крылья иронии и резко понизить градус обожания. За эти дни он убедил себя, что его поцелуй с Юлькой – не более чем неловкий вызов невниманию невесты.
Сейчас, когда он убедил в этом и невесту, он мог, наконец, признаться себе, что грешная Юлька, сама того не ведая, приникла губами к серебряной трубе, которая последние двадцать лет исправно будила его часового. Услышав ее повелительный призыв, он безусловным образом подчинился, а когда спохватился, поцелуемер уже зашкаливал. Такова неудобная правда, и о ней будет знать только он один. Что ж, дождемся завтра. На то и дано нам завтра, чтобы исправить то, что сделано сегодня. Завтра он вернется домой, чтобы быть ближе к ней на шестьдесят километров, и будет ждать там ее возвращения. Да, и не забыть бросить с утра курить!
…Долгожданный звонок произвел на нее неожиданное действие: вместо того, чтобы смягчить, лишь усилил досаду. А все потому что ложь горьким запахом миндаля витала в его объяснении. Он, видите ли, решил ее позлить! Какая неловкая уловка, какая нехитрая хитрость! Так она ему и поверила! Пусть он рассказывает эти сказки другим! Да, верно, оргазм ей в новинку, но в поцелуях она, слава богу, разбирается, и потому по-прежнему считает, что он виноват. И если она не находит себе места, если злится, если готова разорвать его на части, то только потому, исключительно потому… потому… потому что, черт возьми, как ни стыдно это признать, как ни удивительно это обнаружить, как ни трудно это допустить, как ни странно это слышать, как ни глупо это звучит – потому, черт его побери, чтобы он провалился, чтобы он был здоров, чтобы он думал о ней день и ночь – потому что… он ей небезразличен, вот что!! Он – этот страшный человек, это бесчувственное чудовище, этот неисправимый кобель – он… он… он, который ни чуточки ее не любит!!
Она привычно повалилась на подушку и заплакала, но через минуту рывком повернулась на спину, детским жестом ладоней вытерла слезы, облегченно улыбнулась и, протянув руку, погасила светильник. За ночь она возродилась и утром предстала перед родителями веселой, любящей и внимательной. Она вернется через три дня – этого времени вполне достаточно, чтобы он подольше помучился.
…Под ироничными взглядами матери он протянул еще три дня, пока нерадивое время делало вид, что работает на него. Он звонил ей по три раза на дню, предаваясь иллюзии примирения и приписывая ее голосу стабильные признаки потепления.
– Чем ты сейчас занимаешься? – спрашивал он, жадно прицениваясь к тому, насколько охотно и подробно она отвечает. Она отвечала осторожно, без лишнего чувства, не вдаваясь в подробности, словом, прохладно, что было очевидно бы каждому, кроме него. К концу седьмого дня она, наконец, объявила, что прилетает на следующий день вечером и сообщила номер рейса.
Он приехал в аэропорт за час до прибытия и слонялся на втором этаже с букетом роз, рассматривая пассажиров из очереди на отправление. Приметные персонажи провинциальной России, упрощенным стилем своим, как фальшивым звуком выбивающиеся из сыгранного оркестра мегамоды, попадались ему на глаза.
«В столице можно встретить хорошо одетых людей, в провинции попадаются люди с характером» – вспомнил он Стендаля, вглядываясь в пергамент лиц с чертами твердого, крупного тиснения. Ни одна девица из тех, что здесь присутствовали, с НЕЙ и близко не могла сравниться.
Объявили ее самолет, и он заторопился вниз. В зале прибытия он расположился на изрядном расстоянии от того мраморного окошка, из которого ему, как из пункта потерянных вещей, должны были ее вернуть. Энергичный сердечный монолог пробился к нему из груди. Он нервно расхаживал за чужими спинами, заглядывая в облицованную нетерпением пещеру, откуда она должна была возникнуть. Встречающие потянулись к телефонам. Он тоже захотел, было, позвонить и сказать, что он здесь, но передумал.
Минут через двадцать из проема в стене суетливо выступили первые пассажиры из породы тех, что всегда спешат. Встречающие качнулись в их сторону. Он, волнуясь и вытягивая шею, стал пробираться вперед. Прибывших быстро разобрали, и образовалась пауза. Теперь он находился рядом с выходом и мог заметить ее появление издалека. Прошло еще несколько томительных минут, появилась новая партия, и он, наконец, увидел ее.
Она шла навстречу его судьбе, как по подиуму – укладывая в ниточку следы, прижимая локоток одной руки к перекинутой через плечо сумочке и без особого напряжения удерживая в другой руке большую сумку. Расстегнутое темно-синее пальто ее открывало плавную работу обтянутых джинсами стройных длинных ног и позволяло видеть ее любимый серый свитер с шалевым воротником. На голове маленькая вязаная шапочка, волосы рассыпаны по плечам. Она заметила его, улыбнулась и отвела глаза. Когда они сошлись, он тут же отнял у нее сумку, неловко вручил цветы и потянулся к ней губами. Она подставила щеку. Оказалось, что кроме сумки другого багажа у нее нет, и они налегке направились на выход. До самой машины они молчали. Когда поехали, он разговорился. Она сдержанно отвечала. Казалось, они заново знакомились. Он между прочим сообщил, что провел пять дней за городом и в одиночку выпил три литра виски.
– Зачем? – равнодушно спросила она.
– Скучал… – небрежно ответил он.
– Странный способ скучать, – покосилась она на него.
Он замолчал и прибавил звук приемника – там страдал Элтон Джон, не зная, как попросить у нее прощения. Сам он знал, но для этого ему надо было смотреть ей в глаза. Когда приехали, он достал из багажника сумку и большой пакет.
– Что это? – спросила она в лифте, указав на пакет.
– Продукты тебе на первое время…
Вошли в прихожую. Он поставил сумку и пакет и помог ей снять пальто. Из гостиной прибежала заспанная кошка. Наташа присела и потянулась, чтобы ее погладить.
– Катюша, милая, как ты тут без меня? – сердечным, заботливым тоном, которого ему так не хватало, обратилась она к ней. Затем встала и направилась в ванную. Он, переминаясь, остался стоять в прихожей. Она появилась, с удивлением на него взглянула и спросила:
– Ты что, куда-то спешишь?
– Нет…
– Тогда почему не раздеваешься?
– А что, можно? – спросил он.
– Ну, Дима! – взглянула она на него, как на безнадежно больного. – Иди мой руки и садись пить чай! Может, ты хочешь поесть?
– Нет, спасибо, а если ты хочешь – я что-нибудь приготовлю! – оживился он.
– Кстати, я купил твои любимые пирожные!
– Тогда будем пить чай.
Когда уселись, он положил руки на стол и, умоляюще глядя на нее, попросил:
– Наташенька, прости меня, ради бога! Я даже оправдываться не хочу. Скажу только, что мне без тебя…
Он замолк, подыскивая слова повесомее. Она молча ждала.
– …В общем, без тебя мне не жить! – закончил он, улыбаясь мучительно и растерянно. Она пронзительно взглянула ему в глаза, а затем скользнула по столу руками навстречу его рукам, и они встретились посередине, как раз возле блюда с запеченными в лунный свет миндальными пирожными.
– Противный мальчишка! – сказала она, сдерживая чувства и наблюдая, как неоновая влага застилает его глаза.
– Я люблю тебя, Наташенька! – торопливо пробормотал он. Затем вдруг отпустил ее руки и вскочил, словно вспомнив о чем-то: – Подожди!
Сбегав в прихожую, он вернулся, сел на место и положил на середину стола кольцо. Она рассмеялась, помедлила и королевским жестом протянула ему руку. Он привстал, поцеловал ее гордый пальчик, надел на него кольцо, и прижался к нему щекой. Затем вскочил, обошел стол и склонился над ней. Она подставила губы, и они нежной печатью скрепили реставрацию отношений.
11
Отправив его в ванную, она прошла в спальную, и пока он отсутствовал, приоткрыла окно, разбавила морозным воздухом густой синтетический дух недельной выдержки и замела следы поспешного отъезда. Разобрала постель, приготовила полотенца и, приложив холодные ладони к щекам, еще раз посмотрела на кровать, чувствуя, как родившийся в паху жар растекается по телу и туманит голову.
– Ложись, я сейчас, – встретила она его на полпути к ванной, коснувшись на ходу рукой.
Страдая от тугой дрожи, он прошел в спальную, разделся и лег, ежась на остывшем ложе и пытаясь согреть холодные пальцы, подсунув их под голые ягодицы. Внутри него протяжно и беспорядочно настраивался оркестр, и его изнывающей на пульте живота дирижерской палочке не терпелось приступить к исполнению патетической симфонии в обновленной редакции. Он смотрел, как прекрасная муза закрывает окно, задергивает штору, сбрасывает халат, откидывает одеяло, и чувствовал, как от творческого восторга темнеет в глазах. Она скользнула к нему и прильнула влажным бугорком.
– Бр-р! Холодно как! – подрагивая, пожаловалась она.
Страшась, что неистовый ураган вот-вот вырвется наружу, он набросился на нее, растерявшуюся, и словно дорвавшийся до теста пекарь принялся судорожно мять ее тело. Высокий оркестр умолк и вместо него запела-закипела безрассудная животная струна. Его хватило на короткий бурный штурм, в конце которого он впервые за то время, что был с ней, застонал. Небывалые доселе конвульсии сотрясали его, выталкивая наружу утробные, болезненные звуки. Смущенная неожиданным темпераментом жениха, она прижимала его к себе и успокаивающе гладила по спине, ощущая, как судорожные подергивания его бедер отдаются у нее в животе. Тяжкий напор его тела неприятно напомнил ей ужасную сцену, что случилась у нее с Феноменко. Все вышло также грубо и беспардонно, с той лишь разницей, что делалось с ее согласия. Привалившись щекой к ее голове, он ослаб и затих.
«Вот это да! – думала она. – Оказывается, он тоже может быть грубым! Интересно, мог бы он меня изнасиловать, если бы я ему отказала?»
Наконец он тяжело опрокинулся с нее, да так и остался лежать рядом.
– Ой-ой-ой! – сжав ноги, тут же спохватилась она и, дотянувшись до полотенца, сунула его под одеяло. Некоторое время она молча возилась, напрягая шею и отрывая от подушки голову и, наконец, произнесла со смешливой иронией:
– Господи, да у меня там целое море!
– Наташенька, я страшно соскучился, – уткнувшись головой в ее плечо, слабым голосом пояснил он.
– Противный мальчишка! Я, между прочим, тоже соскучилась! – капризно отвечала она. Стоит ли говорить, что он соскучился по ней, а она по оргазму.
– Потерпи, пожалуйста… Совсем немного… – виновато бормотал он ей в плечо.
– Что же мне еще остается! – дразнила она его напускным разочарованием. – Ладно, не переживай. Расскажи лучше, как ты тут без меня жил…
И он, нащупав ее руку и тщательно подбирая слова, сообщил ей про то, какие муки одиночества претерпел. Про голый озябший берег и беспечную аномалию голубого и серого, которые, несмотря на крайнюю разницу характеров, не могут существовать одно без другого. Про иней на деревьях, подрумяненных красноватыми лучами солнца, и про обманутые недавним теплом почки на ветвях. Про свой разорванный на тоскливые куски сон и безрадостные пробуждения, про сосредоточенное курение на виду сиятельного месяца, алмазной кромкой царапающего темное стекло ночного неба…
– Знаешь, не дай бог, когда тебя обижает любимый человек! – закончил он свой любовный отчет.
– Ах, вот как! – решительно облокотилась она на подушку. Он осторожно сделал то же самое. – А как же ты сам? Говорил, что любишь, а оказывается, я у тебя и вульгарная, и нечуткая, и такая же недалекая, как все твои женщины! И ты пожелал мне счастливо оставаться, и гордо хлопнул дверью, хотя я тебя и не выгоняла…
Он не знал, куда девать красное лицо. То чугунное и пыхтящее, что неделю назад подобно паровозу влекло за собой голубой вагон его благородного негодования, сегодня превратилось в нечто вздорное и эфемерное.
– Но я не собираюсь увлекаться взаимными упреками, а хочу сказать по существу… – продолжала она. – Вот ты все твердишь, что я тебя не люблю. А я и не спорю. Знаешь почему? Потому что я знаю, что такое любовь! Нельзя любить на пятьдесят или на семьдесят процентов! В этом деле одно из двух – либо любишь, либо нет! Середины нет! Вернее, она есть, и может быть я где-то там сейчас и нахожусь, но это не любовь, понимаешь? Не бывает любви второго сорта, любовь бывает только высшего сорта! Да, мои нынешние чувства к тебе не тянут на любовь, на настоящую любовь, на ту, от которой сходишь с ума! Но разве я в этом виновата? Или ты хочешь, чтобы я притворялась и говорила тебе, что люблю и тем самым обманывала тебя? Хочешь? А я не хочу!
Она смотрела на него в упор и видела, как на его гаснущее лицо ложится тень разочарования. Ей стало жаль его.
– Не обижайся, пожалуйста! На самом деле я очень ценю твое отношение ко мне. Честно говоря, я его даже не заслуживаю. Ты такой хороший, милый, нежный, умный, внимательный, порядочный, основательный и я не знаю, что еще! Ты в самом деле лучше всех, кого я знаю, иначе бы ты не был сейчас со мной! Конечно, ты можешь спросить, почему я с тобой сплю, если не люблю. Ну, или не совсем люблю. Но ты же знаешь – такое бывает сплошь и рядом! Просто женщины редко об этом говорят открыто, а я вот говорю, потому что не хочу тебя обманывать. Скажу откровенно – мне тоже все эти дни было несладко! Значит, ты мне не безразличен, ведь так? Может, на пятьдесят, может, на шестьдесят процентов… И все же это не та любовь, от которой бросает то в жар, то в холод, понимаешь! Это только подступы к ней. Ты должен меня понять, ведь ты тоже любил! Ну, ведь так?
– Да, так мне казалось… Но я не знал тогда, что можно любить так, как люблю сейчас…
– Вот видишь! Значит, такое может случиться и со мной! Димочка, мне важно, чтобы ты знал, что я хочу тебя полюбить, очень хочу! Только дай мне время, не торопи! Поверь, все идет как надо, и когда я тебя полюблю, ты узнаешь это первым! Но в любом случае ты можешь быть уверен, что даже если это будет пятьдесят процентов – я никогда тебе не изменю. Иди ко мне!
Он послушно потянулся к ней и пристроил голову у нее на плече.
«Знаешь, чего я все время боюсь? Я боюсь, что ты, не успев полюбить меня, полюбишь другого!» – чуть было не сказал он, но сдержался.
– Ты правильно сделала, что сказала, – заговорил он мужественно. – Мне все равно, любишь ты меня или нет, потому что главное для меня, что я сам люблю тебя, и поверь – сделаю все, чтобы ты меня полюбила!
– Сделай, Димочка, сделай, пожалуйста! Я так этого хочу! – нервно гладила она его и, оторвав голову от подушки, быстро поцеловала в губы: – Давай больше не ссориться, хорошо?
– Нет, иногда немножко нужно, потому что мириться так сладко! – улыбнулся он.
Как только не обманывают друг друга и о чем только не мечтают наивные мужчины и женщины в преддверии оргазма!
Он поцеловал ее грудь и двинулся ниже. Она закрыла глаза.
И снова по жаркому небу поплыли золотые рыбы, а разноцветные птицы на дне лазурного моря запели с коралловых ветвей. Трижды загоралось и гасло солнце, трижды рушился и восставал мир, трижды она тонула и выплывала, пока, наконец, влажная, горячая и обессиленная не растянулась рядом с ним на золотом берегу.
Немного погодя, вложив себя в мягкий угол его тела, она думала там:
«Как ужасно, что я узнала настоящую любовь до него! Не узнай я ее тогда – сейчас бы считала, что люблю его, что не могу без него, что он единственный и неповторимый, первый и последний… Так и обманывала бы его и себя…»
Все же как это странно и несправедливо: мужчина, подаривший ей высшую радость жизни, должен питаться сухим кормом жалости! Художник, расписавший неоновыми фресками небосвод ее жизни, должен перебиваться милостыней скупого чувства! Только вот чем она может его отблагодарить? Особыми ласками? Нет, это невозможно без любви! К тому же он может вообразить себе то, чего нет на самом деле, и каково будет его разочарование, случись ему обнаружить ее притворство! Конечно, она допускает, что может быть, когда-нибудь в очень отдаленном, уверенном, благополучном будущем, находясь в ненормальном (а в нормальном это невозможно) состоянии, она решится сыграть на его флейте и извлечь из нее жгучую и сочную мелодию любви. Однако сегодня это не более чем робкие пугливые предположения, стыдливые, так сказать, заметки на полях целомудрия.
Прикрывая ее собой, он грудью, животом и ногами прижимался к ее спине и ногам, уткнувшись лицом в ее затылок и воруя его запах, где живой, пряный дурман вспотевшей кожи перебивал слабый аромат духов. Все, что он возомнил себе – его ершистые планы возвысить свой покладистый голос, унять излишнюю искренность, расправить крылья иронии и резко понизить градус обожания; его щетинистые намерения любить ее сдержанно, невозмутимо и философски, его молодецкий петушиный кураж – все прахом, все к черту, лишь увидел он ее, лишь прикоснулся к ней! Как это весело и страшно, как упоительно и безнадежно! Он любит и нелюбим, он погиб и он счастлив! Удивительное дело – при всей его способности внушать любовь другим он оказался совершенно беспомощен перед собственной любовью!
Так он думал, бережно оглаживая ее неподражаемое тело. Он любил, взобравшись на гладкую возвышенность той удивительно содержательной части ее тела, которую бездушные медики зовут почему-то тазом, замереть там перед заманчивым и трудным выбором – отправиться ли к покатым, податливым, припудренным жеманной бледностью ягодицам, либо осторожно, чтобы не поскользнуться, перебраться на талию и оттуда спуститься на пружинистую лужайку живота; либо кинуться с отвесного обрыва и угодить в мягкую расщелину, что сужаясь, ведет в скрытый мелкими зарослями набухший чудесной влагой грот. Либо, съехав с ее плавных чресл, пройти по внешней бархатной стороне бедра, дотянуться до окатыша коленки, затем повернуть вспять и, соскользнув на полпути, застать врасплох его внутреннюю сторону, что глаже стекла, нежней запястья и поэтичней первого свидания. Просунуть ладонь туда, где кожа сохранила глянцевую девичью упругость, и где само присутствие его грубой руки кажется неуместным и оскорбительным. Забраться и бродить по изнеженному сахарному предместью, чьи млечные пути ведут все в тот же мерцающий грот. Подобраться к его створкам, похитить проступивший наружу драгоценный елей и, стыдясь, тайком донести его до жадного языка, добавляя в него для вкуса запах ее волос и подмышек…
И все же, если эти чудные сокровища принадлежат ему, и если она назвалась его невестой – для чего ему нужна ее любовь, ее преданный взгляд и нескрываемое обожание? Зачем ему, чтобы она, думая о нем, ощущала восторг и слезы в уголках глаз? Откуда это желание поселить в ней тревожно-радостное, ни на что не похожее и, по сути, гибельное чувство? Да потому что ее любовь к нему – единственная гарантия, что она всегда будет с ним, а, значит, он будет жить!
Он раздвинул носом ее густые волосы и поцеловал в шейку. Затем со значением скользнул губами по плечу и спустился на спину. Она, чтобы охладить его пыл, к которому была пока не готова, выбралась из его объятий и повернулась к нему лицом.
«Расскажи мне что-нибудь еще…» – хотела сказать она, но его необычайно серьезный взгляд остановил ее.
– Что? – спросила она.
– Никому тебя не отдам! – попытался улыбнуться он.
– Глупый! – рассмеялась она и спрятала лицо у него на груди. – Ты, кажется, начал рассказывать, как жил без меня…
– Ну, как… Как и положено: удалился от мира и пил… Да, кстати, забыл тебе рассказать… – оживился он и принялся вспоминать, как находясь в прострации, неожиданно нашел утешение в Дебюсси, как открыл для себя странные, ни на что не похожие сочетания удивленных случайным соседством звуков, которые плыли по гостиной, струясь, дрожа, замирая, трепеща, скользя, дерзя, тая и воскресая. Оказалось, что музыка живет во всем: в парусах, в лунном свете, в тумане, в шагах на снегу, в ветре на равнине, в дельфийских танцовщицах, в арабесках, в затонувшем соборе, в девушке с волосами цвета льна. Надо только ее услышать и извлечь.
Она слушала, затаившись, но вдруг отстранилась, дотянулась до его губ, быстро поцеловала и снова спряталась.
– Ты знаешь, – воодушевился он, – перед отъездом я собирал вещи и совершенно случайно наткнулся глазами на Блока. Дай, думаю, возьму. И так удивительно оказалось, что он совпал с Дебюсси! Ну, не мистика ли? Я уже тогда понял, что все у нас будет хорошо!
– Но пить не перестал! – раздался ее смешок.
– Не перестал… – сознался он. – Представляешь, он, оказывается, знал о нас с тобой еще сто лет назад! Все знал! Наперед! Знал и сообщил самым убедительным и нетленным образом!
– Что знал?
– Все! Даже то, что мы встретимся осенью!
– Ну уж… Тогда обязательно надо почитать… – млея, пробормотала она.
– Я сам тебе почитаю! – заторопился он, словно боясь, что читая самостоятельно, она запачкается гуталином его неприглядных размышлений тех ужасных дней. Как объяснить ей, что всех строчек поэта, переплавленных в тигле его души, хватило лишь на четыре строки!
– А что с нами будет – тоже знал? – также расслабленно пробормотала она.
– Знал, – подумав, ответил он. – Про меня точно знал!
– И что? – заинтересовалась она.
И он торжественным глухим голосом продекламировал отлитое в бронзе его сердца четверостишие:
- Твоих страстей повержен силой,
- Под игом слаб.
- Порой – слуга; порою – милый;
- И вечно – раб
Она подтянулась к нему, припала к его губам и задержалась там.
– Сделай это, Димочка, нежно, как ты умеешь! – попросила она, поворачиваясь к нему спиной.
12
«Не люблю, но, возможно, полюблю» – сказала она, и ему теперь волей-неволей следовало вести себя так, чтобы каждую минуту добиваться даже не расположения ее, нет, а чего-то подкожного, задушевного, засердечного, отчасти, может быть, даже заумного, запредельного. Здесь все зыбко, все вопросительно и относительно. Помимо синдрома благих намерений здесь нелишне иметь в виду, что порой своенравная выходка полезней для дела, чем учтивость и чуткость. Блужданиям среди пугливых, неверных, любовных кущ чужд расчет, тут требуется полет и вдохновение. Попробуй-ка выйти на сцену, сыграть героя-любовника и не быть освистанным, если до этого ты играл только альфонса и жалкого раба, да к тому же не знаешь текста! Отныне, высказав суждение, обнаружив пристрастие, совершив действие, допустив оплошность, словом, приоткрыв или подтвердив свое качество, он вынужден будет беспокоиться о его, так сказать, душевной калорийности. Глядя на ее приветливое лицо, он невольно будет думать – а что чувствует внутри нее та, другая, которая пристраивает его в этот момент к какому-то только ей известному аршину?
«Я сделаю все, чтобы ты меня полюбила!» – сказал он, мешая решимость с патетикой, которая, как известно, наряду с мужской спермой есть самая ненадежная из скрепляющих смесей. Интересно, как он собирается заставить полюбить себя и что он еще может добавить к тому, что она о нем уже знает – ласково улыбаясь ему, думала она наутро, сидя напротив и глядя, с какой жадностью он поедает один за другим бутерброды с ветчиной и сыром, подгоняя их большой чашкой кофе. Бледное мятое лицо, пунцовые кончики ушей, набухшие веки, узкий жующий рот и холеные цепкие пальцы.
– Что? – смутился он, поймав ее изучающий взгляд.
– Бедный Димочка! Я, нахалка этакая, совсем тебя замучила!
– Ничего, мне это только на пользу – надо худеть! – прикрыл он смущение иронией.
Интересно, думала она, как долго он сможет терпеть ее непылкое внимание (пылкое невнимание?) и не поспешит ли принять за любовь ее случайную нежность? Конечно, через пару месяцев можно приступить к осторожным намекам – мол, халва, халва. Он, разумеется, воспрянет, но станет ли ей от этого слаще? Ведь первый же ее приступ раздражительности рассеет чары притворства и насмерть отравит его робкие иллюзии. Так не лучше ли оставаться честной и чуткой?
И еще одна, пожалуй, главная опасность. Не она ли, объясняя причины Мишкиной измены, признавалась, что он изменил ей в отместку за то, что она его не любила? А сколько продержится он, если ее любовь закапризничает? Ведь рано или поздно ему надоест быть нелюбимым! А если она сама, не дай бог, встретит второго Володю? Боже ты мой, ну к чему самоедство? Почему не жить так, как живут все? Ну, какая теперь, скажите на милость, между ее подругами и их мужьями любовь? Привычка, не более! Сквозь облезлую позолоту брака там давно проглядывает серая грунтовка моногамного быта, где мужья думают, как переспать с другой бабой, а жены – как их от этого удержать. Видела она, как их хваленые мужья пялились на нее в тот несчастный вечер! А может, плюнуть на все и назначить свадьбу, а сразу после брака подумать о ребенке?
Вслед за кольцом на место вернулось колье.
– Прошу тебя, чтобы не случилось – не разбрасывайся им! – напутствовал он ее с укоризной.
По громкой дружеской связи она сообщила о своем благополучном возвращении в семейное гнездо, на что Светка, хмыкнув, отозвалась:
– Кто бы сомневался: милые бранятся – только тешатся! Давайте-ка к нам в гости на старый Новый год!
Они съездили в магазин и запаслись продуктами. Не допуская ее до плиты, он приготовил обед, и они долго сидели, попивая вино и растягивая во все стороны резиновое пространство своих жизней, плотно населенных тенями ее мужчин и его женщин. Главное здесь – не сгустить повествование черным отблеском случайных подробностей до выпуклого состояния. Иначе как избавиться от невеселой прозрачности ее веселой истории о том, как однажды в Париже она до головокружения, до неустойчивого положения распробовала «Шато Марго» 1999 года. Ему же лишь оставалось вообразить, что может ждать в Париже красивую женщину после того, как она в компании солидного мужчины пьет дорогое вино и уж тем более напивается. Или, например, что оставалось думать ей после его рассказа о том, как однажды в том же городе он ужинал в многолюдной деловой компании, и как ему навязали некую красотку, которую он был вынужден весь вечер развлекать, а после ужина проводить до дома где-то в окрестностях Люксембургского сада. Словом, призраки прошлого в тот вечер густо витали в воздухе, набрасывая время от времени невольную тень на их лица. Такой вот неоново-пятнистый аншлаг в бродячем театре теней.
Когда пришло время ложиться, она объявила, что сегодня он спит на диване.
– Нет, нет, даже не спорь! – отбивалась она от его недоумения. – Ты должен отдохнуть! Если мы ляжем вместе, сам знаешь, чем это кончится!
– Но, Наташенька! – упрашивал он. – Я отвернусь и буду тихий и послушный, как зайчик! Клянусь тебе!
– Знаем мы вашего зайчика! – хохотала она. – Утром, утром! Все утром!
Спал он, как убитый, а поздним утром поспешил в спальную. Осторожно проникнув под одеяло, он подобрался к ней и прижался грудью, животом и ногами к ее спине и ногам, повторив своим телом контуры ее тела.
– Ну-у!.. – сонным голосом, в котором не было протеста, произнесла она. – Ну, Дима! Ну, не приставай, противный мальчишка!
– Так что вы там говорили про детей? Кого желаете – мальчика, девочку?
А ведь верно – счастье так близко: стоит только протянуть руку…
13
В гости к его другу она надела скромное дорогое платье, купленное в Стокгольме в один из последних наездов – белый горошек размером с десятикопеечную монету на темно-синем поле, которому так к лицу бежевый цвет легкого жакета. Сама того не ведая, она повторила одну из возбудительных комбинаций Мишель. Взбудораженный многозначительной перекличкой эпох, он вывел свою королеву во двор и усадил в машину. Над пасмурным миром, затаив дыхание, мечтательно кружились влюбленные снежинки…
Пропустив невесту вперед, он из-за ее спины наблюдал за лицами своих друзей. Юркины глаза заметно округлились, Татьянины, напротив, сузились.
– Знакомьтесь: Наташа, моя невеста! – объявил он.
Хозяева поздоровались, и Юрка захлопотал вокруг гостьи. Татьяна вежливо и молча улыбалась.
– Пойдемте, я покажу вам квартиру, – наконец очнулась хозяйка, желая первой в этом доме снять пенки с Наташиного смущения. Мужчины двинулись в гостиную.
– Ну, ты даешь, Димыч! Такую красавицу отхватил! Да, теперь я тебя понимаю! Супер, просто супер! – волновался Юрка.
Вернулись женщины, всем видом доказывая, что первое общение их не сблизило. Хозяйка усадила Наташу и удалилась на кухню, а Юрка, с жарким интересом подавшись к гостье, завел комплиментарный разговор.
Из всех событий вечера, ничем особым не отмеченного, следует выделить три эпизода. Во-первых, когда Юрка и Наташа остались в гостиной одни, и Юрка, к тому времени совершенно освоившись и перейдя на «ты», стал вдруг серьезным и сказал:
– Знаешь, лучше парня, чем Димка тебе не найти. Он умный, верный и надежный. Поверь, я знаю: мы с ним через такие университеты прошли!
– Но мужская верность и верность женщине – совершенно разные вещи, согласись!
– До его знакомства с тобой согласился бы, но сегодня не соглашусь. Я помню, каким он был во время вашей ссоры. Таким потерянным я никогда его еще не видел.
– И все же боюсь, как бы мне не разделить судьбу его бывших подружек! – коварно пожаловалась она.
Юрка оживился:
– Скажу прямо – всем им далеко до тебя!
– Ты лучше скажи, почему он не женился раньше?
– Не знаю. Я его всегда спрашивал – когда женишься, а он отшучивался. Но с тобой у него все по-другому! Он мне так и сказал после вашего знакомства – в лепешку разобьюсь, но женюсь!
В это же время на кухне гость и хозяйка сошлись во втором эпизоде:
– Ну, что скажешь? – спросил он.
– Ну, что я скажу… – отвечала хозяйка, возводя на него подведенные очи. – Девушка она, безусловно, эффектная, культурная. Кстати, кто она у тебя?
– Юрист!
– Вот, вот, оно и видно, – поджала губы хозяйка. – Не знаю, может, я ошибаюсь, но уж больно она самостоятельная! У таких все просто: чуть что не по ней – скандал! Да ты и сам уже знаешь…
– Танюша, ты преувеличиваешь! Она совсем не такая!
– Ты хотел мое мнение – пожалуйста! Только скажу, что Ирина тебе подходила больше…
Немного погодя хозяйка и гостья сошлись на той же кухне в третьем эпизоде. Разговор их, начавшись Наташиным умилением по поводу трогательной подростковой нескладности хозяйкиной дочки Анечки, хоть и был поддержан, все же не поднимался выше прохладного градуса дежурной темы. Хозяйка в свою очередь бесцеремонно поинтересовалась, отчего гостья в ее возрасте не обзавелась детьми.
– А разве Дима вам не рассказывал? – пытаясь выиграть время, притворилась удивленной Наташа.
– Нет. Он вообще-то у нас скрытный, – зачем-то вывернула истину наизнанку хозяйка, и Наташе пришлось отделаться ссылкой на стечение обстоятельств, которые, как известно, всегда стекаются туда, куда нам нужно.
Поскользнувшись на детской теме, гостья съехала на превратности трудовой деятельности, но хозяйка, находящаяся на службе у одного из банков, не захотела потешить их солидарное пренебрежительное мнение о клиентах. Тогда гостья похвалила хозяйкин наряд, состоящий из двух цветных пятен – черной юбки и ядовито-зеленой блузки, но ее вежливо поблагодарили и даже не захотели узнать, где и почем она купила свое веселенькое платьице. Гостье ничего не оставалось, как одобрительно отозваться о просторной и богатой квартире (отделанной и обставленной, между нами говоря, в новомещанском тропическом вкусе) и о хозяйкином муже с его братским отношением к ее жениху.
– Да, они давно знакомы, – был сдержанный комментарий хозяйки.
«Такое впечатление, что она с ним спала и теперь злится!» – потеряв терпение, возмущенно подумала Наташа. Вскоре после этого она заторопилась домой, и около десяти они распрощались с безутешным Юркой и вежливой хозяйкой.
– У тебя с ней что-нибудь было? – мрачно спросила она его в машине.
– С кем? – испугался он.
– С Татьяной!
– Господи, Наташа, ну что ты такое говоришь?! Ну как ты могла такое подумать?!
– Ну, не знаю. Она весь вечер смотрела на меня, как на воровку…
– Ты считаешь, что я настолько испорчен, что могу познакомить тебя с бывшей любовницей?
– Да ладно, чего там, дело прошлое… – вяло злилась она.
– То есть, ты все-таки считаешь, что я настолько безнадежен, что мог переспать с женой лучшего друга?
– Ничего я не считаю! – устало отмахнулась она.
– Ну, Наташа, ну, милая, ну не надо делать из меня полового монстра! – взмолился он.
«Как не делать, если ты такой и есть!» – вспомнила она утреннюю репетицию зачатия – нежную, бурную, непорочную.
– Сначала я не понравилась твоей матери, а теперь и жене твоего лучшего друга… – с усталым разочарованием произнесла она.
– Тем хуже для них обеих! – неожиданно мрачно ответил он.
В оставшееся до сна время она бродила по своим задумчивым траекториям, пока не сошлась с ним перед телевизором на диване и не отдала ему молчаливую, рассеянную руку.
«Интересно, за что женщины его любят? – думала она, сидя рядом с ним. – Ведь он далеко не красавец и, к тому же, грузноват… И подруги от него в восторге, и эта сегодняшняя ревнивая кошка… И ведь даже не знают, какой он в постели. А если бы еще знали…»
Когда они легли, и он осторожно подобрался к ней, она сказала:
– Не обижайся, но я устала…
– Хорошо, хорошо, тогда я просто поглажу тебя, чтобы ты быстрее заснула. Когда ты была маленькая, тебя гладили перед сном?
– Да, гладили… Помню, я очень любила… Особенно, когда отец гладил…
– Где он тебя гладил?
– По спине, по голове, руки…
Получив ориентиры, он уложил ее набок и принялся колдовать, подражая отцовской нежности, как он ее понимал. Начав со спинки, он, разумеется, быстро забыл, что перед ним маленькая девочка, а он ее отец. Перепутал спинку с животиком, льняную головку с ягодицами, а ручки с ножками. Заставил ее вздрагивать и, наконец, подсунул ей свои истинные окрепшие намерения. При ее молчаливом попустительстве он в одиночку и неожиданно быстро взобрался на гору и, упруго толкаясь, сбежал оттуда прямо к подножию ее вялого соучастия.
Конечно, позволив себя гладить, она прекрасно знала, чем все кончится, и когда он обнаружил свое хотение, поступила так, как делала до него, когда была приучена к мысли, что ее удел – подставить себя мужчине, когда он того захочет. Дождавшись, когда он отделится, она встала, накинула халат и устремилась в ванную, чувствуя на ходу, как его липучий дар покидает ее и, холодея, стекает по глянцевой упругости млечных путей и вот-вот потянется за ней темнеющим следом, как раненая кровь. Она успела забежать в ванную, где, расставив ноги и морщась, подобрала ребром ладони шуструю жидкость, намереваясь тут же ее смыть. Вдруг стыдное и жадное любопытство, сродни тому, с каким она рассматривала его челнок, одолело ее. Она поднесла сопротивляющуюся ладонь к глазам и с брезгливым изумлением принялась разглядывать ту невзрачную беловатую субстанцию, которой ее до сих пор так усердно потчевали ее мужчины, и от которой она каждый раз спешила избавиться (Володя не в счет). Видом и липкостью она напоминала бесцветный шампунь, отчего рот тут же отозвался легким мыльным привкусом. Отвернувшись от зеркала и преодолевая отвращение, она сначала понюхала жидкость, а затем коснулась кончиком языка. Гримасничая сверх меры, она попыталась распробовать вкус, заранее обреченный называться отвратительным, и вдруг сплюнула, словно обнаружив там что-то тухлое:
– Тьфу, какая гадость!
Вернувшись, она забралась к нему в объятия и пригрелась, а затем, пользуясь темнотой, погрузилась с головой под одеяло. Там, затаившись, она некоторое время вдыхала душноватое тепло их испарений, пытаясь выделить из них запах его тела, но лишь прелый, со слабым рыбьим привкусом дух их мокрых натруженных желез дразнил ее обоняние. Опасаясь ненужного возбуждения, она отползла от него на безопасное расстояние и вскоре заснула.
Наутро она вспомнила вчерашнюю дегустацию и, испытав неожиданное возбуждение, сама заставила его заставить ее кричать. Отлежавшись, она скрылась в ванной, где собрала и уместила на ладони небольшую перламутровую лужицу. Подав лицо вперед, закрыв глаза, облизывая губы и причмокивая, она тщательно и без отвращения попробовала его угощение. Несмотря на внезапную симпатию, она нашла его безвкусным и слегка солоноватым. Губы стали липкими, а язык по особому гладким. Словом, ничего похожего на олимпийскую амброзию. «Тогда отчего так много дур, которым ЭТО нравится?» – подумала она, имея в виду в первую очередь свою лучшую подругу Светку. Надо обязательно заглянуть в Интернет и почитать, что там пишут по поводу вкуса спермы.
«Господи, знали бы подруги, чем я, Наташа Ростовцева, образцовая чистюля и фифочка, тут занимаюсь!» – с веселым ужасом подумала она, обследуя языком встревоженную полость рта, куда впустила его живучую агрессивную гадость.
Это безусловно важное открытие, совершенное с большим опозданием, возбудило в ней по очереди два противоположных чувства. Сначала разочаровало, потому что она ждала большего, а затем обрадовало – слава богу, без этого можно прекрасно обойтись! Достаточно того, что она теперь знает, что это такое, но извлекать и пачкаться – увольте! Не царское это дело!
В тот же день она тайком заглянула в Интернет.
«Как много на свете блеющих озабоченных дур, которым невдомек, что зализывая мочеиспускательные отверстия, они уподобляются животным! Вот если бы они зализывали раны своих самцов, тут бы я их поняла. Впрочем, что с них взять – это же тупые самки, живущие от случки до случки! Подумать только – тратить жизнь на обсуждение и смакование скотских привычек, украшая свои пошлые мыслишки цветочками и сердечками!» – брезгливо думала она. Нет, она вовсе не против, чтобы зализывали её, но сама она этого никогда делать не будет! Кстати, для того чтобы сперма была сладкой надо, оказывается, кормить своего самца фруктами и поить ананасовым соком…
Каникулы неожиданно закончились, и тут же обнаружилось, что если они забыли про мир, то мир про них не забыл.
Едва она появилась у Феноменко, как он объявил ей, что через две недели надо быть в Стокгольме. Она ответила, что согласна туда ехать, только если с ними поедет Юлька.
– Я не собираюсь оплачивать твою мнительность, – сухо ответил он.
– А я не желаю повторения той грязной истории!