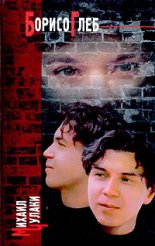Неон, она и не он Солин Александр

– Хорошо, не хочешь ехать – не надо. Я возьму Юльку. Но тогда нам придется расстаться.
И рывком подтянув к себе папку, углубился в нее, давая понять, что разговор окончен. Она помолчала и сказала:
– Естественно, номера у нас будут отдельные!
– Разумеется! – блеснули его глаза.
Не имея намерения возбудить нездоровые ожидания читателя там, где потакать им было бы против всякой жизненной логики (ибо в жизни, конечно, все может быть, но не все можно допустить), забежим вперед и скажем, что все обошлось и ей удалось удержать его на привязи.
Пятнадцатого января раздался первый звонок, оповестивший фондовую общественность о начале большой игры на понижение, где самым важным игроком оказалась перевозбужденная заокеанская экономика. К этому времени они с Юркой уже вышли из рынка и, сменив бычью личину на медвежью, приветствовали теперь тот золотой для них пар, что вырывался из дырявого аэростата мирового хозяйства, взлетевшего на недопустимую высоту. Его озабоченность впервые проникла в Наташу, приобщив ее к тем привычным для него тревогам, которыми он зарабатывал на жизнь. Теперь, встречаясь вечером, она первым делом спрашивала:
– Ну, как твой рынок?
И он, улыбаясь, пытался описать неописуемое – того капризного, неверного, коварного альфонса, что проживая в фиктивном браке с бережливой и скуповатой дамой, именуемой мировой экономикой, пользуется ее состоянием, чтобы предаваться превратностям азартных игр.
– Смотри не разорись! – однажды озабоченно пожелала она.
– У меня в общей сложности около четырех миллионов долларов, не считая недвижимости. А кроме того, теперь у меня есть ты – мой самой дорогой, а, вернее, бесценный актив, и теперь я просто не имею права разориться! – впервые оценил он перед ней свое состояние.
Она поглядела на него, затем встала (дело было за вечерним чаем), обошла стол и приблизилась к нему:
– Будь осторожен, пожалуйста! – заботливо погладила она его по голове и, склонившись, поцеловала в мягкую макушку.
14
Рано утром в понедельник он повез ее в аэропорт. Слабый мороз прояснил воздух, облака, низким потолком нависшие над городом, плелись в фиолетовую мглу, отливаясь тревожным коралловым блеском.
В какое щекотливое положение она себя поставила, решив познакомить жениха со своим бывшим любовником! Конечно, она могла попросить Феноменко держаться в стороне или пройти на посадку раньше, но какой-то черт у нее внутри, возбужденный и не совсем здоровый, внушил ей болезненное желание видеть их рядом. Иными словами, следуя удивительной логике женской геометрии, она решила свести углы треугольника в одной точке.
Утром она была с ним по-особому ласкова: встала рано, и пока он спал, приготовила завтрак, а когда он появился, вышла из-за стола и нежно поцеловала, чем вселила в него смущение. Хлопотала вокруг него, пока он завтракал, а когда он, не в силах далее молчать, спросил: «Наташенька, радость моя, что с тобой?», ответила:
– Знаешь, все может быть… Дальняя дорога, самолеты…
– Надо было мне лететь с тобой! Жалею, что послушался тебя! – заключил он с сердцем.
Помнится, когда он ей это впервые предложил, она тут же представила, как они будут жить втроем в одной гостинице, мирно беседовать за одним столиком в ресторане, втроем гулять по городу. Представила, с каким видом Феноменко будет желать им спокойной ночи и доброго утра, отпускать двусмысленные замечания и каким смешным и жалким в своем неведении окажется ее доверчивый интеллигентный жених. Да если еще Феноменко решит одним махом ей отомстить и даст понять жениху, что между ним и его невестой кое-что было! Какое оскорбление, какой удар по его честному чувству! Нет, нет, это невозможно, это хуже самого пошлого водевиля!
Впрочем, вот изысканный способ отомстить этому насильнику за то унижение, которое он ей причинил: поместить его в соседний номер и заняться с женихом громкой любовью – со стуком, стонами и воплями, чтобы это грязное животное за стеной слышало, мучилось и зверело! Будь она пресыщенной стервой, она бы так и сделала. Ах, какая бы это была упоительная месть! Жаль только, что это невозможно…
В аэропорту, поглядывая по сторонам, их уже ждал Феноменко. Они подошли к нему, и она, чувствуя, как подтянулись нервы, познакомила их. Жених доброжелательно поздоровался и с интересом посмотрел на ее шефа, о котором она пару раз нехотя упоминала. Что ж, весьма представительный тип с лицом единоначальника. Феноменко, в свою очередь, впился в него цепким и острым взглядом барышника. Какой пикантный момент, какая звенящая ситуация! Она смотрела на своих любовников, которых буквально свела нос к носу, и сравнивала. Разумеется, ее жених победил. Не уступая в сложении и будучи выше, мягкостью черт он отличался от Феноменко, как восковая свеча от бронзового канделябра.
– Ну что, будем прощаться? – не желая давать мужчинам время для общения, заторопилась она и отвела жениха в сторону. – До свиданья, Димочка! Не скучай тут без меня и веди себя прилично! – поцеловав, поправила она ему на шее шарфик. – И не разгуливай без шапки, пожалуйста!
Вытягивая шею, он смотрел им вслед. Они удалялись: оба в длинных, кашемировых пальто – у нее темно-синее, у него черное. Она – с сумочкой через плечо, он – с шоколадным фасонистым портфелем, способным оставаться подтянутым и элегантным, сколько бы бумаг не проглотил.
В самолете Феноменко заказал коньяк и, выпив, сказал:
– Ну, и что ты в нем нашла? Ну, скажи – чем он лучше меня?
– Не начинай, Леша, прошу тебя! – раздраженно ответила она.
– Хорошо, не буду. Скажи только – если у тебя с ним ничего не получится, ты вернешься ко мне?
– У меня с ним все получится! – с расстановкой сказала она и отвернулась к иллюминатору, где под крылом сияли ослепительные упругие кочки, по которым, наверное, так беззаботно и радостно прыгать после смерти.
Каждый раз, бывая в Стокгольме, она будто подставляла душу теплому, удивительно благодушному и доброжелательному ветру. Она ощущала себя в богатой и волшебной стране щедрых улыбок и почтительного внимания, предупредительного равенства и ненавязчивого достоинства. Здесь варварская, языческая часть ее русской натуры корчилась и агонизировала, словно оборотень под горячими разрушительными лучами солнца. Без сомнения, ее выдающиеся качества нашли бы здесь благодатную почву для всеобщего и восторженного поклонения. Не задумываясь о том, что существует несколько способов переехать сюда жить (и первый из них – выйти замуж за достойного шведа), она возвращалась на родину, и благодушный, доброжелательный ветер постепенно покидал закоулки ее души, как воздух Швеции покидает наши легкие, меняясь на отечественный…
Оказалось, что кроме работы им не о чем говорить. Они пробыли там три дня, и все это время Феноменко был упреждающе вежлив, покладист и внимателен. Они ужинали в компании местных коллег, где она блистала, сама того не желая, после чего возвращались в отель. Он желал ей спокойной ночи, и она, запершись в номере, поглядывала на ручку двери: не придет ли та, не дай бог, в движение. Утром он встречал ее с мешками под глазами.
Когда летели обратно, он сказал:
– Наташка, какой я был дурак! Никогда себе не прощу!
Относились ли его слова к какому-то засохшему эпизоду или ко всему гербарию их отношений, он не уточнил. Вручая ее счастливому жениху, он довольно двусмысленно сказал:
– Наша(!) Наташа – редкая умница! Передаю вам ее в целости и сохранности!
После чего протянул жениху свою визитку и добавил:
– Будет время – звоните. Может, как-нибудь посидим втроем. Рад был знакомству!
И глупый жених, сунув приглашение в карман, с благодарностью пожал ему руку.
– Как все прошло? – поинтересовался он, когда они поехали.
– Как всегда хорошо! – ответила Наташа. Несмотря на побочные обстоятельства, она была довольна: сохранив заработанные грешным телом позиции, она находилась теперь на верном пути к семейной жизни.
Последовали энергичные, плодотворные дни, приправленные клубничной сладостью его нежностей. Ей ни о чем не приходилось думать и заботиться, кроме работы и личной гигиены. Под долгожданным, солнечным вниманием любящего мужчины она медленно, но верно избавлялась от прежнего беспризорного одиночества, похожего на обрубленный хвост черного злого кобеля. Их памятный разговор о детях, словно новые, туго заведенные часы запустил новый распорядок жизни. Он следил, чтобы она правильно и вовремя питалась, приучая ее к овсянке, черному хлебу, овощам, курице и натуральным сокам. Кофе отныне она пила только с молоком. «Я готовлю тебя к здоровой беременности!» – говорил он, заставляя ее питаться так, как считал нужным.
– Опять эта овсянка! – хныкала она по утрам.
– С клюквой и сахаром! – добавлял он.
– И этот дурацкий кофе с молоком!
– Не спорь, иначе заставлю пить какао с пенкой! – шутливо хмурил он брови.
Он, оказывается, мог быть строгим, и тогда взгляд его наливался горячей укоризной, с какой родители смотрят на несносных любимых детей. Касалось это только ее здоровья, на остальное он взирал со снисходительной улыбкой, скрывая незаурядным гардеробом чувств наготу своего беззащитного обожания.
На самом деле ей нравились его невкусные хлопоты, и капризность ее была напускной. Войдя во вкус, она с долгожданным удовольствием принимала его заботу: оказывается, это так радостно, когда тобой помыкает любящий мужчина! Если ей случалось быть на Петроградской, он приезжал и, несмотря на показные протесты, отвозил ее домой обедать, заботливостью и обходительностью приводя в восторг весь женский коллектив во главе с Ириной Львовной. Если обед заставал ее на Московском, он вез ее к себе. С его матерью она мудро и неожиданно легко сошлась, когда оказавшись у него во второй раз, подошла к ней и, глядя на нее солнечным взором, проникновенно сказала:
– Спасибо вам, Вера Васильевна, за нашего Димочку! Вы не представляете, какой он чудный и удивительный мальчик!
Вера Васильевна недоверчиво на нее посмотрела, а Наташа добавила:
– Можно, я вас поцелую?
– Ну, поцелуй! – смутилась Вера Васильевна.
Наташа обняла ее и от души поцеловала.
– Ты хоть его любишь? – грубовато спросила довольная Вера Васильевна.
– Конечно, люблю! – рассмеялась она, чувствуя, что слово ее отозвалось в ней, как имя бога всуе.
Однажды в конце февраля она решила надеть юбку, которую давно не надевала, и обнаружила, что та не желает сходиться у нее на талии. Она встала на весы и возмутилась:
– Какой ужас! От твоих забот я поправилась на целых два килограмма!
– Я это уже заметил по твоей груди и должен сказать, что тебе ужасно идет! – с улыбкой отвечал он.
– Противный мальчишка! – воскликнула она. – Ты специально меня раскармливаешь, потому что тебе нравятся полненькие!
– Мне нравишься только ты. А твои килограммы – всего лишь результат нормального питания. Успокойся, дальше этого твой вес не пойдет!
Так оно и оказалось, а через некоторое время она даже похудела на полкило.
В жизни устроено так, что на смену упоению приходит насыщение. Ведь даже буря не может длиться долго, и рано или поздно ей требует передышки. Она заметила, что их желания перестали совпадать по времени. Точнее, он хотел ее всегда, а она его – гораздо реже. В таких случаях она, не желая ему отказывать, ложилась набок и просила:
– Погладь меня…
Ближе к восьмому марта он предложил:
– Давай купим тебе новую машину!
– С какой стати? – искренне удивилась она.
– Разве ты не хочешь новую машину? Такую, как у меня!
– Такая, как у тебя у нас уже есть. Зачем нам вторая?
– Я хочу сделать тебе подарок, сделать приятное, в конце концов!
– У меня есть машина, которая меня устраивает. Тем более, что я почти ей не пользуюсь – ведь ты у меня стал вроде водителя! Нет, Димочка, спасибо, конечно, но бросать деньги на ветер я тебе не разрешаю! И, кстати, давай обойдемся в этот день без дорогих украшений – мне их и так девать некуда! Купи мне лучше три розочки с открыточкой, и напиши, что любишь, целуешь и все такое!
А чтобы придать своим увещеваниям неотразимую убедительность, добавила:
– Давай беречь деньги для наших детей, хорошо?
Про детей она отныне упоминала всякий раз, когда нужно было укротить его нежное упрямство. Можно даже сказать – злоупотребляла этим.
– Хорошо! – привлек он ее к себе.
С некоторых пор ему такое дозволялось.
15
Мало-помалу их отношения обретали основательность.
Полагая, что их семейное будущее лишь вопрос времени, он постепенно освобождался от сиюминутной чувственной жадности, безболезненно отправляя ее в завтрашний день. Смиряя возбуждение, он, наконец, научился гладить ее по-отцовски, и она засыпала в его объятиях, слабея и затихая на полуслове и оставляя его наедине с умилением. Нетерпеливое ожидание совокуплений он заменил жадным вниманием к ее миру и памяти.
– Расскажи мне что-нибудь о себе! – просил он, усаживаясь с ней на диван и зарываясь лицом в ее волосы.
Она не отказывалась, охотно вспоминала детство, школу, девичество – время, когда она еще не знала о похотливых мальчишках, примерявших где-то свой крепнущий зуд к ее будущим прелестям – и очень нехотя и скупо делилась тем, что было потом. Память, как известно, имеет свои минные поля.
– В десятом классе двое мальчишек подрались из-за меня…
– Всего двое?!
– Зато самые сильные!
Он заставил показать ему альбомы с фотографиями. С трепетным умилением смотрел он на голорукую, голенастую Наташу. Сложенная из ласкательно-уменьшительных слов, тонкая, нежная, скуластая, с худыми незрелыми ногами и узловатыми коленками, она пытливо смотрела на него из беспечного прошлого. Он так и не смог взглянуть на ее бывшего мужа – этого паршивого развратного кобеля, который нанес ее королевскому величеству оскорбление и получил по заслугам. Зато фото ее покойного жениха имелись в красноречивом количестве. Что ж, судя по всему, это был славный, добрый, достойный человек. Среди прочих она подсунула ему себя в компании маски, где она в ресторане, за сервированным в ожидании веселого путешествия столом.
– Сколько тебе здесь? – спросил он, любуясь ею. Ах, как он хотел бы разгладить эти ее нынешние грустные морщинки у рта и вернуть ее лицу тот безмятежный, счастливый взгляд!
– Двадцать пять, кажется…
Оказывается, у них уже отросла своя история – живая и трепетная, как жилка на ее руке – незаметно обретающая все признаки семейного предания.
– Ты помнишь, как Юлька при первой встрече уронила перчатку?
– Еще бы! Я тогда смог рассмотреть тебя вблизи – ты была совершенно неотразима и неприступна!
– Так вот, это она приметила тебя – не я! Она сказала: «Смотри, Наташка, какой классный кобель!» Извини, конечно! И перчатку она уронила нарочно – чтобы познакомить нас! Я ее еще отругала: ведь у меня до этого было железное правило – не улице не знакомиться! И потом, ты мне тогда совершенно не понравился – ну, нисколечко!
– А я когда тебя заметил, то прямо остолбенел и сразу решил, что познакомлюсь с тобой, во что бы то ни стало!
И так далее, и тому подобное, как говорят про влюбленных, оставляя их собирать нектар с цветов судьбы, который они потом откладывают медом в улей сердца.
А вот и нынешняя мера ее влюбленности: случись с ним, не дай бог, что-то ужасное – станет ли она убиваться по нему, как по Володе? Нет, к сожалению, нет. Пока нет. Но он лучший из тех, кого она сегодня знает. Господи, не дай ей встретить второго Володю – совесть с двух сторон замучит ее!
На восьмое марта он принес ей корзину роз с вложенной туда открыткой. Она тут же взяла открытку и прочитала:
«Моя милая Наташа!
Любовь – это то единственное, чем человек, принужденный к сожительству с жизнью, может ответить на вызов Хаоса. Все остальное – деньги, власть, успех – лишь жалкие химеры, которыми люди неспособные к любви, прикрывают свою ущербность. Несчастные глупцы, потому что они умрут, так и не узнав, для чего их пригласили в этот мир. Я же, если и умру, то только от любви к тебе…
Твой не от мира сего Д.М.»
Изобразив удовлетворение, она поцеловала его и украсила открыткой, словно его распахнутым сердцем гостиную, где та простояла неделю, а потом была спрятана в один из ящиков ее рабочего стола.
День его рождения, 30 марта, пришелся на воскресенье, и они тихо отметили его в квартире на Московском в компании матери, Юрки и Татьяны, которая на этот раз была более словоохотлива. Видя, что Вера Васильевна и Наташа неплохо спелись, она вышла из оппозиции и примкнула к их союзу, завершив тем самым построение бермудского треугольника прямого влияния, в котором жениху предстояло впредь блуждать.
По вечерам они, если было время, усаживались на диван перед телевизором. Она укладывала усталую голову ему на плечо или пристраивалась к нему другим образом, а он, следуя за нервным подергиванием экрана, комментировал происходящее.
– Россияне выбирают очередного Сизифа, – говорил он накануне выборов. – А ты за кого?
– Мне все равно… – отвечала она с закрытыми глазами.
– Знаешь, – помолчав, сказал он, – я вывел закон городской воды…
– Да? Интересно! – бормотала она.
– …Путь на небеса лежит через канализацию. По-моему, он очень хорошо подходит ко всем, кто рвется наверх.
– Вот именно! Они там, наверху, как дети, ей-богу – только бегают и толкаются! – откликнулась она.
Исподволь приобщая ее к своему желанию эмигрировать, он интересовался:
– Тебе не кажется, что безобразия в этой стране зашли слишком далеко?
– А что мы с тобой можем поделать? – отвечала она.
– Я тебе уже говорил – уехать отсюда в теплые страны…
– Димочка, я тебе уже отвечала на этот вопрос… – хмурилась она у него на плече.
Когда, выбираясь с ним в театр или филармонию, она натягивала скромные джинсики и напускала на них сверху неброский свитерок, он спрашивал ее:
– Почему ты так просто одеваешься?
– Потому что нынче так принято! – невозмутимо отвечала она и добавляла: – И потом, я не хочу, чтобы на меня пялились…
Однако в оперу, куда они до конца мая ходили дважды, она надевала вечернее платье.
– Ты не боишься, что меня украдут? – пугала она его, оглядывая себя в зеркале.
– Я всегда этого боюсь… – серьезно отвечал он, давно поняв, что для того, чтобы ею обладать, он должен быть не просто хорошим, а лучшим. И видит бог, он старался. Старался, не зная, как его рвение отзывается в ее улыбчивой, в меру насмешливой душе.
Так они замкнуто и без особых происшествий дожили до конца апреля, когда после неподвижной, невнятной облачности, которая то наползала широким сухим одеялом, то расползалась на куски молочного цвета, образуя узлы облаков с голубыми, похожими на вздутые вены ходами между ними, стали особенно заметны пропитанные цветным ярким солнцем фасады домов.
16
Это случилось 29-го апреля. Она пришла домой раньше обычного – молчаливая и заметно раздраженная. Видя, что она не в духе, он предложил ей чай, поскольку до ужина было еще далеко. Она села, затем встала и принялась ходить по кухне.
– Наташенька, что случилось? – осторожно спросил он.
– Ты представляешь, этот урод обозвал меня тупой сукой! Нет, ты представляешь, а?! Какой-то тупой урод, тупой недоделанный урод – меня! Меня!! – вдруг прорвало ее.
– Иди ко мне и расскажи, что случилось! – мирным облаком подплыл он к ней, намереваясь успокоить.
– Не хочу! – сверкнув глазами, оттолкнула она его приготовленные для объятий руки и возобновила бессмысленное кружение по кухне.
Он сел за стол и принялся пить чай, поглядывая в окно.
– Тебе что, безразлично, что меня оскорбили? – зло и отрывисто спросила она.
– Нет, не безразлично.
– Тогда сделай что-нибудь!
– Что именно?
– Ну, хотя бы пожалей меня! – превозмогая раздражение, потребовала она, и он про себя закончил ее недосказанную мысль: «…раз ничего больше не можешь!»
Он встал, подошел, обнял ее, и она спряталась у него на груди, как, наверное, пряталась в детстве у отца. Он поцеловал ее в голову и сказал:
– Успокойся, моя хорошая, успокойся, я никому не позволю тебя обижать! Пойдем, посидим на диване!
Они пошли в гостиную, сели на диван, и она рассказала, как по пути домой случайно подрезала невзрачную иномарку, и как та поравнялась с ней у светофора, как опустилось тонированное стекло, и щербатый лысый урод с мордой душегуба проорал с пассажирского места, мешая феню с матом: «Ты че творишь, тупая сука?! Тебе че, башку оторвать?!»
Честно говоря, она испугалась – с ней еще ни разу так не говорили. На всякий случай она отстала, а затем свернула с маршрута, остановилась и стояла минут десять, а затем поехала кружным путем.
– Такая мерзкая рожа, ты не представляешь! – закончила она.
– Ты запомнила номер? – выслушав ее, спросил он.
– Да какой там номер, Димочка! Я от страха чуть не описалась!
– В следующий раз запоминай номер, – сказал он спокойно и внушительно.
– И что дальше?
– А дальше мое дело, – мрачно ответил он.
– И что бы ты сделал, если бы я запомнила номер?
– Что бы ты сказала, то и сделал. Сказала бы убить – убил бы.
– Что – вот так бы взял и убил?
– Ну, думаю, пришлось бы повозиться. Судя по всему, это были урки. Но все равно – подорвали бы их вместе с машиной, и вся дуэль.
– Как – подорвали? Кто?
– Кто надо.
– Так ты что – заказал бы их?!
– А как иначе, Наташа? – отстранившись и глядя ей в глаза, с новым для нее безжалостным выражением воскликнул он. – Или ты считаешь, что я должен был бы вызвать их на дуэль? Ты что, забыла, где мы живем и с кем имеем дело?
Она изумленно посмотрела на него, а потом тихо спросила:
– Что, действительно бы убил?
– За тебя – кого угодно! – ответил он неслыханно дерзким голосом, и не было в нем ни капельки бравады. – Только не думай, что раз нет номера, то я такой храбрый. Пожалуйста, проверь. В следующий раз запомни номер и скажи мне…
Она освободилась от его рук и смотрела на него, будто видела впервые. Он смутился и сказал:
– Ну, хорошо, для начала взорвали бы пустую машину. Для острастки…
Она, не мигая, глядела на него.
– Ты не смотри, что я с виду тихий и ласковый, – занервничал он. – Когда мы с Юркой в девяностых торговали аппаратурой, на нас часто наезжали, и мы вместе с нашей крышей и стрелки забивали, и в разборках участвовали, и стреляли в нас один раз. Так что нужные связи и телефоны остались…
– Господи, никогда бы не подумала! – выдохнула она, наконец. – Но ты же говорил, что никогда не дрался!
– Так и есть. Но «Макарова» в руках держать приходилось. А как же ты думаешь деньги достаются…
– Ах ты, мой рыцарь! – вдруг расцвела и прислонилась она к нему. – Не надо, Димочка, никого убивать, черт с ними, пусть живут!
– Ах, Наташенька! – горячо, с облегчением заговорил он. – Ты же видишь, я не всегда могу быть рядом с тобой, так что будь осторожна, прошу тебя! Ты даже не представляешь, на что способны эти люди – какие там люди – звери, которых с каждым днем становится здесь все больше! Как ты думаешь, кто уймет, обуздает, приструнит этих ублюдков? Никто! Ты считаешь, это у меня вроде каприза – уехать из страны. А мне за тебя страшно! Я не хочу, чтобы ты и наши дети жили здесь! Не хо-чу! К сожалению, ты ничего не замечаешь, кроме своих имущественных споров, а ведь на нас давно уже весь мир показывает пальцем: компьютеризованный феодализм! В России хорошо только тем, кто лишен культуры, тем, кому невдомек, что кроме секса есть знания, практика, духовный опыт!
– Димочка, Димочка, успокойся, пожалуйста, успокойся! – погладила она его по голове. – Спасибо, конечно, что волнуешься за меня…
– И за наших детей!
– …И за наших детей, – согласилась она.
«А ведь он сегодня произвел на меня впечатление! – думала она, лежа в тот вечер у него в объятиях. – Как мало еще, оказывается, я о нем знаю! Господи, побольше бы таких открытий!»
…Поверив обещанному на праздники теплу, они впервые отправились обживать его загородные владения. Ее не покидало девчоночье любопытство. Сидя рядом с ним в машине она говорила:
– Ты ведь знаешь – у меня был дом под Зеленогорском, но я его продала пять лет назад. Интересно, похож ли твой дом на тот…
Ей и вправду было интересно: каким замысловатым зигзагом возвращается она в те места, которые, как она считала, покинула навсегда!
– А у тебя есть второй этаж? А балкон на юг? А оттуда виден залив? А сосны на участке есть? А сколько? – волновалась она.
Приехав, он открыл ворота и запустил ее на участок. Приглядевшись, она отметила непритязательную солидность строения. Больше похожий на крепость, дом был родом из ранней эпохи освоения оставшихся без присмотра пространств, когда строили быстро и без всякой заботы об изяществе. Уловив скептическую тень на ее лице, он сказал:
– Знаешь, я купил его не для того, чтобы здесь жить, а чтобы вложиться в недвижимость. И даже в таком виде цена на него только растет, и растет хорошо. Но если захочешь, мы все здесь переделаем или купим дом в другом месте. В Испании, например…
– Хорошо, Димочка, хорошо! Пойдем, посмотрим, что внутри…
Внутри все оказалось очень даже неплохо. Ей понравились гостиная и кухня. Жил в них неприхотливый стильный уют охотничьего домика, добродушный и гостеприимный.
– Это и есть моя берлога, – ткнул он в сторону камина. – Здесь я и спасался от тоски…
– Что ж, теперь я понимаю, почему ты позвонил только на пятый день! – улыбнулась она. – Мне бы здесь тоже понравилось спасаться!
В ответ он привлек ее к себе и поцеловал.
– Ну, хорошо, показывай дальше! – освободилась она.
А дальше была спальная комната. Он толкнул дверь, она вошла и ахнула: спальная была обставлена и выглядела так же, как у нее! Та же широкая, густого серого цвета кровать, перламутровое трюмо с маленьким стульчиком на гнутых ножках, два приземистых витиеватой работы кресла, украшенных вертикальным чередованием зеленых и золотых полос, стройный комод высотой ей по пояс, два ночных столика, недовольные тем, что их тусклые полированные лица скрыты журналами, и часы на одном из них. Правдоподобие добавляли занавески, которые день окрасил уверенной голубой акварелью и то же бежевое с бахромой покрывало на кровати.
– Димочка, когда же ты успел? – не скрывая растерянности, только и смогла спросить она.
– Я подумал, что тебе это понравится… – скромно ответил он.
– Мне нравится! Мне ужасно нравится! – опомнившись, бросилась она ему на шею. – Ах ты, господи! А я уже было собралась менять в спальной мебель!
– Ну вот, значит я поторопился… – огорчился он.
– Нет, нет, ты все сделал правильно! Это же теперь НАША спальная!
«Да что тут такого? – вмешался вдруг в ее восторг вредный голос. – Деньги есть, время есть! Подумаешь, сюрприз!»
«Прочь! Прочь!» – затопала она ногами.
– Димочка, ты не перестаешь меня удивлять! – не сдержалась она.
– Это хорошо или плохо?
– Конечно, хорошо! – пошла она к окну, чтобы взглянуть на вид, что скрывался за занавеской. – А что мы будем делать, если вдруг придется поставить тебя в угол? – возвращаясь к нему и обнимая его за шею, лукаво спросила она.
– В моем кабинете есть диван…
– Вот и прекрасно! А пока иди ко мне… – шепнула она и припала к его губам.
…Вдали возник и вырос густой ровный бас вертолета.
– Си бемоль… – пробормотала она с его груди.
– Что – си бемоль? – не понял он.
– Что-то там летит и тянет за собой си бемоль… На полтона выше, чем у камертона…
17
Она и в самом деле задумала поменять обстановку спальной, неожиданная телепортация которой в загородный дом жениха лишь усугубила ее намерение.
Желание это возникло у нее неделю назад. Она проснулась и лежала, глядя на его стриженый затылок, в чьей редкой стерне прятались сладкие остатки одеколона, на одеяло, опекавшее поджатые ноги и через отставленный зад восходящее на вздернутое плечо. Она никогда не видела его спящим на спине, с раскинутыми по-богатырски руками, открытым ртом и неспокойным лицом, как спал Володя. Напротив, ее нынешний жених спал к ней спиной, тихо и неслышно, словно опасаясь разбудить лихие мысли – ее ли, свои ли. Вот тут она и спохватилась:
«Боже мой! Ведь он спит на той же кровати и на том же месте, что и Феноменко, и даже не подозревает о тех пятнах на матраце, которые тот после себя оставил!»
Какой ужас! И почему она не подумала об этом раньше? Неужели она ничем не отличается от шлюхи, которая принимает своих клиентов в одной и той же постели?! Нет, нет, мебель надо срочно поменять, как перед этим халат и одеяло: ведь она – неудобная свидетельница ее грязной сделки с покладистой совестью!
И вдруг вся ее взрослая жизнь слилась в ее голове в плотное месиво постельных сцен – от законных, утомительных совокуплений в браке, через жаркие, самозабвенные слияния с Володей, до плановых, равнодушных случек с Феноменко. Укоризненное месиво набухло и лопнуло, обдав ее брызгами смятения:
«Господи, да как он может меня любить?! Ведь на мне, как на похотливой сучке клейма негде ставить! И я еще выкобениваюсь – не люблю, но, может, полюблю! Дура, неисправимая дура!..»
Стыд был так велик, что ей вдруг захотелось спрятаться у него на груди и тихо лежать, прикасаясь губами к его распаренной сном коже и утопая в виноватой признательности. Подчиняясь внезапному порыву, она разбудила его и горячо прильнула, желая неудобной до сих пор нежностью затопить пересохшее, каменистое русло своего невнимания. И кто знает, в чем бы она ему призналась, если бы он правильно понял ее ласку. Нет, конечно, не в любви, нет! Скорее всего, она бы без всякого видимого повода, против всяких правил, ни с того, ни с сего, неожиданно для него и для себя сказала бы:
«Ах, Димочка, какой ты у меня хороший! Ты не представляешь, как мне хорошо с тобой, и как хорошо, что ты меня любишь!»
И эта ее похвала, оказавшаяся у нее на языке раньше других слов и мыслей, выглядела бы как сигнал трубача перед объявлением глашатаем важной новости. Но чуткость на сей раз изменила ему, и он, приняв ее порыв за внезапное желание, кинулся навстречу ее воображаемому вожделению, жадной услужливостью утверждая истинность ложного пути.