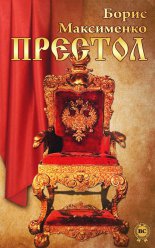Фанни Каплан. Страстная интриганка серебряного века Седов Геннадий

Ее будил на рассвете петушиный задавленный крик за стеной мазанки. Сладко потягиваясь, с закрытыми глазами, она опускала ноги на прохладный земляной пол, бежала босиком к окну, толкала тяжелую решетчатую ставню.
Снаружи было сумеречно, стлался по земле пушистый туман. У распахнутых ворот толпились едва различимые овцы, выгоняемые работником-татарчонком.
Она шла к лежанке, толкала раскинувшегося нагишом на постели Виктора — он мычал, подтягивал ноги к животу, отворачивался к стенке.
Короткое время спустя они бежали с полотенцами к морю. Туман мало-помалу рассеивался, светлело. По берегу бродили ранние пташки — любители утренних купаний. Поеживались на свежем ветерке, махали руками, трусили рысцой по кромке пляжа, хрустя ракушками.
— Дора, Виктор! — доносилось за спиной.
На веранде волошинского дома Елена Оттабальдовна с гирями в руках делала зарядку.
— Вечером вы у нас! Не забыли? От Макса есть письмо из Берлина, кланяется вам обоим!
— Спасибо, будем!
Она стояла, замерев, у кромки воды, трогала пальцами ног скользкую гальку. Зябко, боязно прыгнуть.
— Витька!..
Толчок в спину, она летела в воду, сжималась от охватившего ее с головы до пят невыносимого холода. Плыла, отфыркиваясь, грозила в сторону берега кулачком. Останавливалась, раскинув руки, качалась невесомо на волнах. Не думалось ни о чем: безмятежный покой, плеск волны, улетание на легких крыльях сквозь солнечное мерцание — далеко-далеко.
Наплававшись, погревшись на скупом утреннем солнышке, они шли домой. Она впереди, покачивая задком, Витя следом.
— Кобылка, — хлопал он ее догоняя по попке.
Она уворачивалась:
— Витя, перестаньте!
Во дворе дома, под пыльной акацией старшая жена хозяина Фатима накрывала им завтрак на деревянной курпаче. Каждый день — простокваша, овечий сыр, яйца вкрутую с синеватыми желтками, горячий лаваш, приторно-сладкий, густой, как патока, черный кофе в граненых стаканчиках.
День разгорался, снаружи припекало. Витя уходил с удочками порыбачить (копал каждый день мерзких червей за овечьим газоном, держал в консервной банке — не поймал пока ни рыбешки).
Она пристраивалась под навесом с книжкой из библиотеки Макса. Снова Пушкин, «Капитанская дочка». Читала не торопясь, останавливалась, думала. Чудно, люди, оказывается, восставали против богатых вон еще в какие времена! При царице Екатерине!
Пугачев ей нравился: смелый, справедливый, настоящий революционер. Казнил врагов трудового народа без колебаний, а Машу с Гриневым пощадил. Какая у них необыкновенная была любовь — несмотря ни на что! Похожа на их с Витей…
— Дора-ханум! — окликали ее.
Младшая жена хозяина Айджамал. Кончила вывешивать на плетне штаны и рубаху Бейтуллы, идет в ее сторону. Не старше ее, а второй уже раз на сносях (первенец, годовалый мальчик с головкой-тыквочкой плачет по ночам в люльке: мается животиком).
— Хочешь, волосы помою хной? — присаживается рядом. Темнолицая, в платке, с густо насурьмленными бровями. — Будут как шелк.
— Хорошо, только вечером, — соглашается она.
— Вечером не получится. — Айдмажал хитро улыбается. — Муж вернется…
Теребит за плечи, звонко смеется. Рассказывает простодушно о стыдных вещах, выпытывает подробности их с Витей отношений.
Бейтулла привез ее из деревни под Бахчисараем, купил у отца и матери за два десятка баранов. Старшая жена ее не любит, говорит Айджамал, говорит, что она лентяйка, не умеет готовить.
— А у самой чебуреки в рот не возьмешь. То недосолит, то пересолит.
Ее подмывало спросить Виктора: как можно жить с двумя женами? Он бы мог?
Решилась однажды. Они плыли в ялике к Карадагу, он сидел на веслах — голый по пояс, с выцветшей на солнце шевелюрой. Греб уверенно, сильно — она засмотрелась на него: красивый, душка! Ее, единственный…
— Чего глядишь?
Они вплывали в прохладный сумеречный грот между скалами в середине бухты. Лодку покачивало, поднимало вверх к иззубренным, сочащимся влагой сводам.
— Красотища, а!
Виктор вращал веслами, пытаясь удержать ялик на месте.
— Витя, вы могли бы, как наш хозяин, иметь двух жен? — обронила как бы между прочим.
— Запросто. Даже трех.
— Я серьезно.
— И я серьезно. Одна на праздники, одна на будни, третья про запас.
Зачерпнул ладонью воду, брызнул, захохотал.
— Витя, давайте останемся! — вырвалось у нее неожиданно.
— Не понял.
— Останемся в Коктебеле, — она пересела к нему поближе. — Дом построим, будем жить как все.
— Ясно. Я феску с кисточкой на башку напялю, ичиги с калошами. Бузу буду пить в духане, в нарды играть.
— Ну почему в нарды! Живут же тут русские — Елена Оттобальдовна, Макс?
— Елена Оттобальдовна, Макс! — передразнил он. — Нашла компанию! Слыхала их разговоры? «Жизнь — сон, мы над схваткой». Сволочь интеллигентская! Им бы только жрать, пить, стишки читать и фокусничать друг перед дружкой! Остальное — трын-трава. Сегодня тут, завтра в Париже, послезавтра в Берлине. Что ты в них нашла, не понимаю? Из-за конспирации ведь только приятельствуем. Моя бы воля, взорвал к чертям собачьим эту шарашку!
— Витя, послушайте!
— И слушать не хочу!
Он развернул лодку, насел на весла, погнал что есть сил к берегу.
У них с Максом до того, как тот уехал, вышел спор. О России, ее судьбе. На дачу они пришли по записке Елены Оттобальдовны, принесенной соседом: «Ждем в три пополудни. Без галстуков и корсетов». Сидели на веранде, в креслах: они с Витей и Макс. Через открытую дверь слышались голоса, звуки граммофона, прокуренный басок Елены Оттобальдовны. Затевался обед в честь какой-то гостьи из Петербурга, готовившей собравшимся сеанс столоверчения с вызовом духа лорда Байрона.
— Вы знаете, что у вас французская фамилия, Зельман? — говорил Макс. — Во Франции я встречал много людей с такой фамилией.
— У нас в Молдавии много Тома. — Витя сдирал машинально кожурку с обгоревшего носа. — Никто не думает, что французы их родственники.
— Да, Россия — вавилонский корабль, — продолжал говорить Макс. — Матушка моя, к примеру, со стороны отца праправнучка выходца из Германии, служившего лейб-медиком у императрицы Анны Иоанновны, у отца украинские корни. Все мы — неперебродившее варево из множества кровей. Славяне, северные и южные, саки, массагеты, татары, скандинавы. Горячая эта лава бушует в нас, как в чреве вулкана, рвет на части, тянет в собственную сторону, насилует нашу русскую сущность.
— Насилует? — протянул Виктор. — Это как же понимать?
— Буквально, Зельма. — Макс покачивал в воздухе ногой с потрескавшимися пятками. — Как пьяный мужик насилует бабу на сеновале. У России, мой друг, женская сущность, причем жертвенная — мы поддаемся насильникам. Ради спасения мира, цивилизации, европейской культуры принимаем на себя адовы смертные муки. Это, если хотите, наша болезнь, внутреннее зло. Как если бы Спаситель дал осудить себя не на Голгофу, а на заражение дурной болезнью. И страдал бы ею века — на виду у всех спасенных.
— Мудрено выражаетесь. — Виктор глядел на него с неприязнью. — Скажите, Максимилиан Александрович, вас кроме этой белиберды что-нибудь еще интересует? Слыхали о девятом января в столице? Как царь-батюшка беззащитных людей расстреливал?
— Не только слыхал, но и видел, представьте. Своими глазами. Я был в тот день в Петербурге.
— И что?
— Это было подло, омерзительно. Как подло, кстати (покосился почему-то в ее сторону), стрелять в полицейских, охраняющих наш покой, бросать бомбы в окна людей только потому, что они хорошо живут. Одеваются по моде, слушают музыку, ходят в театры. Зло, Зельма, и там и тут. Вот почему я ни на той ни на другой стороне. Понимаете? Сам по себе, Максимилиан Волошин. Близкий всем, всему чужой.
— Макс, к тебе пришли, — выглянула из-за шторы Елена Оттобальдовна. — Проходите! — пропустила на веранду троих мужчин в рабочей одежде, почтительно прижимавших к груди соломенные шляпы.
— Милости прошу! — явно обрадовался их приходу Макс. — Вы, по-моему, из болгарского поселка, так? Минутку, я сейчас принесу кресла…
— Мы на минуту, господин, — встал у него на пути крепко сбитый болгарин в вышитой рубахе, подвязанной ремешком. — У нас до вас просьба.
— Да, да, слушаю.
— Вы, это самое… ходите каждый день мимо нас, картинки рисуете на берегу. Дозвольте попросить…
Оглянулся на товарищей: те кивнули головами.
— Надевайте, если можно, под балахон штаны. Дочери наши и жены шибко конфузятся…
Пошел, надевая шляпу, к выходу, остальные за ним.
С веранды несся им вслед гомерический хохот Макса.
1905 год: газетная хроника
«Новости дня»:
МОСКВА. «Вчера в Марьиной Роще произошло ужасное побоище. К находящимся здесь фабрикам подошла из Москвы толпа, человек в 500 забастовавших фабричных, с требованием прекращения работы. Рабочие Марьиной Рощи, подготовленные к этому, вооружились ломами, кольями, ножами и т. п. оружием и напали на пришельцев. К нападавшим присоединились обыватели Марьиной Рощи и черносотенцы, — произошла ужасная свалка. Вскоре сюда прискакали казаки и, действуя нагайками и шашками, стали разгонять рабочих-москвичей. В результате оказалось около 30 человек тяжко раненых».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТЕЛЕФОН (ОТ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ). «Сегодня в 10 часов вечера у технологического института в разъезд казаков брошена бомба. При взрыве пострадало несколько казаков, получивших тяжелые раны».
АСТРАХАНЬ. «Сегодня прекратили занятия ученики старших классов гимназии, реального училища и семинарии, предъявив требование об уничтожении кондуитных списков, внеклассного надзора и обязательного посещения гимназической церкви».
МОСКВА. «Забастовала все время работавшая Николаевская железная дорога. Министр путей сообщения кн. Хилков и начальник Главного управления железных дорог инженер Шауфс лишены возможности выехать из Москвы. На Московско-Брестской, Рязанско-Уральской, Киево-Воронежской и Московско-Ярославской забастовки продолжаются».
МОСКВА. «Вчера в начале 2-го часа дня, на Чистопрудном бульваре состоялась грандиозная сходка рабочих, преимущественно железнодорожных. Разбившись на громадные толпы, рабочие слушали ораторов, говоривших о необходимости держаться возможно дольше для того, чтобы добиться удовлетворения предъявленных рабочими требований. Столкновений на бульваре не было. 30 сентября в течение всего дня дворники обходили домовладельцев и квартиронанимателей с предупреждением о том, чтобы они запасались водой на возможно долгий срок, так как нынешней ночью ожидается прекращение действия водопровода вследствие начинающейся забастовки рабочих».
Санкт-Петербург. «Забастовка железнодорожных служащих. Утром из Петербурга прибыл в Москву пассажирский поезд № 13, затем из Лихославля пассажирский поезд № 31, застрявшие в пути. Скорый и курьерский поезда, дойдя до ст. «Тверь» были возвращены обратно в Петербург. Николаевский вокзал охраняется войсками».
«Биржевые ведомости»:
МОСКВА. «Цены на жизненные припасы растут с каждым часом. Сегодня мясо поднялось в цене до 60 коп. за фунт. По Москве ходят упорные слухи, что сегодня вечером забастуют рабочие городской электрической станции. Вчера вечером группа бастующих фармацевтов в 50 чел. обходила все аптеки и принуждала прекратить работу. Из всех аптек фармацевты ушли. Остались только хозяева; публике отказывают в лекарстве; некоторые аптеки совсем закрылись».
МОСКВА. «В Москве сегодня вышли только две газеты: «Русский листок» и «Московский листок». «Вечерние известия» не выходят. Третьего дня около 12 часов ночи к типографии «Вечерних известий» явилась возмущенная толпа рабочих-типографщиков и потребовала закрытия газеты».
МОСКВА, ТЕЛЕГРАММЫ «БИРЖЕВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ».
«Из уездов Московской губернии приходят тревожные сведения о том, что и там началось брожение среди рабочих. Получено известие, что в Подольске забастовала фабрика Зингера и несколько фабрик в окрестностях Серпухова. По распоряжению административной власти сегодня в Орехово-Зуево отправлены две сотни казаков. Как говорят, в Орехове-Зуеве началась общая забастовка. Ходят упорные слухи, что там же вспыхнули беспорядки. В Москве в течение сегодняшнего дня беспорядки главным образом носили разрозненный характер: в различных местах собирались небольшие группы в 30–40 человек, которые разгонялись местными полицейскими нарядами. Наиболее серьезным столкновением, потребовавшим вмешательства войск, явилась встреча демонстрировавшей толпы с полицией на Воздвиженке. Здесь произошла усиленная перестрелка, во время которой были ранены два казака. Из толпы ранено несколько человек, но число их не зарегистрировано, так как большинство раненых было увезено по домам. Во всех типографиях по-прежнему забастовка; производятся только частные работы в типографии Левенсона в отделении театральных афиш. Работают исключительно женщины под охраной роты солдат. Московский забастовочный комитет выдает ежедневно забастовавшим рабочим, обремененным семейством, по 1 фунту крупы, осьмушке картофеля, чаю, сахару. Мясо выдается через день. Кроме того, выдаются квартирные по 6 рублей в месяц. Холостые получают несколько меньше».
САРАТОВ, 18 СЕНТЯБРЯ. «Сегодня в Покровскую воскресную школу во время совершения молебна перед началом занятий ворвалась толпа молодежи, человек в сто, и начала петь революционные песни. Богослужение было прервано. Полиция экстренно вытребовала казаков, которыми толпа была рассеяна. Несколько зачинщиков арестовано».
«Правительственный вестник»:
Высочайший Манифест
«БОЖЬЕЙ МИЛОСТИЮ, МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКИЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, и прочая, и прочая, и прочая.
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным и печаль народная Его печаль. От волнений ныне возникших может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей.
Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга. Мы для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер признали необходимым объединить деятельность высшего правительства. На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли.
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в меру возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.
День в Петергофе в 17 день октября в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое Царствования же Нашего одиннадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано
НИКОЛАЙ».
Дома
— Майнэ клейнэ тохтерл! (Моя маленькая доченька!) — нежные руки матери гладили ее по голове. — Майнэ глик! (Мое счастье!) Их об гетрахт фон дир йейдн туг! (Я думала о тебе каждый день!)
В пропахшем человеческими испарениями сарае на заднем дворе синагоги — вповалку люди. Скупой свет декабрьского дня из единственного окошка, надрывный кашель, плачь детей.
Они с возницей долго плутали среди развалин, прежде чем обнаружили убежище, в котором ютились спасшиеся после погрома евреи Хотиновки.
Штетл было не узнать: зияющие провалы на месте выбитых ставен, поваленные заборы, догорающие остатки домашней утвари во дворах. Мимо базарных рядов с разбитыми лотками бричка катила по горам семечек и крупы, рассыпанной муке, разбитым бутылям с разлитым подсолнечным маслом. В грязном снегу возле сожженной мясной лавки Эльякима лохматая собака грызла, озираясь по сторонам, воловью тушу с вываленными кишками.
Есаул казачьего патруля, жегшего костры на Базарной улице, указал им плеткой на синагогу:
— Там, барышня, все ваши. Которые уцелели.
Родители и сестренка, слава богу, спаслись. Убежали загодя на огородную делянку под косогором, залезли в выгребную яму с остатками мерзлого навоза, укрылись рваной рогожей, старались не дышать. Слышали рев толпы, выстрелы, крики избиваемых людей.
— Молились всевышнему. Думали, не выживем…
От рук погромщиков погибли девятнадцать хотиновцев. Соседка Кейла, бывшая на восьмом месяце беременности, мясник Эльяким с сыном Шмуэлем (господи, был влюблен в нее, звал замуж!), младший из братьев Ханелисов, защищавший в составе отряда самообороны подступы к синагоге, где укрывалось большинство евреев штетла.
Хоронили убитых лишь спустя несколько дней — в синагоге не оказалось достаточного количества полотна для саванов. Ждали с часу на час посланного в Житомир Нехамью. Вернулся он к сроку, вдребезги пьяный, но полотно привез.
Она стояла, сжавши губы, на кладбище возле уложенных в ряд земляков. В четырех полотняных белых кулях были дети, одному из них, сынишке шорника Михи, только что исполнился годик. Раввин, заглядывая в книжку, читал нараспев каддиш, она повторяла вместе со всеми в конце каждой фразы: «Амен!» Неслись над головой лохматые тучи, дул холодный ветер в спину, заметал в отрытые могилы снежную крупу.
У нее были сухими глаза: столько всего пришлось пережить за последнее время — заледенела душа.
Из Коктебеля они возвращались с ощущением надвигавшейся беды. По взбаламученной, расхлыстанной стране прокатилась первая волна еврейских погромов. Опомнившиеся от пережитого страха рабочих выступлений темные силы общества, униженные капитулянтским манифестом монарха, пошедшего на уступки смутьянам, вымещали злобу на главных, как они считали, зачинщиках беспорядков, дьявольском племени нехристей, стремящемся к установлению господства в православной матушке России.
Словно разверзлись по чьей-то злой воле небеса, пролили на головы иудеев копившуюся в человеческих душах ненависть. Десятки городов империи — Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверь, Кострома, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Саратов, сотни деревенек и местечек — оказались во власти бесчинствующих толп черносотенцев. Горели дома, еврейские лавки и магазины. Беснующиеся толпы монархистов-охранителей, люмпены, хулиганствующие подростки врывались в жилища, рушили мебель, домашнюю утварь, тащили из сундуков приглянувшиеся вещи. Выволакивали за волосы из квартир, чердаков, погребов насмерть перепуганных людей, били кольями, дубинами: «Получайте, собаки! За все!»
Приплыли они на рейсовом пароходе в Одессу в конце ноября и разом угодили в ад. Город был во власти черной сотни. По улицам двигались толпы народа с трехцветными бантиками на зипунах и тулупах, слышалось нестройное пение, пьяные выкрики. Вышагивавшие впереди седые старики с непокрытыми головами несли на связанных полотенцах царский поясной портрет, кричали стоявшим на балконах обывателям:
— Православные люди, выставляйте иконы!
Встречных с интеллигентскими лицами, гимназистов, учащихся тащили с тротуаров, избивали, пинали на земле ногами. Слышались выкрики: «Бейте, душите жидов, как в Кишиневе!» «Россия падает, а жиды подымаются!»
Полиции не было видно, стоявшие возле своих будок редкие городовые демонстративно крестились ввиду манифестантов, брали под козырек.
Вечером на улицах, примыкавших к Привозу и Фонтанам, начались погромы. Кучки чернорабочих, портовые босяки, хулиганствующие подростки кидали камни в витрины лавок и магазинов, принадлежащих евреям, выламывали двери, тащили мешки с крупой, связки баранок, банки с консервами, бунты мануфактуры. Ближе к ночи, когда погромщики добрались до винных погребов, шабаш обрел новый размах. Нападению подверглись дома зажиточных евреев Аркадии, лачуги бедняков Молдованки и Пересыпи, синагога на Ришельевской. Росло час от часу число пострадавших, количество убитых и раненых перевалило за сотню.
Заседавший круглые сутки на конспиративной квартире штаб анархистов-хлебовольцев постановил: организация выходит из подполья, объявляет открытый всеобъемлющий террор. Смычки с еврейскими отрядами самообороны не будет, в сложившейся обстановке анархисты будут выполнять собственную программу безмотивной борьбы с буржуазной сволочью и ее охранителями.
В Треугольном переулке круглые сутки шло вооружение добровольцев, начинялись гремучей смесью бомбы и гранаты. Чтобы не заснуть на рабочем месте, пили убойный чифирь, выходили на задний двор — утереться снегом. Первый ответный удар вражьей стае был нанесен 6 декабря, в день всероссийского праздника тезоименитства ненавистного Николашки. В середине дня, когда на Соборной площади собрались толпы верноподданных горожан, ожидавших начала торжества, в строй солдат и казаков, оцепивших площадь, полетели первые бомбы. Было убито шестнадцать охранников, погиб разорвавшимся в руках снарядом бомбист Яков Брейтман. Семнадцатого декабря боевой отряд из шести человек, возглавляемый Ольгой Таратутой и ее мужем Станиславом, взорвал кофейню Либмана на Екатерининской. Жуткой силы взрыв из пяти бомб (шестая не взорвалась) в центре Одессы разорвал на куски и тяжело ранил несколько десятков посетителей кафе и находившихся неподалеку горожан, в числе которых оказался хозяин расположенного рядом магазина «Бомзе», который недавно отказался давать на нужды организации деньги.
Вылазки анархистов подлили масла в огонь — еврейский погром в Одессе разгорелся с новой силой. На глазах беспомощных властей, втайне сочувствовавших погромщикам, налитые водкой люмпены и хулиганы врывались в еврейские дома, находили охваченных ужасом людей, прятавшихся на чердаках и в подвалах, били привязанными на веревках гирями, дубинами, лопатами. Убивали детей, насиловали женщин…
…Она стояла у могил односельчан — искушенная, рано повзрослевшая в свои неполных шестнадцать лет. Женщина-дитя с израненной душой.
В собственной ее жизни тоже был погром. Витя путался без стеснения с привозской торговкой, помогавшей доставлять в бомбовую мастерскую привозимый морем динамит, по нескольку дней не ночевал дома. Она жила как в аду, готова была наложить на себя руки. Торговку, украинку по национальности, не успевшую вывесить на двери мазанки икону, убили по ошибке погромщики. Витя пришел вечером пьяный, валялся в ногах, говорил, что любит, клялся и божился, что ничего с покойной у него не было.
Глядя на мать в белом траурном платке, она думала в смятении: ехать с родителями в Америку? Остаться? Накануне Рош а шана Нехамья привез из Житомира цветную открытку, присланную из Калифорнии перебравшимися год назад за океан старшими братьями: нарядно одетые мужчины и женщины на одном берегу протягивают руки к стоящим на противоположной стороне евреям с котомками и мешками. Братья, купившие в Калифорнии на деньги американских дарителей сотню акров земли для выращивания кукурузы и сорго, советовали не медлить с отъездом. Писали, что устроились хорошо, строят дом — места для всех хватит.
Родители готовы были покинуть штетл хоть сегодня, семьи двух замужних старших сестер сидели на чемоданах, ждали только перевода денег из Америки на проезд.
Мать ходила по соседям, предлагала на продажу сохранившийся после погрома домашний скарб, кур-несушек с петухом, чудом уцелевшую козу. Муж убитой соседки Йехезкель согласился забрать Милочку.
Собака чувствовала разлуку: не отпускала их ни на шаг, повизгивала, нервно дрожала, стоило взять ее на руки. Не было сил выдержать несчастный ее, умоляющий взгляд.
Американские деньги пришли в феврале — двадцать пять долларов: немыслимое богатство! Десятого февраля ей исполнилось шестнадцать. Родители устроили вечером небольшое торжество. Пригласили главного раввина синагоги Азриэля, Эльякима с женой, Йехезкеля, приятеля отца Ханоха. В конце вечера, когда она получила скромные подарки, гости выпили вина, отведали мамин гефилте фиш, на пороге появился Нехамья со стеклянными бусами в руке. Пришлось достать из шкафа еще бутылку, положить в тарелку незваного гостя кусок фаршированной рыбы и остатки винегрета, прокричать еще раз «Лехаим!»
Вечером, лежа за ширмой в обнимку с сестренкой, она решила: «Еду! Хуже все равно не будет»…
В день отъезда было ветрено, сыпал снег. Приехавший с подводой Нехамья не вязал лыка, путался под ногами, перекладывал с места на место вещи, ронял на землю. Сидя наверху с Леей, тепло одетые, они целовали, обливаясь слезами, рвавшуюся из рук Йехезкеля Милочку.
— Господи, помоги нам грешным! — шептала рядом мать.
— Нно-о, кобылка! — взмахнул кнутом Нехамья.
Они накрылись с головой рогожей — телега, поскрипывая, выезжала за ворота.
На протяжении всего пути она была в смятении. Хотелось, чтобы что-то случилось: дорогу завалило снегом, и она стала непроезжей, кто-то внезапно заболел, сломалось колесо. Спросила у отца: хватит на всех денег на билеты? На поезд, пароход?
— Хватит, дочка, — отец держал на коленях Тору, пробовал читать. — Если все будет, как мы подсчитали, поплывем в Америку третьим классом. В нормальных условиях…
Поезда на Варшаву прождали на житомирском вокзале двое суток. Спали на баулах в переполненном зале ожидания, ели вареную картошку с черствым хлебом, выстаивали длинные очереди в уборную в полутемном коридоре. Большая часть отъезжавших были такие же беженцы-евреи, как они, пережившие погромы. Уезжали за океан в поисках призрачного счастья, уголка на земле, где не будут притеснять, убивать за веру. Делились планами на будущее, зачитывали письма от родных, перебравшихся в Америку. Кто-то сумел устроиться в sweat-shop (швейную мастерскую) за два доллара в неделю, кто-то на фабрику, на завод, кто-то занимался мелкой торговлей на улице, стал клерком в гостинице, кто-то работы не нашел, жил на пособие, учил английский.
Утром, разбитая, невыспавшаяся, она вышла на перрон подышать воздухом. Пошла вдоль путей в сторону водокачки. Встречный ветер холодил лицо, гнал вдоль рельсов угольную пыль.
Торопливые шаги за спиной заставили ее обернуться.
Виктор!
Полушубок нараспашку, воспаленные глаза.
— Здорово, беглянка!
От него пахло спиртным.
— Драпаешь? Революционерка!
— Уезжаю, — она стояла к нему боком. — Вам что за дело?
— Что за дело? Ах ты, птичка! Клятву давала, а теперь, значит, — тю-тю, да? Не-е выйдет! У нас со штрейкбрехерами разговор короткий.
— Убьете? — ее охватила ярость. — Ну, давайте, стреляйте!
Стала расстегивать на шее шерстяной салопчик, рвала крючки.
— Стреляйте! Ну! Вы же ничего больше не умеете делать!
Он отошел в сторону, сел на шпалу, обхватил голову руками.
— Фейга! — выдохнул. — Как ты могла?
— Что могла?
— Уехать. Не сказавши ни слова.
— А то вы не знаете.
— Да не было у меня ничего с этой торговкой, я же говорил. Хочешь, памятью матери поклянусь?.. Иди сюда, — повернул голову. — Поговорим.
Она стояла не шевелясь, смотрела исподлобья.
Похудел, осунулся. Без шапки.
— Да сядь ты! Не съем.
Она присела осторожно на рельсу.
— Как вы меня нашли?
— Через полицию. У нас в сыскной части свой человек. На жаловании, в общем. Сообщил. В деревне, мол, у родственников. Ты у них на учете, под наблюдением. Ни в какую Америку бы не попала — у них договоренность с прусской таможней. Арестовали бы на границе, передали нашей охранке.
Взял за руку.
— Скучала?
— Скучала.
— А я-то как скучал!
Обхватил за талию, стал целовать — глаза, лоб, губы.
— Места себе не находил, — гладил волосы. — А ты — убивать. Кроленьку свою ненаглядную. Сероглазочку…
Ничего не надо было больше в жизни. Сидеть обнявшись, прятать лицо у него на груди.
— Глянь!
Он достал что-то из-за пазухи, завернутое в тряпицу, протянул.
— Что это, Витя? — развернула она пакетик.
— Читай.
Это был вид на жительство.
«Фейга Хаимовна Каплан», «модистка», «лет девятнадцать», «выдан Речицким городским старостою Минской губернии», «бессрочный», — пробегала она торопливо взглядом по казенной бумаге… Подписи лиловыми чернилами, печати…
— Товарищ из эсеровской партии передала, — взял он у нее из рук бумагу. — Свой, собственный. Никакая полиция не прицепится. Про фамилию Ройтман забудь, она у любого филера записана в книжечке… Эх, Фейга! — засмеялся счастливо. — Мы с тобой такие дела теперь закрутим вдвоем! Вся Россия заговорит! У меня задумка… после расскажу. В общем, едем в Киев. Столица губернии, большое начальство, генералы на каждом шагу. Устроим гадам представление, запалим огонек! — У него по-волчьи блестели глаза. — Кровью умоются!
Он остался курить на перроне, она вошла в зал, пробралась через горы мешков и баулов к своему углу.
Отец и сестренка спали, уронив на плечи друг друга головы, мать вязала. Подняла на нее взгляд: печаль и покорность в глазах, безграничная усталость.
— Что-то случилось, дочка?
— Я не еду, мама!
Она присела на краешек скамьи.
— Приехал мой товарищ, сообщил: меня не пустят через границу, арестуют.
— Погоди… — мать уронила моток с колен. — Арестуют, за что? Что ты такое наделала?
— Мама, не сейчас. Я вам напишу… потом! Скажите папе…
У нее перехватило горло. Вскочила рывком, побежала к выходу.
— Вещи! — услыхала за спиной.
Она махнула, не оборачиваясь, рукой, выбежала за порог.
Киев
— Вот он! — прошептал он ей на ухо. — По правую руку…
Она осторожно повернула голову.
В позолоченную ложу возле сцены входили старик в военном мундире с лысым черепом и высокая дама с красивой прической.
В зале захлопали, публика вставала с места.
«Сухомлинов! — слышалось. — С новой пассией».
«Да повенчались они уже! Сам читал в «Биржовке».
«Увел-таки от мужа! Ай да генерал!»
Вошедшие, раскланявшись по сторонам, уселись у бархатного бордюра, развернули программки.
Прозвучал третий звонок, по проходу пробежало несколько опоздавших, над головой стала меркнуть хрустальная люстра. Зал взорвался аплодисментами: из-за раздвинувшегося занавеса вышла Вяльцева.
В Житомире, работая у мадам Рубинчик, она услышала впервые от Людмилы о певице, по которой сходила с ума вся Россия. Волшебный голос, красавица, денег куры не клюют. Поклонников — тьма, на дуэлях стреляются. «Вот смотри!» — Людмила тащила из сундучка пачку раскрашенных открыток. Раскладывала бережно на коленях, целовала: «Душка! В горничных ведь ходила, как мы. А теперь, говорят, сам царь ее пластинки слушает».
На концерт в Троицкий народный дом они пришли не из-за Вяльцевой: целью их был увешанный звездами лысый генерал в директорской ложе. Витя по приезде в Киев выбрал, посовещавшись с местными товарищами, именно его для совершения акта революционного возмездия. Царский любимец, генерал-губернатор, командующий военным округом. Подходит по всем статьям.
«Тянем резину! — говорил с раздражением. — Посмотри, как эсеры развернулись. О Спиридоновой каждый мальчишка знает. Сестры Измайлович. В высших чинов стреляли. А мы время дорогое теряем».
В Киеве они прочли в газетах: обе сестры участвовали в покушениях на государственных персон. Александра Адольфовна вместе с Ваней Пулиховым — на минского губернатора Курлова, Катя — на усмирителя восстания моряков Черноморского флота адмирала Чухнина. Оба покушения окончились неудачей. Катю по приговору суда расстреляли, Ваню повесили, Александру Адольфовну приговорили к пожизненной каторге…
Несколько месяцев ушло у них на собирание данных. Местопребывание Сухомлинова: дом, служба, места отдыха. Охрана, домашнее окружение, слуги. Все приходилось делать самим: киевская ячейка анархистов была малочисленна, слаба, неорганизованна. Бузили по мелочам, совершали грошовые «эксы» на сотню-другую рублей для текущих нужд. Те еще помощнички.
Золотопогонный генерал был неуловим. Неделями пропадал на полевых учениях, уезжал в Петербург, за границу. Двухэтажная дача с садом на Левобережье была неприступной крепостью, дом на Крещатике охранялся полицией.
Желание исполнить как можно скорее намеченное подхлестнули еврейские погромы девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого октября.
Складывалось впечатление, что киевские черносотенцы неожиданно проснулись: что ж это мы, братцы? Православный народ вокруг жару дает бесовскому племени, а у нас тишь да благодать?
Восемнадцатого октября в городе прошла патриотическая демонстрация. Шедших под полицейской охраной манифестантов, возглавляемых редактором монархистского «Киевлянина» Дмитрием Пихно, сопровождали звон колоколов Троицкой церкви, восторженные крики горожан. Ораторы, потрясавшие кулаками с крылечек домов, требовали выжечь каленым железом еврейскую заразу, устроить вражьей стае, стремящейся установить свои порядки в чужой стране, варфоломеевскую ночь, избавить раз и навсегда матерь русских городов от непрошеных гостей.
Черносотенные агитаторы раздавали на улицах листовки, призывавшие к избиению евреев, распространяли слухи, что городские жиды оскверняют православные храмы, нападают с оружием на христиан, вырезают целые семьи. В полицейские участки на Подоле и Лукьяновке прибегали полуодетые мужчины, женщины с детьми, молили о помощи, клялись, что резня уже началась. Стоило пресечь панические слухи в одном месте, они возникали в другом.
Утром в разных частях Киева начался погром. Шайки громил в несколько сот человек, среди которых было немало подростков, врывались в лавки и магазины, принадлежащие евреям, ломали обстановку, выбрасывали на улицу вещи и товары. Заведения, владельцы которых предусмотрительно вывесили на окнах и в витринах иконы, царские портреты и национальные флаги, погромщики не трогали, шли дальше.