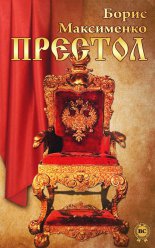Фанни Каплан. Страстная интриганка серебряного века Седов Геннадий

«Из дневника Николая Второго»:
«Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца «Князь Потемкин-Таврический» взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в городе. Просто не верится!»
Телеграмма Николая Второго командующему Одесским военным округом генерал-лейтенанту С.В. Каханову:
«Примите немедленно самые жестокие, решительные меры к подавлению восстания как на «Потемкине», так и среди населения порта. Каждый час промедления может в будущем обернуться потоками крови».
«Голос Одессы»:
«Согласно Высочайшему Указу, Одесса, Одесское градоначальство и Одесский уезд объявляются находящимися с 3 часов ночи 29 июня на военном положении».
— Ай да мы, устроили заварушку! — Виктор пнул носком ботинка ржавую банку на тротуаре. — Жрать хочется, идем перекусим!
— Боязно, Витя. Слышите, стреляют вроде.
— Да елки-палки! Стреляют. Невидаль!
Над Одессой повисли сумерки, тянуло гарью от недавних пожаров со стороны порта.
Они пошли в сторону центра, держались за руки. У фонарного столба он внезапно остановился, сгреб ее в объятия, стал целовать.
— Витя, ну что вы! — слабо отбивалась она. — Ну, будет! Увидят же…
Недавняя их размолвка выветрилась из памяти — он поклялся, что ночевал в ту ночь на Пересыпи, в лодке работавшего с ним по доставке динамита румына-контрабандиста. Рассказывал, как не мог уснуть из-за бродивших вокруг влюбленных парочек, как скрипели и шатались по соседству вытащенные на берег лодки («Туда-сюда, туда-сюда: обхохочешься!»).
Она дала себе слово не изводить его больше по пустякам. Столько любимый человек пережил, столько настрадался! Родился в бедности, как и она, мальчишкой работал у отца в сапожной мастерской. Голодал, связался со шпаной, стал воровать, сбежал с дружком Гришкой Котовским по кличке Заика в Кишинев. Нашел в себе смелость порвать с уголовниками, устроился на работу в швейную мастерскую, учился вечерами, читал умные книги, сблизился с революционерами. С ним иногда тяжело: бывает груб, сквернословит, заигрывает с женщинами. Но не люби он ее, думала, с его внешностью, деньгами, авторитетом среди товарищей, стал бы он с нею возиться, тратить время, чтобы сделать из нее революционного борца? Да ни в жизнь!
— Чего задумалась? Зайдем?
Они стояли перед вывеской на стенке кирпичного дома: «КУХЪМИСТЕРСКАЯ ИЗРАИЛЯ КОХРИХТОВА». Спустились по полутемным ступеням, шагнули за портьеру.
Небольшой зал с эстрадкой для музыкантов, за столиками — мастеровые в рабочей одежде, студенты, матросы, темные какие-то личности в углу. Духота, свет газовых светильников, неумолчный гул, звон посуды, табачный дым до потолка.
— Кабинет не желаете? — подлетел половой в несвежем переднике. — Есть свободный!
— Веди… — Виктор оглядывал с тревогой помещение.
— Не извольте беспокоиться! — половой отдернул занавеску, прикрывавшую нишу с полукруглым столом и плюшевым диванчиком. — С полицией у нас по-семейному. Обедают в задних комнатах… Прошу, госпожа! — протянул ей прейскурант в кожаном переплете. — Все в наличии!
— Смотрите, Витя, — ткнула она, засмеявшись, в веленевый лист с золотыми буквами «Обедъ».
— Чего там?
— Названия до чего мудреные. «Суп принтаньеръ», — принялась читать… — «филе де бефъ»… «форель провансаль»… «мозаикъ французский»… «пунш Виктория»…
— Погоди, — встал он из-за стола. Оглядел внимательно зал.
— Гляди, жид! — послышалось из угла.
— Где?
— Да вон, у занавески!
— Точно, жид!
— И жидовка на диванчике!
— Ага! Расселись!
— Как в синагоге. Хазяева, мать вашу!
— Эй, ты! — поманил Виктор одного из говоривших в картузе набекрень — по всей видимости, вожака.
— Ты меня? — ухмыльнулась личность.
— Тебя, тебя!
— По-русски изъясняются! Надо же!
Патлатый двинул весело в их сторону. Проделал он не больше двух шагов — рухнул сбитый кулаком Виктора на соседний столик, опрокинул тарелки. Поднимался, корчась от боли, с колен, глядел глуповато-изумленно на Виктора.
— Вроде не жид… — произнес. — Обознался. Дико извиняюсь, господин…
Ужинали они у себя в гостиничном номере. Уплетали за обе щеки бутерброды с бужениной, купленные в соседней закусочной, пили пиво, вспоминали смеясь эпизод в кухмистерской.
Как он любил ее в эту ночь! Как ласкал! Какими необыкновенными называл словами! Уснул перед рассветом, широко раскинув руки, — милый, трогательный, совсем еще мальчишка.
Она смотрела на него, приподнявшись с подушек, гладила спутанные кудри. Сон не шел, перед глазами проносились события последних дней. Шествие бастующих колонн со знаменами, лозунги над головами: «Восьмичасовой рабочий день!», «Свобода митингов и собраний!», «Долой царское правительство!» Стычки с казаками и полицией — на Успенской, Мещанской, Ришельевской, Преображенской, Канатной улицах, Тираспольской площади. Стрельба из окон в конных жандармов, ответный огонь по демонстрантам, бомба, брошенная Витей из мчавшейся кареты в стоявшего у полосатой будки городового.
Она была с ним рядом в экипаже, придерживала на коленях снаряд в коробке из-под конфет, другой рукой трубку запала. Не унималась противная дрожь, пот заливал глаза, не было возможности утереться.
«Давай!» — выкрикнул он.
Она выкручивала подбрасываемая на сиденье запальную трубку с серной кислотой и патроном гремучей ртути в отверстие бомбы.
«Быстрей, черт!»
Выхватив у нее из рук бомбу (она зажмурилась), он швырнул ее, размахнувшись, за спину возницы…
Сумасшедшие, упоительные дни! Ветер в лицо, бешеные повороты, опасности на каждом шагу — радостно и жутко!
Она точно приподнялась на цыпочках, стала выше ростом. Ощущала близость к чему-то могучему, всеохватному, сметающему все на своем пути. Шагала, отставая, спотыкаясь, через преграды вместе с удивительными людьми, ставшими ее товарищами. Умными, образованными, готовыми без колебаний отдать жизни ради счастья униженных и оскорбленных.
Как могло случиться, спрашивала у Вити, что на сторону революции встали простые матросы «Потемкина»? Не побоялись разоружить офицеров, убить капитана! Только из-за гнилого мяса в борще?
— Червивое мясо — не главное, — объяснял он. — Последняя капля, понимаешь! Достали, гады! Всех поголовно — армию, флот, крестьян, пролетариев. Во-о! — проводил выразительно краем ладони по горлу.
Он был в числе приглашенных представителей социал-демократических и анархистских организаций Одессы на борт прибывшего с ходовых учений, бросившего якорь неподалеку от Воронцовского маяка мятежного броненосца. Вернулся спустя несколько часов озабоченный, расстроенный.
— Закавыка… — произнес невесело. — У морячков разброд.
Все на поверку оказалось непросто. Экипаж «Потемкина» не был монолитным отрядом революции, каким казался на расстоянии. Митинговали по любому поводу, действовали сплошь и рядом стихийно. Скончавшийся после тяжелого ранения артиллерийский унтер-офицер Григорий Вакуленчук, руководивший мятежом, лежал под простыней в капитанской каюте. Сменивший его минно-машинный квартирмейстер Афанасий Матюшенко не имел такого же авторитета среди матросов. На призыв прибывших — высадить в городе десант, захватить ключевые объекты, оттеснить брошенные на подавление восстания воинские части и казаков — судовая комиссия ответила отказом. Потемкинцы были озабочены прежде всего пополнением запасов угля, воды и продовольствия, вероятностью сражения с плывшей из Севастополя на их усмирение эскадрой из одиннадцати боевых кораблей Черноморского флота под командованием вице-адмирала Кригера, похоронами вожака.
Боя с эскадрой Кригера «Потемкин» избежал. Экипажи прибывших судов отказались стрелять в восставших товарищей, вышли вопреки запретам командиров на палубы, приветствовали курсировавший рядом броненосец с расчехленными орудиями главного калибра криками «ура!». Учитывая настроение команд, Кригер приказал дать обратный ход, стал уводить эскадру в открытое море.
По отношению к восставшей Одессе потемкинцы продолжали сохранять солидарный нейтралитет. Решали свои дела: грузили в трюмы с захваченного судна уголь, закупали продовольствие, запасались водой. Свезли рано утром на Новый мол труп Григория Вакуленчука, поместили в специально оборудованную палатку, приставили караул. Отправили делегацию к городским властям с просьбой не препятствовать панихиде и похоронам товарища.
Разрешение было получено. На Новый мол стали стекаться одесситы. Малочисленная городская полиция была не в состоянии предотвратить стихийно начавшийся митинг над телом убитого и к десяти часам утра покинула порт.
Она была вместе с Витей на Новом молу, участвовала в траурном митинге. Проходила, утирая слезы, перед гробом, остановилась на минуту, прочла надпись химическим карандашом на листке, приколотом к матросской тельняшке покойного: «Одесситы, перед вами лежит труп зверски убитого старшим офицером броненосца «Князь Потемкин Таврический» матроса Вакуленчука за то, что осмелился заявить, что борщ никуда не годится. Товарищи, осеним себя крестным знамением и постоим за себя! Смерть вампирам, да здравствует свобода! Команда броненосца «Князь Потемкин Таврический». Один за всех и все за одного. Ура! Ура! Ура!»
Ночевали они в порту, под крышей полусгоревшего пакгауза. По приказу командующего Одесским военным округом прибывшие в город два пехотных и один казачий полк окружили по всему периметру территорию порта, где, по мнению властей, собрались самые неблагонадежные элементы. Перекрыли ходы и выходы, открывали огонь по любому, кто пробовал вырваться из ловушки. В самый порт солдаты и казаки не входили, узнав о решимости команды броненосца открыть стрельбу по войскам, если те начнут действовать против митингующих.
Революция в Одессе, похоже, выдыхалась. В погребении Вакуленчука на городском кладбище власти разрешили участвовать нескольким десяткам горожан и двенадцати невооруженным матросам почетного караула, которые на обратном пути были обстреляны армейским патрулем — двоих убили, троих арестовали.
Утром — они проснулись под стенкой пакгауза, на пыльных мешках из-под пшеницы, терли глаза — раскололось небо над головой. Кинулись за угол, спустились по шаткой лестнице на берег.
Трехтрубный «Потемкин» дымил на рейде. Дал один за другим еще два холостых «траурных» выстрела в память Вакуленчука, изрыгнул через паузу огненными боевыми снарядами из шестидюймовок по городу. Стал разворачиваться, уходить в открытое море.
— Конец… — Виктор отвернулся от ветра, закурил. — Был прилив, начинается отлив. Теперь царская свора за нашего брата примется. — Сплюнул на песок. — Недолго ждать.
— Что я говорил! — протянул ей на другой день с порога газету. — Читай!
Она присела на край софы, развернула на коленях свежий номер «Одесской почты».
«Открытое письмо главному редактору, рассказ очевидца», — прочла на первой странице.
«Пережив дни гнусных, позорных, ужасающих преступлений, совершавшихся в Одессе, — в период времени с 14 по 19 июня, — пробегала глазами газетные строчки, — берусь за перо, чтобы высказать гласно, без утайки и умолчания общие мои наблюдения и заключения о характере движения, повлекшего за собой свистопляску отвратительного, исступленного еврейского фанатизма. Вечером, около 8 часов, в порт прибыл броненосец «Кн. Потемкин Таврический» и остановился на рейде в весьма близком расстоянии от брекватера. Утром 15 июня, в 6 часов с него отвалил катер с шестеркой, которые подошли к Новому молу, против пакгауза Российского Транспортного Общества, и матросы перенесли на пристань тело убитого человека. Устные рассказы съехавшихся на берег матросов выяснили, что на броненосце произошел бунт команды против офицеров, что многие из них убиты и проч., и проч. Весть об этом моментально облетела весь город. На пристанях Нового мола скопилось много народу; вооруженные команды броненосца, приходившие в порт на шлюпках, встречаемы были громким «Ура!» С раннего утра масса евреев и евреек направилась в порт и, что в особенности было заметно, в толпах и кучках евреев преобладающее число лиц принадлежало молодежи обоего пола. Сначала все это воинствующее молодое поколение Израиля шушукалось, многозначительно перемигивалось, группировалось, но мало-помалу возбужденность росла и росла. Крики «ура!» со стороны толпы, встречавшей вооруженные шлюпки с броненосца, постоянные переезды частных шлюпок с людьми в штатских костюмах и еврейских женщин на броненосец и обратно, и распространяемые ими вести мгновенно передавались в толпы, возбужденность которых уже весьма скоро проявилась в крайней степени. У места, где лежал труп убитого матроса, появился флагшток с красным флагом. Из кучек и групп еврейской молодежи выделились ораторы, выбравшиеся на подмостки, сделанные из бочек и ящиков, и началось словесное возбуждение толпившейся черни к мятежу, к восстанию против правительства, к низвержению Самодержавия. Исступленные молодые еврейки с распаленными лицами, жестикулирующие своими широкими рукавами, полезли на трибуны и, окруженные своими кавалерами, говорили народу речи, сопровождаемые одним и тем же приговором — «долой Самодержавие!»
Она потерла глаза.
«Дело становилось ясным, — читала дальше. — К месту происшествия прибыл одесский анархистский кагал, так называемый «Комитет Еврейской Самообороны», и тут же главари решили возбудить народное восстание против власти. Распускаемые слухи о том, что броненосец воспретил властям посылать в порт войска, что с броненосца уже свезен десант для овладения портом и тому подобные вести поселили уверенность в полной безнаказанности исступленных ораторов и всех, бывших на Новом моле. После двух часов дня восстание в черте порта пошло ускоренным темпом. Один из эпизодов еврейского фанатизма должен быть увековечен. Свидетелями его были сотни лиц, которые могут подтвердить кровавое, позорное преступление. Портовой стражник Глотов казнен всенародно по приговору фурии-еврейки. Эта дьяволица, стоя на бочке, держала речь толпе и, как все прочие фурии, провозгласила: «Долой самодержавие!» Глотов, находившийся близко от этого места, громко сказал, что такие безумные слова не должно говорить. «Смерть ему!» — взвизгнула еврейка, и тотчас из окружавшей фурию кучки евреев выделились четыре человека и выстрелами из револьверов уложили Глотова. Тело его сейчас же было сброшено в море»…
— Витя, что это? — подняла она на него глаза.
— Читай, читай!
«В четвертом часу дня, — продолжила она читать, — начался грабеж товаров, лежавших на пристанях, а затем разбиты товарные портовые магазины, и все, что там было, подверглось расхищению черни. «Босая команда» (чернорабочие) прежде всего набросилась на напитки. Началось пьянство, а вместе с ним и разбой. Толпы грабителей, русских и евреев, ринулись в порт. За ними появились бабы с детишками. Товары расхищались, уносились и увозились в город на извозчиках, на ломовых подводах, на шлюпках. Со стороны властей не было сделано распоряжений ни к прекращению грабежа, ни к закрытию движения по улицам, ведущим из города в порт. С Николаевского бульвара, где стояли пехотные цепи, можно было обстрелять порт, ибо весь он как на ладони. Но отсюда давали залпы только с двух часов ночи, когда поджигатели, распространив пожар по всему порту, двинулись массами в город с целью разгромить и сжечь городские здания.
В 11 часов ночи начали раздаваться в городе отдельные выстрелы, иногда довольно частые. Выстрелы эти, как потом объяснялось, производились с крыш и с балконов домов евреями из того же анархистского кагала самообороны. Войска на улицах подвергались обстреливанию из револьверов. Такие обстреливания, как мне достоверно известно, производились с крыш зданий Николаевского бульвара, с Ланжероновской и Екатерининской улиц и из Карантинного переулка по войскам, стоявшим на Канатной улице. Такой уличной стрельбой занималась еврейская самооборона, еврейская милиция, на вооружение которой собирались денежные суммы, вносимые: одесскими банкирами, в конторах коих потом найдены бомбы; коммерциями-советниками мукомольного дела, отказавшимися от звания гласных Думы по назначению; членами биржевого комитета, техниками, состоящими при управлении градоначальника; либеральствующими и по сей день профессорами и приват-доцентами университета; техниками со всевозможными кантами и петлицами и т. д. Поименовываю лишь те профессии жертвователей на еврейскую самооборону, которые, как мне доподлинно известно, устраивали заседания для обсуждения способов организации самообороны. Не могу также не упомянуть об адвокатах, присяжных поверенных и их помощниках, которым принадлежит руководящая мысль устройства еврейской милиции, якобы для защиты евреев вообще и всей интеллигенции в частности, а в сущности — для целей анархии. Да, господа интеллигенты, мундирные и безмундирные, пора сорвать с вас маски! Вы давали деньги на «самооборону», а устроили грабеж, пожары, убийства, смертные казни, бунты и восстания против государственной власти. Вы говорили и писали в прокламациях, что намерены защищать свое израильское племя и своих присных, ан вот что вышло! Пусть узнает, наконец, русский народ, каких прав вы домогаетесь, и какие правомерные способы воздействия на общество и государство вы решаетесь применять на деле».
— А? Ну, как? — сел он рядом.
— Ужас!
«Поддерживая все мои соображения, основанные на личных наблюдениях и рассказах очевидцев, — читала она, — я как старожил, живущий здесь безвыездно почти сорок лет, не могу не сказать, что к еврейскому анархистскому кагалу самообороны примыкают, к стыду русского народа, лица русского же происхождения и инородцы, преимущественно из Закавказского края, учащиеся в учебных заведениях города. Ослепленные ненавистью к правительству, эти лица продали себя евреям. Идя вместе с евреями и действуя заодно, эти презренные отребья русского племени и гнусные изменники родины и государства, их вскормивших, всеми силами низких душ своих стремятся возмутить народ против правительства, чтобы возбудить в правительстве недоверие к народу. Может ли быть что-нибудь более изуверное, фанатичное, отвратительное, чем эти злодеяния, учиненные в городе, который вмещает в себе по меньшей мере 40 000 еврейских семейств! Живя долгое время в Одессе, я изучил коренные изменения в настроении мнений, в поведении и поступках еврейского населения. Робкий, низкий, злопамятный характер израильского народа в течение последних пяти-шести лет сменился дерзостью, нахальством и чрезвычайной озлобленностью против христианского населения. Нескрываемая злость, искажающая и без того некрасивые черты семитов, подергивание мускулов огромного чувственного рта, прищуренные глазные орбиты и ушедшие вглубь зрачки делают отвратительными лица молодых евреев и особенно евреек. Последние подчеркивают злобность выражения лиц ведьмообразными начесами волос, оттеняющими искаженные лица грубыми, падающими тенями. Посмотрите на эти лица в шабаше, когда евреи и еврейки, расфранченные по последним модам, толпами высыпают на улицу, галдят, толкают прохожих и флиртируют. Впрочем, разве можно, говоря о молодых евреях и еврейках, употреблять слово «флирт»? Слово «блуд» и «разврат» тут более уместны. В любой час дня пройдитесь по загородному Александровскому парку и увидите пары, расположившиеся в самых вульгарных положениях. Сторожа парка говорили мне, что нет возможности оградить парк и публику от еврейского наглого распутства. «Станешь их стыдить или гнать из парка, они же тебе наговорят таких мерзостей, что рад уйти от них», — так жаловались мне старики-сторожа, которым я сам указывал на распутные толпы еврейской молодежи, принадлежащие к учебному возрасту 15–17 лет и даже меньшему. Толпы мальчуганов и девочек 10–14-летнего возраста с гиком и свистом врываются в парк, бесчинствуют, говорят друг дружке отвратительные сквернословия и надоедают прохожим наглыми приставаниями. Семейная жизнь у евреев страшно изменилась. Патриархальность семьи сменилась распущенной необузданностью молодежи. Родительская власть рушилась, молодежь бросилась в социализм: агитирует, устраивает заговоры, печатает и распространяет прокламации, формирует банды самообороны, делает бомбы, стреляет в полицию и войска и, наконец, дошла до открытого возмущения с грабежами, поджогами и смертными казнями. Уголовная преступность еврейского населения растет чрезвычайно. Судебная статистика дает указания на увеличение судимости евреев по всем категориям самых гнусных преступлений. Число политических преступников среди евреев так велико, что почти одни только еврейские фамилии пестрят в летописи уголовно-политической хроники прессы. Читая ежедневные газеты, просто поражаешься массами убийств, совершаемых именно евреями в разных городах и местечках, в черте и за чертой еврейской оседлости. Отчаянно изуверский характер беспрерывно следующих одно за другим покушений тем более возмутителен, что преступниками-убийцами в огромном числе случаев являются подростки и малолетние, которых еврейский анархистский кагал фанатизирует и посылает для совершения преступлений в расчете на смягчение кары при судимости по малолетству. В Одессе, например, известны случаи, когда бросание шашек пироксилина в полицейских чинов производилось 14-летними жиденятами. Печать, газеты — все в руках евреев. Хотя одесские газеты подцензурны, тем не менее отвратительная зараза проповеди анархизма и нравственного разврата разливается в здешних газетах, подобно морю смердящего зла и позора. Подождите еще немного, и перья одесских еврейских строчил создадут такую легенду из лжи, клеветы, извращений, в которой не разберется и самый опытный следователь.
На фоне этой мрачной картины всеобщего распутства и злодеяний, совершенных во имя фанатического, исступленного изуверства, стремящегося к низвержению основ русской государственной жизни, рисуется коллективная ответственность еврейского населения города Одессы за все те позорящие имя человека преступления, свидетелями которых были тысячи людей. Установление этой коллективной ответственности было бы, по моему мнению, первым актом образумливающего воздействия на население города, в котором нарушены самые коренные основы общежития.
Русский Патриот».
— Науськивает, сволочь! — взволнованно вышагивал он по комнате. — Ату их, пархатых!
— Давайте уедем, Витя! — схватила она его за руки. — Сегодня же!
— Рехнулась! Куда уедем?
— Хоть куда! В Житомир, в штетл. Страшно!
— Страшно ей. Анархистка, революционерка! Кончай паниковать…
Он вытащил из внутреннего кармана пиджака кожаный бумажник. Развернул, вывалил на стол пачку кредиток.
— Гляди! — хохотнул. — Ротшильды позавидуют!
— Откуда столько, Витя?
— Из бочки с сельдями.
Засмеялся.
— Из бочки? — покосилась она на пачку.
— Ага. Когда заваруха эта в порту началась, пожары, поджоги, грабеж, мы с румыном моим лодку чью-то отвязали, собирались на Пересыпь плыть от греха подальше. А тут глядим, хмыри какие-то бочку катят по песку. К воде. Румын говорит — он по этой части профессор: в бочке, говорит, точно — воровской навар. Грабанули хлопчики под шумок чью-то кассу или ювелира и следы заметают. Доставят бочку с наваром на рейд, там их яхта с партнерами дожидается. И поминай как звали.
— И что, Витя?
— Ничего. Посидели за лодкой, дождались, пока субчики эти бочку поближе подкатят. Встали — они обрезы тащить из-за голенищ. Ну, тут думать некогда: успевай нажимать на гашетку… Положили троих. Четвертый — атаман, по-видимому, по мелководью побежал. Ногу волочил. Румын его догнал и — ножом в спину…
— Хватит, не надо! — она отвернулась к окну.
— Чувствительная ты! — произнес он с досадой. — Как институтка! Мы тут, по-твоему, за бандюг и громил стараемся? Бомбы в царских сатрапов кидаем, жизнями рискуем! Чтоб городская шпана сливки под шумок снимала? А мы потом у Любанского деньги на революционную работу будем клянчить. Так, что ли?
— Не знаю, Витя.
— Не знаю! В «эксе» участвовала, жандарма вместе на тот свет спровадили. Кончай хныкать!
— Хорошо, Витя.
Часть захваченных денег, по его словам, он отдал румыну, основную сумму передал в партийную кассу анархистов.
— Себе оставил кое-что. На семечки.
— Так уж и на семечки, — недоверчиво протянула она.
— Ну, и на шляпку одной чувствительной девице.
Обнял, закружил по комнате.
— Ежели, конечно, девица не возражает.
Большую часть времени они отсиживались в гостинице. Город оставался на военном положении, действовал комендантский час. На улицах — казачьи разъезды, патрули, филеры в котелках. Шарят взглядами по лицам, идут следом, отворачиваются, видя, что их заметили, делают вид, будто читают афиши на заборах. Тащат при малейшем подозрении свистульки из бокового кармашка, принимаются оглушительно свистеть, бегут за удирающим по тротуару то ли пересыпским бандитом, то ли перепуганным обывателем, посетившим тайком от супруги заведение Любки Кабак на Балковской улице. Пообедать они выходили в соседнюю кухмистерскую, брали по дороге в продуктовых лавках съестное на завтрак и ужин. Играли вечерами в подкидного дурака, расположившись на кушетке. Он ей все время проигрывал, лез под стол, смешно кукарекал.
В один из дней в дверь постучали, озабоченный хозяин пропустил, извинившись, за порог полицейского околоточного, проверявшего, как он объяснил, документы постояльцев.
Полицейский разглядывал, держа в руках, взятый у Вити «Вид на жительство», отметки и печати, интересовался, по какой надобности прибыли, долго ли намерены оставаться в городе.
— Уедем, как только получим деньги от родителей, — отвечал Виктор. — Думали с сестрой поплавать в море, позагорать. Не повезло с погодой, как говорят одесситы.
— Да, нынче у нас не до отдыха, — полицейский поднялся с кресла. — Документ я у вас на время заберу, господин Абрамович. Не извольте беспокоиться: обычная формальность. Отметки нужные сделаем, срок пребывания, если пожелаете, продлим. Завтра явитесь в центральную полицейскую часть… вот, извольте адресок, — протянул бумагу с гербом. — Часиков, положим, к трем. Устраивает?
— Вполне. — Виктор кинулся к буфету.
— Может, по бокалу шампанского, господин околоточный?
— Не положено, при службе, — повернулся тот к двери. — С вызовом попрошу не опаздывать — ровно в три. Честь имею!
— Собирайся!
Виктор отодвинул портьеру, выглянул на балкон. Подождал, пока отъедет внизу полицейская карета.
— Нет, нет, никаких вещей! Возьми купальник, шапочку. Все в кошелку! Револьвер в сумочке? Заряжен?
Оглядел номер.
— Присядем… Все, как будто…
Они заперли дверь, пошли по коридору.
— Не хмурься, гляди веселей!
Спустились по лестнице в зал.
— Жарко, решили искупаться, — протянул Витя ключ дежурному. — Ежели кто из друзей будет спрашивать, мы на Ланжероне.
— Завидую! — расплылся в улыбке дежурный. — Верите, полгода на море не был? А! Хорошего отдыха, господа!
Они взяли за углом извозчика.
— Гони на Молдаванку! — приказал Виктор.
— Молдаванка, Молдаванка… — почесал затылок возница. — Обратки точно не будет. Комендантский час, будь он неладен. Порожняком вернусь…
— Не обижу, трогай!
— Слушаю, вашбродь! — повеселел возница. — Домчу с ветерком!
Неделю они скрывались на конспиративной квартире анархистов в Треугольном переулке. Миловидная гимназистка Верочка, работавшая гравером в подпольной типографии, вырезала у себя в закутке на медной матрице образец нового «вида на жительство» мещанина из Бендер Зельмана Тома, православного, неженатого, без особых примет. Отпечатала на мимографе, оттиснула нужные печати, повозила в типографских бумажных отходах, помяла в ладонях. Разгладила аккуратно теплым утюжком.
— Отдавать жалко, — улыбнулась, протягивая Виктору. — Такой хорошенький.
Руководство «Хлеба и воли» решило, что житомирскому специалисту по «эксам» и доставке динамита, убившему бомбой полицейского, следует исчезнуть на время из Одессы. Нашлась работа в Крыму: согласовать с тамошними хлебовольцами стратегию и тактику борьбы на ближайшее время, прощупать настроение военных моряков на черноморских базах.
Их переправили ночью на грузившуюся зерном баржу, владелец которой, грек Вергопуло, получив в свое время «мандатное письмо» от некоей неназванной организации, требовавшей денежной поддержки на цели революции, угрожавшей в случае отказа «революционно-анархистским возмездием», здраво решил, что в полицию обращаться не следует. Передавал ежемесячно таинственным борцам за народное счастье (чтоб их холера взяла!) посильные суммы, исполнял кое-какие просьбы. А что делать, скажите? В Одессе иначе не проживешь.
Сутки их болтало на палубе неповоротливой баржи, буксируемой черным от копоти паровым суденышком. Ее рвало, состояние было полуобморочным. Витя отводил ее на корму, она перевешивалась через борт, тяжело дышала. Разбивались о деревянные шпангоуты пенистые волны, колючие брызги били в лицо. Баржа в очередной раз взбиралась на гребень водяной горы, застывала на миг, заваливалась набок, падала стремительно в бездну.
— Умру, Витенька! Не могу…
— Идем, полежишь, — вел он ее обратно. — Скоро доплывем, огни береговые видать…
Феодосия была на осадном положении. В порту, на набережной, в городе — воинские патрули, верхоконные казаки в папахах. Местные товарищи отвезли их на окраину, поместили в мазанке рыбака-артельщика, сочувствовавшего анархистам. На рассвете — она спала как убитая — ее растолкал Виктор.
— Уходим! Собирайся!
Феодосийские хлебовольцы посчитали разумным переправить прибывших товарищей в целях безопасности в соседнюю деревушку Коктебель. Место удобное, спокойное. Десяток каких-нибудь верст от Феодосии, глушь, тишина. Татары крымские живут, греки, болгары, дачники русские строятся. Отдыхающих немного, в основном молодежь: петербуржцы, москвичи, киевляне. Народ веселый, беззаботный, все сплошь нигилисты. Некоторые, говорят, нагишом ходят по пляжу, даже девицы.
Добрались до места за пару часов в нанятой двуколке. Прожарились на щедром солнышке, набили бока на тряской дороге. Остановились, запорошенные пылью, в верхней части поселка, рассчитались с возницей.
— Где-то тут вроде, — озирался по сторонам Виктор. — Духан Бейтуллы…
— Вам кого, господа? — окликнули их сзади.
По тропинке, заросшей бурьяном, к ним сбегала живописная личность в домотканом балахоне до колен. Патлатый, босой, рыжебородый, с венком на голове из сухой полыни.
— Бейтуллу, духанщика.
— Бейтуллу? Это ниже. Вон за той дачей. Идемте, я вас провожу, нам по пути… Извините, не представился. Макс Волошин, художник.
Хохотнул негромко:
— Не Айвазовский, конечно. Много хуже…
— Зельман Тома, — пожал ему руку Виктор.
— А прекрасную даму?
— Дора, — отозвалась она.
— На отдых?
— Да. Ненадолго.
— Не пожалеете. Места здесь, богом обласканные. Будем, кстати, соседями. Во-он моя дача, видите? У самого берега. Еще не закончена, строюсь. А дом Бейтуллы выше, по ту сторону оврага. Идите прямо, не сворачивайте. Ручей перейдете и до конца переулка…
Обернулся к ней — плотный, загорелый, веселоглазый, продекламировал неожиданно:
— Тихо, грустно и безгневно ты взглянула. Надо ль слов? Час настал. Прощай, царевна! Я устал от лунных снов…
Запрыгал вниз по тропинке, обернулся:
— Жду в гости! — замахал рукой. — Приходите без затей, в любое время!
1905 год: газетная хроника
Morning Post:
ПОРТСМУТ, 23 АВГУСТА. «Договор о мире будет подписан в ближайшее время. Россия уплатит сравнительно небольшую сумму в возмещение расходов по содержанию пленных и уходу за больными и ранеными и оставляет за собой северную половину Сахалина, а южную уступает Японии».
НЬЮ-ЙОРК, 25 АВГУСТА. «В вопросе о мире никаких перемен не произошло. Решение ожидается сегодня. Если обе стороны проявят хотя небольшую уступчивость, то можно надеяться на продолжение переговоров. В последние два дня во множестве отправляются телеграммы в Петербург и Токио».
«Русское слово»:
Санкт-Петербург, 26 августа. «В данный момент все надежды на мир утрачены, но все ждут официального заявления со стороны уполномоченных, что все кончено. Если сегодня удастся новая отсрочка, то сохранится слабая надежда»[5].
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 АВГУСТА. «Вечерние газеты воздерживаются от предсказаний вероятного исхода переговоров. По известиям из Лондона, в Портсмуте господствует мнение, что мирные переговоры уже прервались, и война возобновилась; с другой стороны, оплотом надежды на благоприятный исход служит уверенность в неутомимой энергии Рузвельта и непременном его желании добиться благоприятных результатов».
НЬЮ-ЙОРК, 26 АВГУСТА (ПО ТЕЛЕГРАФУ ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА). «Конференция пришла к полному соглашению по всем вопросам и постановила приступить к составлению договора. Японцы приняли русский ультиматум: отказались от требований контрибуции, согласились возвратить половину Сахалина без вознаграждения и уступили по вопросам об интернированных русских судах и ограничении русских морских сил на Дальнем Востоке. Перемирие, вероятно, заключено».
ВСЕПОДДАННЕЙШАЯ ТЕЛЕГРАММА
статс-секретаря С.Ю. Витте на имя Его Императорского Величества из Портсмута от 26 августа 1905 г.
«Всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству, что Япония приняла Ваши требования относительно мирных условий и, таким образом, мир будет восстановлен благодаря мудрым и твердым решениям Вашим и в точности согласно предначертаниям Вашего Величества. Россия останется на Дальнем Востоке великой державой, каковою она была доднесь и останется вовеки. Мы приложили к исполнению Ваших приказаний весь наш ум и русское сердце и просим милостиво простить, если не сумели сделать большего».
«Новости дня»:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 АВГУСТА. «Известие о заключении мира было получено вчера в Петербурге поздно вечером и, несмотря на поздний час, тотчас же стало известно в петербургских кругах и собраниях. Всюду оно произвело довольно смутное впечатление: в то время как одни радовались прекращению войны, другие говорили, что этот мир унижает Россию».
ПОРТСМУТ, 6 СЕНТЯБРЯ (ПО ТЕЛЕГРАФУ ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА). «В 3 ч. 47 м. Витте, Комура, Такахира и Розен среди мертвого безмолвия присутствующих, подписали мирный трактат. С.Ю. Витте, подписавши, встал, направился к Комуре, и пожал ему руку. Момент был трогательный. На всех лицах отражалось глубокое волнение. С.Ю. Витте и Комура, взволнованные, долго жали друг другу руки. Присутствующие встали и в этот момент раздался пушечный залп. Залп пушек смешался с перезвоном колоколов всех церквей. Под эти звуки уполномоченные обмениваются короткими приветствиями и удаляются в особую комнату. Через несколько минут С.Ю. Витте, Комура, Розен и Такахира направляются в буфет. Хлопанье пробок шампанского является последним залпом этой долгой ожесточенной войны. Конец долгому, мучительному кошмару».
Рассчитанное на короткий срок дачное их пребывание в Коктебеле затянулось. В Феодосию было не сунуться: на черноморских базах военного флота и всему побережью шли повальные аресты. 14 июля эскадра контр-адмирала С. Писаревского привела на буксире в Южную бухту Севастополя сдавшийся властям «Потемкин». Большая часть экипажа осталась в Румынии, в Россию пожелали вернуться 47 матросов и кондукторов и двое офицеров. Выполняя указание монарха («После самого скорого следствия и полевого суда надо привести приговоры в исполнение»), начались процессы над поправшими воинскую присягу солдатами севастопольского гарнизона, рабочими морского завода, военными моряками. Первыми судили восставших матросов учебного судна «Прут»: четыре смертных приговора, шестнадцать на каторгу, остальных в арестантские роты и дисциплинарные батальоны. Вынесли приговоры (не менее жестокие) участникам восстания с броненосцев «Георгий Победоносец» и «Екатерина Вторая», крейсера «Очаков», подошла очередь главных смутьянов, едва не запаливших революционный пожар по всей империи, — спустившего флаг мятежного «Потемкина».
О происходившем по ту сторону Карадагского хребта они узнавали урывками, с запозданием. Газеты в Коктебель не поступали, что-то можно было узнать от приезжих дачников и проплывавшего раз в неделю по маршруту Севастополь — Феодосия почтово-пассажирского катерка, забрасывавшего с борта (нередко в воду) запечатанный мешок с почтой. Окружавших их праздных людей политика не занимала. Приспичило кому-то побузить, поспорить с властями, кого-то за это наказали — нам что за дело? Купались в теплом ласковом море, ходили друг к другу в гости, ездили на пикники верхом на осликах, сидели за кувшином вина в духане их квартирного хозяина Бейтуллы. Влюблялись, заводили летние романы.
Местом притяжения здешнего общества служила дача их нового знакомого, поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина. Точнее — его матери, местной старожилки Елены Оттобальдовны.
Придя впервые в гости на заваленный строительным мусором участок вблизи от пляжа, поднявшись по крутой наружной лестнице в два марша на веранду, постучавшись, они были встречены на пороге невысокой сухонькой женщиной в казакине и шальварах, дымившей пахитоской.
— Макс! — закричала она радостно, схватив ее за руку. — Иди скорей! Это она!
— Кто, мама? — послышалось из глубины.
— Избранница! Судьба!
— Пусть подождет, я дописываю этюд…
— Экий олух…
Не выпуская изо рта пахитоску, дама с птичьим лицом потащила ее в переднюю (Виктор с туеском в руках, наполненным свежим инжиром, остался в прихожей).
Пройдя вслед за хозяйкой по полутемному коридору, завернув за угол, она оказалась в заваленной до потолка комнате с полукруглой стеклянной стенкой, рядом с которой восседал за большим некрашеным столом их вчерашний знакомый в заляпанном краской балахоне.
— О-о, царевна! — расплылся он в улыбке. — Ну-ка, ну-ка, подождите…
Схватил с пола картон, извлек цветной мелок из коробочки, глянул — прищурясь, остро, черканул раз и другой…
— Макс, запахнись, неудобно!
— Мама, не мешайте! Она вылитая Таиах! Вы слышали что-нибудь о Таиах, Дора? — водил мелком по картону. — Нет? Как же так? — Вскочил, бросив на пол неоконченный этюд. — Идемте!
Повел ее, отирая на ходу о балахон запачканные руки, в конец мастерской, помог подняться по витой лесенке на антресоли.
Здесь была спальня. Две лежанки, застеленные зелеными бархатными покрывалами, в глубине прохода между ними — гипсовый бюст на постаменте: узколицая женщина в высоком парике с миндалевидными глазами и неуловимой загадочной улыбкой.
— Ш-ш-ш! — приложил он палец к губам. — Она может нас услышать! Присядем…
Заговорил полушепотом. О том, как увидел впервые гипсовый слепок умершей много веков назад египетской царевны по имени Таиах в парижском музее, как был поражен ее сходством с одной знакомой девушкой. Заказал копию, привез в Коктебель.
— Днями я уезжаю к ней в Париж, мы, вероятно, поженимся…
Она прикусила губу: чуть было не спросила, к кому он, собственно, собирается ехать — к девушке или умершей царевне?
— Хотите прочту целиком вчерашнее стихотворение? — предложил он.
Она кивнула.
- — Тихо, грустно и безгневно
- ты взглянула. Надо ль слов?
— отбивал он вскинутыми пальцами ритм стиха. —
- — Час настал. Прощай, царевна!
- Я устал от лунных снов.
- Ты живешь в подводной сини
- предрассветной глубины,
- вкруг тебя в твоей пустыне
- расцветают вечно сны.
- Много дней с тобою рядом
- я глядел в твое стекло.
- Много грез под нашим взглядом
- расцвело и отцвело.
- Все, во что мы в жизни верим,
- претворялось в твой кристалл.
- Душен стал мне узкий терем,
- сны увяли, я устал.
- Я устал от лунной сказки,
- я устал не видеть дня.
- Мне нужны земные ласки,
- пламя алого огня…
Она закрыла глаза: было безумно его жаль — толстый, немолодой, едет куда-то жениться…
- — Я иду к разгулам будней, — возвышал голос Макс, —
- к шумам буйных площадей,
- к ярким полымям полудней,
- к пестроте живых людей.
- Не царевич я! Похожий
- на него, я был иной.
- Ты ведь знала: я — прохожий,
- близкий всем, всему чужой.
- Тот, кто раз сошел с вершины,
- с ледяных престолов гор,
- тот из облачной долины
- не вернется на простор.
- Мы друг друга не забудем.
- И, целуя дольний прах,
- отнесу я сказку людям
- о царевне Таиах…
— Вы плачете? — вскричал.
Схватил за руки, крепко сжал.
— Любите, дитя! — произнес взволнованно. — В мыслях, во сне, наяву! Каждый миг!
Глянул в глаза.
— Он ведь вам не брат, правда, — то ли спросил, то ли сказал утвердительно.
Она не знала, что ответить.
— Макс, мы уже пьем чай, спускайтесь! — заглянула в комнату Елена Оттобальдовна.
— Вот так всякий раз, — пошел он к лестнице. — Проза душит поэзию.
Незабываемое коктебельское лето! Пылающее огнем косматое солнце над головой, необъятный простор моря. Тишина, заброшенность, отрешенность. Хлопающий ставнями горячий суховей с окрестных холмов, пахнущий полынью. Укутанные в темные покрывала нежно-розовые облака над вечереющим Карадагом, шорох перекатываемой гальки, бегущая по уснувшим волнам лунная дорожка в пурпурной и золотой чешуе. Сумасшедшие ночи в жарком поту на скрипучей лежанке — они словно отмылась оба в волнах Коктебеля от одесской бомбовой гари, утратили рассудок. Не могли насытиться друг дружкой, засыпали под утро без сил на смятой лежанке.