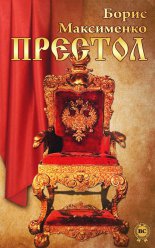Фанни Каплан. Страстная интриганка серебряного века Седов Геннадий

Душное приветливое гнездышко штетла
Быстрее, быстрее!
Она несется что есть мочи по бесконечной тропинке в море трав, убегая от увязавшейся за ней с веселым лаем Милочки. Какой удивительный день, как дышится легко, как пахнет волшебно цветами, какой красоты — в оранжевых и пурпурных красках — облака на горизонте! Гречишное поле, колышимое ветром по ту сторону речки, стена темно-зеленого леса за холмом, пчелиные домики с окошечками, похожие издали на скворечни. Она мчится в узком петляющем лабиринте зелени, шумное дыхание Милочки рядом, вот-вот она ухватит ее за край подола — тропинка сворачивает в сторону, впереди обрыв с клубящимся внизу туманом, ноги ее не слушаются, мгновенье, и она рухнет вниз, в темную бездну — она всплескивает отчаянно руками и неожиданно ощущает: тело ее невесомо, она летит! Легко, свободно, как птица!
Мечется, захлебываясь лаем, на краю скального выступа Милочка, — она поднимается все выше, парит, раскинув крылья, делает круги над местечком, снижается — внизу базарная площадь, на нее глядят с восторгом и ужасом люди, она проносится мимо прилавков, лавчонок, лабазов, рундуков зеленщиков, мясной лавки Эльякима, — впереди здание синагоги, еще миг, и она врежется в колоннадку над входом — взмахнув резко крыльями, она взмывает вверх, в синеву неба…
— Фейга, Лея! Да проснитесь же вы, наконец!
Волшебный сон тускнеет и гаснет. Над кроватью, где они спят вдвоем с младшей сестренкой, нависла фигура матери.
— Что с вами сегодня? День какой, забыли? Поднимайтесь, поднимайтесь! Работа не ждет!
— Да, мамэле, встаю…
Она стягивает с себя одеяло, переваливается на край постели, нащупывает под койкой шлепанцы. Не проснувшаяся до конца Лея в ночной рубашечке трет, прислонившись к спинке кровати, глаза.
За окном — подслеповатый рассвет, слышно, как за углом, на сеновале, квохчет взволнованно готовая разродиться новым яйцом несушка, как горланит ей в унисон из солидарности петух Гетман.
Спустя короткое время, ополоснув из рукомойника лицо, наскоро причесавшись, поев с Леей на кухне подогретой картошки из чугунка, она включается в работу. Волочит из подсобки тяжелые котлы для стирки, устанавливает на камнях в конце двора. Таскает из колодца наполненные ведра на коромысле, приносит из сарая и складывает у очага дрова, раздувает под котлами огонь. Идет в дом, перебирает в корзине белье. Белое отдельно, серое отдельно. Очень грязное — в сторонку: пойдет в последнюю очередь, когда прокипят как следует в мыльном растворе остальные вещи. Клиенты из богатых домов придирчивы до ужаса, сделают историю из любого крохотного пятнышка.
Вернувшись к котлам, сидя на корточках, она дует, напрягшись, в вяло колеблемые костерки в очагах. Дрова сырые, язычки пламени между поленьями, вспыхнув на миг, тут же гаснут, едкий дым разъедает глаза.
Местечко мало-помалу просыпается. Вышла из дверей соседнего дома жена кладбищенского каменотеса Кейла, вешает на забор полосатую перину. Проехал в облаке пыли на своей телеге с бочкой «золотушник» Юда, оставив запах отхожего места. Прошагали мимо столяры-краснодеревщики Ханелисы, отец и братья-близнецы, мелькнула и пропала за углом шляпа торопящегося куда-то по обыкновению местечкового шадхена Мешулама.
Через скрипучую калитку заходят во двор один за другим мальчишки с холщовыми сумками через плечо. Ученики отца. Зубрят четыре дня в неделю в домашнем хедере Тору и Талмуд, учатся арифметике. Выстроились у забора, переговариваются о чем-то, поглядывают в ее сторону.
— Чего уставились? — она тянет пониже край юбки. — Идите в дом! Только не трогайте ничего.
Вернулся спустя короткое время с утренней молитвы в синагоге отец, чистит на крыльце ботинки, исчезает за дверью. В доме раздается нестройный хор голосов, произносящих нараспев главы Пятикнижия. В конце улицы показалась мать с двумя корзинками в руках. Подбросив наскоро в очаг очередное поленце, она бежит ей навстречу, забирает корзинки.
— Ничего не наторговала, — у матери испарина на лице, невеселый вид. — Плохой день.
Не помнится, чтобы мать когда-нибудь отдыхала. Болтала, лузгая семечки, на крылечке с соседками, ходила по гостям. Встает с петухами, спать ложится последней. Печет хлеб, готовит еду, стирает, копается в огороде, торгует на рынке маринованными огурцами и выпечкой. Отец при всей его учености, звании меламеда и десятке сопливых учеников — не добытчик в семье. Заседает в местечковом кагале, решает с членами совета текущие дела общины. Молится три раза на дню в синагоге, ходит в баню с приятелями, домой нередко возвращается тепленьким. Выпить после бани и молитвы стакан-другой кошерного вина, объясняет ворчащей матери, — лишний повод восславить Творца, пропеть ему осанну за блага и деяния его.
Восславления Творца заканчиваются одинаково. Лежа в темноте спальни с сестренкой, они слышат на половине родителей скрип кровати, взволнованный шепот матери:
«Хаим, тише! Дети не спят!»
Пятилетняя Лея хихикает уткнувшись ей в подмышки. Им смешно, тянет подурачиться.
«Тише, Хаим!» — слышится за ширмой. Скрип металлических пружин то затихает, то возобновляется.
Она долго не может уснуть. Лежит с открытыми глазами, думает. Чем занимаются по ночам взрослые, для нее не секрет. В одиннадцать неполных лет она — не наивный ребенок. У нее регулярные месячные, небольшие острые грудки под рубашкой, на ногах и подмышками растут волоски. Местные мальчишки при встречах с ней оживляются, делают большие глаза, отпускают за спиной грязные шуточки. В голове столько всякого — делается иной раз не по себе…
Она проводит пальцами по бедрам, трогает лобок с курчавой ложбинкой. Пройдет немного времени и ее сосватают за кого-нибудь из здешних. В доме появится суетливый Мешулам в лапсердаке и широкополой шляпе, родители и шадхен будут говорить о приданом, свадебных расходах, спорить, торговаться. Так было у двух старших сестер, так принято у евреев: в двенадцать лет девочки выходят замуж, не сосватанные в четырнадцать считаются неудачницами, незамужние в шестнадцать — залежалым товаром.
«За Фейгу я спокойна, — говорит мать. — С ее личиком и фигуркой в невестах не засидится».
Тикают на стене невидимые ходики, посапывает в бок сестренка. Веки ее тяжелеют, смежаются, наплывают со стороны смутные видения.
«Хорошо бы еще полетать во сне»… — проносится в голове последняя мысль.
Событие, которое всю неделю обсуждается в местечке, — убийство в Дубоссарах четырнадцатилетнего подростка Михаила Рыбаченко. Газеты что ни день приносят очередную новость. На подозрении то родственники, то окрестные цыгане, то пьяный папертный нищий, заколовший паренька по ошибке, приняв его по беспамятству за привидение.
— Ну, вот! — восклицает однажды появившийся на пороге с «Киевским вестником» в руке отец. — Виноваты-таки евреи! Вот послушайте! — принимается читать: «По делу убийства Рыбаченко появились новые подозрения. Среди населения Дубоссар циркулируют слухи о возможной ритуальной подоплеке преступления. Версию эту отчасти подтверждает тот факт, что труп был найден с зашитыми глазами, ушами и ртом, надрезами на венах и следами веревок на руках. В кишиневской газете «Бессарабец» горожане обсуждают возможную ритуальную подоплеку убийства. Выдвигаются предположения, что подросток был похищен и обескровлен евреями с целью использования его крови в каком-то ритуале»…
— Как вам это нравится! — Отец потрясает над головой газетой. — Они уверены, что мальчика убили, чтобы замочить его кровью тесто для мацы! К Песаху. А? Чтоб я так жил!
— Жди погромов, — качает головой мать.
— Очень похоже…
В воскресенье, на базаре, кто-то из приезжих разбросал между рядов листовку: «Православные христиане! Мальчик в Дубоссарах замучен жидами. Царь-батюшка издал секретный указ грабить и избивать евреев три дня после Пасхи. Поэтому бейте жидов, изгоняйте их, не прощайте пролития православной крови!»
Хотиновка затаилась. Свеж был еще в памяти кошмар позапрошлого года, когда по главной улице прошли толпой прибывшие из соседних селений пьяные русские погромщики. Где-то, ни то в Полтаве, ни то в Виннице, ни то в Вильно, фельдшер-еврей убил свою кухарку. По одним сведениям христианку, по другим — католичку. Суд еще только начался, а газеты уже обвинили подозреваемого в ритуальном убийстве. По городам и селениям Польши, Литвы, Украины и Белоруссии прокатилась волна антиеврейских погромов.
Она хорошо запомнила тот день. Как семья пряталась в погребе. Как бушевала наверху толпа. С улицы доносился дикий рев, свист, крики отчаяния избиваемых людей. В нескольких местах погромщиков встретило сопротивление. Когда кучка бандитов попыталась поджечь мебельную мастерскую Ханелисов, навстречу им вышел хозяин и оба сына-великана с палками в руках. Громилы дрогнули, бросились врассыпную.
Ближе к вечеру в штетл прибыл, наконец, воинский отряд из Бердичева. Десяток погромщиков, в основном чернорабочих, подкреплявшихся коньяком и водкой в разоренном шинке Залмана Шляпентоха, удалось задержать. Все были в стельку пьяные, обнимались друг с дружкой, хохотали, увозимые в телегах.
Перепуганные, замерзшие, они вернулись в дом. В комнатах был бедлам: сломанный буфет, этажерки, спинки разбитых стульев, в углу полусгоревший перевернутый диван с торчащими пружинами. Всюду осколки стекла, пух от вспоротых подушек и перин.
…Над Хотиновкой — синие сумерки, догорает за дальним бором закатное солнце. Считаные дни до Песаха, народ готовится к празднику. Хозяйки пекут мацу, закупают продукты, сладкое вино к седеру. В домах генеральная уборка — с кухонных полок, из буфетов убирается хамец: хлеб, макароны, печенье, крупа. Дети в ожидании подарков, выкупа афсикомана во время праздничной трапезы, пения «Хад гадьи»:
«Козлика, козлика отец мой купил, два зузим за него заплатил. Козлика, козлика, одного только козлика…»
Все как всегда — привычно, знакомо, повторяется из года в год. А радости на лицах людей не видать. Не кончится добром эта история с Рыбаченко, ой, не кончится!
Белошвейка
— Достань из буфета бабушкины ножницы! На верхней полке, в шкатулке. Фейга, ты меня слышишь?
— Да, мамэле.
— Учти, это город. Кругом незнакомые люди. Вечером одна не выходи… Погладить тебе лиловую юбку?
— Не надо, мамэле, я сама.
— Мадам Рубинчик известная дама в Житомире. Постарайся ей понравиться. Кто знает, вдруг она захочет взять тебя в прислуги. Или в горничные. Не говори, что тебе четырнадцать. Скажи — шестнадцать.
Мать прислонилась к стене, смотрит жалостливо, как она укладывает в дорожный сундучок вещи. Все шитое-перешитое, чулки провисли, башмаки со скошенными каблуками.
— Следи за собой. Чаще мойся. Особенно когда у тебя будут эти дела. — Мать поправляет платок на голове. — Сердце не на месте. Никогда так далеко тебя не отпускала.
— Мамэле, не волнуйтесь, все будет хорошо.
Она сдерживается, чтобы не запрыгать от радости. Завтра она будет в Житомире. Одна, вольная как птица! Будет жить у знатных людей, зарабатывать деньги.
— Дай мне пять целковых, Хаим, — обращается мать к отцу.
— Пять целковых? — делает тот удивленные глаза.
— Пять, Хаим. Ты плохо меня слышишь?
— Хорошо, как скажешь…
Отец уходит за занавеску, возится там какое-то время, появляется, протягивает матери хрустящие «билетики».
— Это на крайний случай, — отдает ей деньги мать. — Спрячь подальше. Не пригодятся, привезешь назад.
— Хорошо, мамэле…
Утром она первая на ногах, одета по-дорожному, в соломенной шляпке с лентами. Съела наспех на кухне оладышек, запила теплым молоком. Какое-то время они стоят вчетвером на крылечке, ждут.
— Едет, кажется.
Во двор в облаке пыли въезжает бричка-одноколка с балагулой Нехамьей на козлах.
— Наше вам почтенье, реб Ройтман! — прикладывает Нехамья палец к картузу. — Доброго здоровья, мадам Двора!
Нехамья не торопясь спускается вниз, подходит ближе.
— Кажется, уже на взводе, — говорит мать.
— Мадам Двора, — Нехамья старательно выговаривает слова. — У меня к вам приватный разговор.
— Ни-ни-ни, Нехамья! — отмахивается выразительно мать. — Никаких приватных разговоров! Мы обо всем договорились! Получите всю сумму, когда вернетесь.
— Побойтесь бога! Реб Ройтман, послушайте!..
— Извините! — Отец торопливо целует ее в щеку, сходит с крыльца. — Договаривайтесь с женой, я опаздываю в синагогу!..
— Вот так, милая барышня, — сетует Нехамья, когда они выезжают за ворота. — Честный балагула не может иметь от клиента хотя бы пять копеек аванса. Чтобы подкрепиться в дороге. Когда такое было, скажите, среди евреев?
Она его не слушает. Смотрит по сторонам, покачиваясь на скамеечке. Прощай, унылое местечко! Впереди необыкновенная жизнь, шумный город в огнях, модные магазины, новые знакомства.
— Фейга, шалом! — Выскакивает из мясной лавки Эльякима сын мясника, рыжий Шмуэль.
Первый приставала, пялится всякий раз при встречах, как баран. Приперся на прошлой Рош а шана в дом, принес подарок — якобы от родителей: расписной гребень и набор цветных лент. Попросил у отца разрешения вручить барышне Фейге. Отец с матерью долго после этого о чем-то говорили наедине…
— Куда собралась? — Шмуэль бежит рядом, держась за колесный щиток.
— В Житомир.
— Надолго?
— Не знаю. Может, навсегда.
Она глядит, смеясь, из-под козырька брички, как он застыл истуканом посреди дорожной колеи, как завеса пыли загораживает от нее базарную площадь с греющимися на солнышке козами, домишки под соломенными крышами, деревянные журавли колодцев, покосившиеся заборы, пустыри. Милый, привычный, скукоженный мирок штетла, с которым ей и грустно, и радостно расставаться.
— Н-но, милая! — погоняет тощую кобылку Нехамья.
Бричка поднимается на взгорок, вспугивает с края дороги стайку голубей.
— Н-но-оо! — Приподнимается на козлах Нехамья. Дергает раз и другой поводья — бричка стремительно катит вниз.
Она закрыла глаза, подпрыгивает на ухабах, ей весело и страшно.
«Лечу! — раскидывает широко руки. — Ле-е-чу-у-у!»
Деньги даром не даются. Права мамэле.
Вторую неделю она в доме мадам Рубинчик. Житомира не видела — с утра до вечера за швейным столом. Кройка, подрубка, подшивка, строчка на швейной машинке. Спина как каменная, ноют по ночам исколотые иглами пальцы.
Она — помощница Меланьи Тихоновны, самой дорогой в городе швеи. Наняты обе на полгода шить постельное и нижнее белье к свадьбе старшей дочери хозяйки. Простыни, покрывала, наволочки, пеньюары, панталончики — по двенадцать изделий каждого вида; все должно быть украшено кружевами, гладью, ришелье. Обернуться обязаны до конца октября, работы невпроворот, времени в обрез. Кушают на ходу, отдыхают в мастерской. Вокруг — на диванчике, спинках кресел, подоконнике — куски белоснежного полотна и муара, кружева, лоскуты аппликаций, бумажные выкройки, катушки разноцветных ниток.
Скупая на похвалу Меланья Тихоновна ею довольна.
— Умница, — берет у нее из рук очередную вещь, которую она обшила по краям плетеным кружевом. — Прошва ровненькая, нигде не сбилась. Кто рукодельничать учил?
— Мамуля.
— Добро, клади в стирку…
Заглядывает изредка поглядеть, как готовят приданое, невеста, полнотелая веснушчатая Бейла. Не стыдится заголяться в их присутствии, выставлять напоказ богатые телеса. Примеряет то пеньюар, то панталончики, крутится у зеркала, пыхтит.
— Срамота, — роняет негромко после ее ухода Меланья Тихоновна. Откусывает конец нитки, втыкает в ушко иголки новую. — А ведь приличные вроде люди.
Обед и ужин кухарка приносит им в комнату на втором этаже, превращенную в мастерскую. Еда — с хозяйского стола. Свекольник, мясной студень, разварная рыба — ум отъешь!
— Ох-хо-хо, — тяжело поднимается, отобедав, Меланья Тихоновна. Громко рыгает раз и другой, крестит мелко рот. — Жирный больно стюдень, не для меня… — Усаживается за швейную машинку. — Давай, поторапливайся, Фейга. — Принимается крутить ручку. — Ко мне сноха с сыном приехали, уйду нынче пораньше…
Замечательно: она, наконец, может вечером прогуляться!
Бежит, прибравшись в мастерской, к себе в комнатушку на половине прислуги, тащит из-под койки сундучок с вещами.
Выбор небольшой. Лиловая юбка с оборками, серая кофточка, базарные башмаки. Стоя у окна, она тщательно причесывается, застегивает пуговицы на воротничке.
«Напудриться!»
От неожиданно возникшей мысли ее бросает в жар. Она в растерянности, прикусила губу. Извлекает со дна сундучка бережно хранимую перламутровую пудреницу, оставшуюся от старшей сестры, давит на защелку.
Рисовой пудры — на донышке, дунь, и ничего не останется.
Она глядится в тусклое зеркальце, проводит неуверенно вытертой бархоткой по щекам, кончику носа.
«Ужас: публичная женщина!» — вихрем проносится в голове.
Схватив с гвоздика влажное полотенце она трет что есть силы лицо…
Вечерний Житомир — в душных сумерках, парит после короткого дождя. По Чудновской и прилегающим к ней улочкам еврейского квартала слоняются люди. Еще не закрылись мастерские — портняжные, сапожные, краснодеревщиков, жестянщиков. Пылает огонь в кузнях, стучат молотки, проезжают мимо груженные мешками телеги. Обогнав ее, прошагала мимо группа хасидов в лапсердаках и шляпах, торопящаяся в синагогу.
— Подайте Христа ради погорельцам!
Баба в тряпье с младенцем на руках. Загородила половину тротуара, тянет в сторону прохожих черную от грязи руку.
Она обходит, стараясь не запачкать ботинки, дождевые лужицы. Вокруг горы мусора, полусгнившая рухлядь. Вонища, хоть рот затыкай. Под забором, облепив рыбьи кишки, алчно гудит рой изумрудных мух. Пятясь задом, волочит сквозь кусты грязную кость собака, мальчишка на крыше сарайчика целится в нее камнем.
Она сворачивает с Чудновской на Кафедральную.
— А я вот морду тебе сейчас расквашу! Ты и поймешь!
Кучка мастеровых у дверей трактира. Столпились, хватают один другого за грудки.
Она выразительно размахивает зонтиком, одолженным на вечер у горничной Людмилы, бежит мимо. Замедлила шаг, глядит с любопытством: на той стороне улицы фонарщик на стремянке орудует в раскрытом фонаре. Мгновение, и затеплились стеклянные стенки плафона, мягкий свет облил островок тротуара. Фонарщик спустился на землю, подхватил стремянку, устремился к другому столбу.
На улице все больше народа. Она остановилась перед витриной шляпного магазина, глядит во все глаза.
— К нам, милая барышня! — выбегает из распахнутых дверей приказчик в голубой косоворотке. — Милости просим!
Она в нерешительности. Ужасно хочется войти…
— За погляд денег не берем! — вертится ужом приказчик. — Шляпы загляденье! Парижская мода!
Ой, да ладно! Не съедят же, в конце концов…
Она бродит зачарованно вдоль застекленных шкафов. Сон наяву, разбегаются глаза. Шляпки на любой вкус, любое время года, любую погоду. Велюровые, фетровые, из шелка, соломки. Отделка из страусовых перьев, искусственных цветов, чучел птиц. С шелковыми и кружевными лентами завязок, кисейными наколками, закрывающими шею, красивыми булавками из меди и серебра.
Выскользнула из портьеры, закрывающей боковую дверь, дама в строгом платье, глядит в ее сторону, шепчется о чем-то с приказчиком.
— А вот эту примерьте! — кидается тот из-за прилавка.
Уловил ее взгляд, достает с полки… невозможно оторваться. Миниатюрная малиновая шляпка. Без полей, наподобие раковины, на тулье букетик из перышек попугая, серебряная булавка с голубым камнем. Она уже видит себя в шляпке, по всему видать — из Парижа. Чудо, чудо! Наклонить чуточку на правую бровь, выпустить из-под края локончик…
— Позвольте!
Приказчик, похоже, хочет ей помочь, пробует снять с головы ее соломенную стыдобу огородного пугала.
— Нет, нет, спасибо!
Она бежит стремительно к выходу.
— Барышня, постойте! — доносится вслед.
Она на тротуаре, обгоняет прохожих. Впереди суматоха, слышны полицейские свистки.
— Ломбард ограбили! — слышится в толпе.
— Чей, когда?
— Адисмана ломбард! Только что!
— Адисмана?
— Ага, на Острожской который. Рядом с бакалеей…
Ей не по себе. На сегодня, пожалуй, хватит, пора домой. Сворачивает в переулок, чтобы сократить путь, останавливается. В переулке темно, мрачные какие-то постройки по сторонам. Не хватало еще заблудиться…
Она не успевает повернуть назад. Мимо, едва не задев колесами, проносится грохоча коляска, заваливается набок, опрокидывается. Бьется, пытаясь подняться, лошадь, выбираются наружу какие-то люди, бегут вдоль деревьев. Один, в мятом картузе, волочит ногу, отстает. Стаскивает с плеча сумку, размахивается широко — сумка летит в заросли крапивы. Оборачивается в ее сторону…
— Ярослав, Кирилл! — кричит. — Не задерживайтесь, уходите дворами! Я остаюсь!
Парень ковыляет решительно в ее сторону. Она оцепенела, ноги как ватные, не слушаются: сейчас начнет душить!
— Тихо!
Он обнимает ее рукой за плечи. Совсем еще мальчишка. Пышный чуб из-под околышка фуражки, дышит прерывисто, тяжело…
— Иди спокойно! Я твой миленок, ясно? Гуляем…
Прилаживается поудобнее:
— Не дрожи, не съем… Голову положи на плечо…
Из темноты в конце переулка показываются верхоконные. Скачут по мостовой, надвигаются, загарцевали рядом. Полицейские. Шашки на перевязи, кобуры.
— Кто такие? — перегнулся с седла старшой.
— Фабричные, — отзывается парень. — С маслобойки.
— Людей бегущих видали? С коляски энтой… — старшой указывает на опрокинутую пролетку.
— Видали. Двоих али троих. Один, кажись, с сумкой. Побегли в сторону Рыбной…
— Ага, давай! — трогают коней полицейские.
Топот копыт, всадники исчезают за углом.
— Накось, выкуси! — Парень смачно сплевывает под ноги. — Фараоны хреновы!
Оборачивается воровато по сторонам, ковыляет к кустам крапивы, возвращается с сумкой.
Они идут бок о бок, парень прикрывает полой рубахи сумку, старается не хромать.
— Живешь где?
— На Чудновской.
Свернув за угол, они выходят на перекресток. В жидком свете фонарей можно разглядеть его лицо. Чернобровый, синие-пресиние глаза. Совсем не страшный.
— Учишься? Гимназистка?
— Работаю. У мадам Рубинчик. Белошвейкой.
— А, у сахарозаводчицы? Слыхал… О том, что видела, ни слова! — у него посуровел голос. — Никому, никогда! Проболтаешься, пожалеешь. Поняла?
Она кивает молча в ответ.
Испарился он внезапно. Подтолкнул слегка в спину, когда они огибали башню водокачки, пропал из виду.
Она не помнит, как добралась до дому. Долго стучала в калитку. Сонный сторож о чем-то спрашивал, она не отвечала. Перебежала двор с цветочными клумбами, завернула к флигелю. Поднялась по скрипучей лестнице, отперла дверь. Ворочалась в постели, вставала, пила воду. В мыслях вертелось безостановочно: опрокинутая коляска… полицейские в седлах… синеглазый парень…
— Новость слыхала? — спросила утром усаживаясь за машинку Меланья Тихоновна. — Ломбард Адисмана ограбили. Анархисты вроде бы. Денег, грят, тыщи полторы унесли, если не больше. Самого едва на тот свет не спровадили… Вид у тебя… — покосилась из-под очков. — Спала плохо?
— Да, чего-то. Комары заели…
— По дому скучаешь. Эх-хе-хе… Ну, давай за работу. Воз и тележка еще шитья впереди…
1904 год: газетная хроника
Январь:
«Новое время»:
МОСКВА. «Придерживаясь старого обычая, большая часть населения Москвы встречала Новый год с бокалами вина в клубах и ресторанах. Начиная от «Эрмитажа» и «Тестова» и кончая «Стрельной» и «Яра», везде царило оживление и веселье. Почти до рассвета мчались по городу тройки, развозя по домам публику, хотя и преисполненную светлых надежд, но достаточно уставшую и опустошившую карманы».
ВЛАДИВОСТОК. «Сегодня здешние японцы мирно праздновали свой Новый год. Относительно переговоров между Японией и Россией ничего не известно».
МОСКВА. «В Строгановском училище открылась первая выставка недавно основанного Союза русских художников. Выставка включает в себя до 200 произведений, среди которых находятся работы: В. Васнецова, А. Васнецова, К. Коровина, Малютина, Головина и др. Выставка обильна, но малоинтересна».
МОСКВА. «Вчера на катке Патриарших прудов происходило состязание конькобежцев, устроенное Русским гимнастическим обществом. Дистанция 1500 метров. Из 14 бежавших первым сделал дистанцию г. Седов — 2 мин. 43 сек.».
«Новости дня»:
МОСКВА. «Проживавший в собственном доме, в Малом Харитоньевском пер., г. Рябушинский проезжал на автомобиле по Триумфальной площади, где лошадь лихача кр. Емельяна Рощина, испугавшись автомобиля, помчалась с такой силой, что сдержать ее Рощин был не в состоянии. У соединительной линии Московско-Брестской жел. дор. с Николаевской у Тверской заставы лошадь налетела на острие барьера, пропорола себе живот и тут же пала. Выброшенный из саней Рощин тяжко разбился. Павшая лошадь стоит 600 рублей».
ПЕТЕРБУРГ. «В Зимнем дворце состоялся первый большой бал. Приглашенных было около 3000. В 9.30 вечера вышли в Николаевский зал Их Величества. Первый тур польского Государь Император шел с Государыней Императрицей Александрой Федоровной. Государь был в мундире лейб-гвардии гусарского полка при Андреевской ленте, Государыня Александра Федоровна — в белом серебристом туалете при Андреевской ленте, имея на голове диадему, а не шее ожерелье из дивных бриллиантов».
ПЕКИН (РЕЙТЕР). «На основании последних известий из Токио, в здешних миссиях придерживаются того мнения, что война неизбежна. Разногласия между Россией и Японией не заключаются вовсе в подробностях, а касаются существенного принципиального вопроса о том, имеет ли Япония право вмешиваться в дела Маньчжурии. Россия оспаривает это».
ПЕТЕРБУРГ. «Вчера знаменитому химику Д.И. Менделееву удачно совершена операция снятия катаракты».
Февраль:
«Русь»:
МОСКВА. «Наплыв публики в Художественный театр, желающей посмотреть «Вишневый сад», так велик, что нет никакой возможности вести запись и соблюдать очередь. А потому решено, что сегодня в 9 часов утра будет устроена лотерея для всех явившихся, и в театр попадут, разумеется, только счастливые».
ПЕТЕРБУРГ. «По поручению своего правительства японский посланник при Высочайшем Дворе передал ноту, в коей доводится до сведения Императорского правительства о решении Японии прекратить дальнейшие переговоры и отозвать посланника и весь состав миссии из Петербурга».
МОСКВА. «Телеграмма о перерыве дипломатических отношений между Японией и Россией произвело в Москве колоссальное впечатление. Всюду бодрые лица, бодрые речи.
— Ну, что ж! Война, так война, коли они того хочут, — говорит мастеровой, бережно складывая заскорузлыми руками телеграмму и пряча ее в кошелек. — Все одно они нас не одолеют!
— Где одолеть! — сочувственно подтверждает другой простолюдин. — Мы грудью станем!
Старик вспоминает объявление в Москве войны 1877-78 года. Молодежь слушает его, затаив дыхание.
— А что, японец страшнее турки? — спрашивает какой-то молодец в белом фартуке поверх нагольного полушубка.
Вопрос остается без ответа. Никто не видел японцев, разве только на картинках».
ПЕТЕРБУРГ. «Всеподданнейшая телеграмма, полученная Его Императорским Величеством от наместника на Дальнем Востоке.
«Всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству, что около полуночи с 26 на 27 января японские миноносцы произвели внезапную минную атаку на нашу эскадру на внешнем рейде крепости Порт-Артур, причем броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада» получили пробоины. Степень их серьезности выясняется. Подробности предоставлю Вашему Величеству дополнительно. Генерал-адъютант Алексеев».
«Правительственный листок»:
ПЕТЕРБУРГ. «Высочайший манифест.
Божиею поспешествющей милостью, Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский, Государь Польский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны Повелитель; и Государь Иверский, Картлинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и Горский Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Сормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем Нашим верным подданным:
В заботах о сохранении дорогого сердцу Нашему мира, Нами были предложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Востоке. В сих миролюбивых целях Мы изъявили согласие на предложенный Японским Правительством пересмотр существовавших между обоими Империями соглашений по корейским делам. Возбужденные по сему предмету переговоры не были, однако, приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений Правительства Нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических сношений с Россиею. Не предуведомив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собой открытие военных действий, Японское Правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать Нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур. По полученным о сем донесении Наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооруженной силой ответить на вызов Японии.
Объявляю о таковом решении нашем, Мы с непоколебимою верою в помощь Всевышнего и в твердом уповании на единодушную готовность всех верных Наших подданных встать вместе с Нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестные Наши войска армии и флота. Дан в Санкт-Петербурге в двадцать седьмой день Января в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четвертое, Царствования же Нашего в десятое. На подлинном Собственною Его Императорского Высочества рукою подписано
НИКОЛАЙ».
Хлеб и воля
— Товарищи, товарищи! Ну, невозможно же! Товарищ Стрига с дороги, устал. Имейте сознание, потише!
В комнате табачный дым до потолка, шум, толчея. Столпились вдоль стен, по углам, сидят по двое на шатких табуретах, на кровати, подоконнике. Приезжий — моложавый, с курчавой светлой бородкой член группы «Екатеринославских рабочих анархистов-коммунистов» — привык, судя по всему, к любой обстановке. Ждет терпеливо, улыбается.
— Друзья! — произносит, улучив момент. — Еще раз повторяю: отношение наше к войне решительное: никакого сочувствия кровавой власти! Тем более поддержки. Сцепились буржуи двух империй — не поделили Корею и Маньчжурию. Черт с ними — пусть свернут себе шею! Легче будет справиться, когда наступит час решающего штурма ненавистного режима…
Закашлялся, хлебнул остывшего чая из стакана.
— Давайте обсудим текущие дела. Кто-то из присутствующих, по-моему, вы, товарищ, — кивнул в сторону низкорослого мастерового у стены, — просили рассказать о деятельности наших анархистских ячеек. Скажу честно: похвастать особо нечем. Набираемся сил. В нынешнем году провели одно покушение в Белостоке на владельца прядильной фабрики. Когда его рабочие забастовали из-за невыносимых условий труда, он вызвал на подмогу штрейкбрехеров. Произошла кровавая стычка, пострадали десятки пролетариев. В отместку наш товарищ Нисан Фарбер подкараулил директора на ступенях синагоги и нанес ему несколько ударов ножом… К сожалению, это у нас пока единственное на сегодня громкое дело. Занимаемся устной пропагандой, проводим беседы среди рабочих и ремесленников, устраиваем сходки. Беда: нет своей типографии. Выпустили несколько листовок на гектографе с призывом к бедноте и трудящимся к самовооружению, распространяем инструкции по изготовлению простейших бомб. В случаях преследования пролетариев со стороны хозяев расклеиваем на заводах и фабриках прокламации, обещаем суровую расправу над директорами и их лакеями-мастерами. Один, как вы только что слышали, получил по заслугам, остальные, как говорится, на мушке…
— Ваше отношение к экспроприациям, товарищ?
Из-за спин стоящей у окна молодежи выбирается парень в алой косоворотке с щегольским чубом набоку. Смотрит прищурясь, с вызовом.
— С оговорками, товарищ. А ваше?