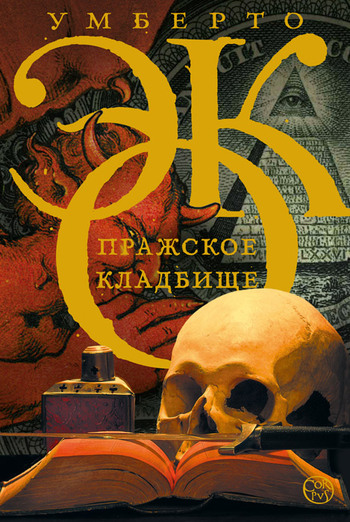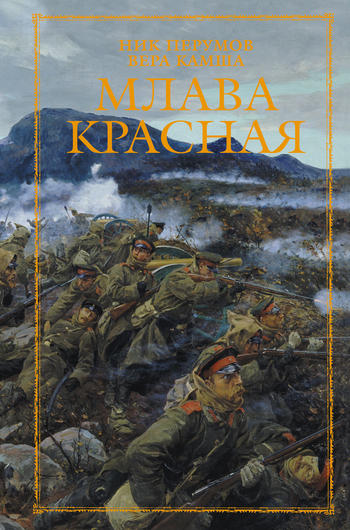Хроники Фрая Фрай Стивен

А откуда берутся деньги на декорации, на костюмы? Их приносят предыдущие постановки. В каждом театральном клубе имеется организационный комитет, состоящий главным образом из второ— и третьекурсников, и один из его членов занимается бюджетом и деньгами. Клуб давал человеку возможность обучиться не только театральному искусству, но и комитетской жизни, деловой дотошности и ведению бухгалтерии, познакомиться со всеми опасностями и капканами бизнеса и менеджмента. Иногда клуб мог попросить одного из донов войти в его правление и помочь в ведении денежных дел, однако власть, которую получал в комитете такой человек, была не большей, чем у любого другого его члена. Ходил слух, что «Огни рампы» — единственный из всех клубов Кембриджа, который платит корпоративный налог на прибыль, настолько он велик и доходен. Не знаю, правда ли это, однако сам факт существования такого слуха говорит кое-что о размахе деятельности этих театральных компаний. И огромную роль играла тут ее неразрывность. Эти клубы просуществовали уже столько времени, что поддерживать их в состоянии движения относительно просто.
Первой пьесой, какую я пошел посмотреть, была «Травести» Тома Стоппарда. Действие ее разворачивается в Цюрихе и соединяет в фарсовом вихре изгнанного из России Ленина, дадаиста Тристана Тцара, писателя Джеймса Джойса и английского консула по имени Генри Карр, который по ходу этой пьесы ставит другую — «Как важно быть серьезным» Уайльда.
Режиссеров было двое — Бриджид Лармур, нынешний художественный руководитель театра «Уотфорд Палас», и Аннабель Арден, которая ставит теперь оперы по всему миру. В те дни они были умненькими первокурсницами, с ходу взявшимися за свое дело. Надеюсь, другие участники труппы простят меня за то, что я не стану говорить об их замечательном вкладе в успех этого представления. Спектакль и сам по себе был по-настоящему прекрасен, но сильнее всего поразила меня игра одной из актрис. Девушка, исполнявшая роль Гвендолен, просто-напросто бросалась в глаза — как доброе дело в греховном мире.
Она казалась родившейся, подобно Афине, уже во всеоружии. Голос, движения, чистота, легкость, осанка, остроумие… в общем, жаль, что вас там не было. Одно из наилучших качеств любого человека сцены — будь то эстрадный комик, исполнительница чувствительных песенок, балетный танцор, характерный актер или трагик — это умение умиротворить публику. Внушить зрителям: все будет хорошо, вы можете откинуться на спинки кресел и радоваться мысли, что потратили вечер не зря, провала не предвидится. Разумеется, еще одно наилучшее актерское качество — это способность разбудоражить публику так, чтобы она почувствовала опасность, непредсказуемость, ненадежность происходящего. Внушить зрителям: все может рухнуть в любую минуту, так что вытяните шеи и будьте бдительны.
Если вам удается и то и другое сразу, вы действительно нечто из ряда вон выходящее. Вот такой эта девушка и была. Среднего роста, с прекрасным английским цветом лица, она выглядела то сумрачно прекрасной, то уморительно смешной, то не по годам властной, уверенной в себе. В программке значилось ее имя: Эмма Томпсон. В антракте я услышал, как кто-то сказал, что она — дочь Эрика Томпсона, рассказчика в сериале «Волшебное приключение».
Перескочим в март 1992 года. Эмма получает за роль Маргарет Шлегель в «Говардс Энд» премию «Оскар» как лучшая актриса. Журналисты обзванивают всех ее старых знакомых, выясняя, что они на сей счет думают. А надо вам сказать, что существует своего рода неписаное правило: если журналист просит вас рассказать о ком-то, вы не должны говорить ни слова, не получив на то предварительного согласия этого человека. Хотите рассказать о себе — пожалуйста, а трепаться о других без их разрешения — это не дело. И вот один из особо ретивых журналистов, получив в том или ином виде отпор от всех давних знакомых Эммы, разживается где-то телефоном Кима Харриса.
— Алло?
— Здравствуйте, я из «Пост». Насколько я знаю, вы — старый университетский знакомый Эммы Томпсон?
— Да-а-а…
— Вы не могли бы сказать что-нибудь по поводу ее «Оскара»? Вас эта награда не удивила? По-вашему, Эмма ее заслужила?
— Не буду вилять и скажу вам прямо, — отвечает Ким. — Я чувствую себя преданным и оплеванным. Эмма Томпсон страшно меня разочаровала.
Журналист едва не роняет трубку. Ким слышит, как он посасывает карандаш, а затем — Ким клянется, что так оно и было, — звук, с которым ударяется о ковер капля слюны.
— Преданным? Вот как? Я слушаю. Продолжайте.
— Каждый, кто видел Эмму Томпсон в университете, — говорит Ким, — готов был поспорить на какие угодно деньги, что она получит «Оскара» еще до того, как ей исполнится тридцать. А сейчас ей хоть и немногим, но больше тридцати. Невыносимое разочарование.
Не такое невыносимое, как то, что испытал журналист, на миг решивший, что он вот-вот получит отличный материал для статьи. Ким проделал это, как делает почти все, идеально. Больше сказать об Эмме было действительно нечего. Среди студентов насчитывалось немало талантливых, в том числе и необычайно, людей, можно было с уверенностью сказать, что при благоприятном попутном ветре, хороших возможностях, правильном руководстве и уходе их ожидают достойные, а то и блестящие карьеры. Эмму же довольно было увидеть только раз — и все становилось ясным. Звезда. «Оскар». Орден Британской империи. Последнего она еще не получила, но никуда не денется, получит, будьте уверены.
Всем нам нравится, когда великолепная актриса оказывается существом пустоголовыми, сумасбродным и чарующе глупым. Эмма безусловно способна продемонстрировать… бодряще своеобразный подход к процессу логического мышления… однако пустоголовость, сумасбродство и глупость — это не про нее, она — одна из самых ясно мыслящих и интеллигентных людей, каких я только знаю. Тот факт, что второго своего «Оскара» она получила — через два года после первого — за сценарий, говорит все, что нам следует знать о ее умении сосредоточенно думать и трудиться. Неприятно, конечно, видеть человека, столь щедро осыпанного при рождении дарами природы, однако Эмма добра, открыта и мила до того, что обижаться на нее или завидовать ей оказывается делом непростым. Я понимаю, что мы ступили здесь на пропитанную елеем и патокой почву — «дорогие мои, какая ж она прелестная-расчудесная», — однако в книгах вроде этой без подобного риска никак не обойтись. Я вас уже предупреждал. А в утешение тем из вас, кто придерживается несколько иных взглядов на эту женщину, могу сказать, окончательно и бесповоротно, что она — бесталанная, психованная, стервозная свинья, которая таскается по улицам Северного Лондона, напялив всего лишь пару резиновых сапог, да и те у нее разного размера. Роли в фильмах она получает только потому, что спит с домашними животными продюсеров. И вообще от нее дурно пахнет. Никаких сценариев она отродясь не писала. Опоила лет двадцать назад на вечеринке какого-то борзописца, посадила его на цепь, вот он и катает все, что публикуют за ее подписью. А пресловутые принципы этой дамочки, либеральные и гуманные, так же поддельны, как ее груди: она давно уже состоит в гестапо и по сей день оплакивает кончину апартеида. Вот вам Эмма Томпсон: любимица дураков и любительница подурить.
Несмотря на или вследствие этого, мы подружились. Она училась в женском колледже, в «Ньюнеме», где занималась, подобно мне, английской литературой. Она была забавной. Очень. И склонной к крайностям в следовании моде. В один прекрасный день она решила остричься наголо — я виню в этом влияние Энни Леннокс. Мы с Эммой посещали на английском факультете один и тот же семинар и как-то утром, после очень интересного обсуждения «Зимней сказки», шли по Сиджуик-авеню к центру города. Она стянула с головы шерстяную шапочку, чтобы я мог провести ладонью по ее обритой макушке. В те дни голая, как яйцо, женская голова была изрядной редкостью. Проехавший мимо нас на велосипеде мальчик обернулся и, поскольку оторвать полный ужаса взгляд от поблескивавшего кумпола Эммы ему ну никак не удавалось, врезался в дерево. Я всегда полагал, что такое случается только в немых фильмах, но теперь увидел собственными глазами и преисполнился счастья.
Начался и закончился первый триместр, а я так и не решился сходить куда-нибудь на прослушивание. Я видел актеров — во всяком случае, одного — таких же поразительных, как Эмма, но видел и множество других, получавших роли, которые я, казалось мне, мог бы сыграть и лучше, но уж точно не хуже. И тем не менее мешкал.
Большая часть моей жизни в колледже и в университете в целом шла по легкому, накатанному пути. Я вступил в «Кембриджский союз», не имевший ничего общего со «студенческими союзами», но бывший дискуссионным обществом с собственным залом, своего рода палатой общин в миниатюре: дерево, кожа, витражи плюс галерея и двери с табличками «Да» и «Нет», через которые полагалось проходить после того, как «спикер» ставил какое-то предложение на голосование. В общем, все там было немного помпезно, но отдавало стариной и традицией. Многие из членов кабинета Маргарет Тэтчер прошли в начале шестидесятых через «Кембриджский союз»: Норман Фаулер, Сесил Паркинсон, Джон Селвин Гаммер, Кен Кларк, Норман Ламонт, Джеффри Хау… вся эта компания. Я не питал к политике склонности, достаточной для произнесения речей или стараний попасть во внутренний круг «Союза», мне не интересно было задавать вопросы из зала или еще как-то участвовать в дискуссиях. Я видел нескольких известных людей — Бернарда Левина, лорда Левера, Еноха Пауэлла и еще кое-кого, — приезжавших туда, чтобы обсудить важнейшие вопросы современности, какими они были в те дни. А именно, насколько я помню, проблемы войны, терроризма, бедности, несправедливости… теперь все они успешно разрешены, но тогда казались крайне насущными. Раз в триместр происходили и дискуссии «потешные», как правило, на какую-нибудь замысловатую тему вроде «Наша Палата свято верит в брюки» или «Наша Палата предпочла бы стать скорее воробьем, чем улиткой». На одной такой я поприсутствовал. Украшенный усищами, пьяный в зюзю комик Джимми Эдвардс играл на тубе, рассказывал замечательные анекдоты, а после — как меня уверяли — во время обеда перегладил бедра всех миловидных молодых мужчин. С тех времен меня множество раз приглашали на дискуссии в Кембридж, Оксфорд и другие университеты, и среди проводивших эти дискуссии молодых людей попадались ослепительно миловидные и до дрожи красивые, однако я так и не обзавелся навыками, позволяющими мне напиваться и гладить кого-либо по бедрам. Означает ли это, что я — галантный и благопристойный джентльмен, или трусливый рохля, или непредприимчивый ханжа, я так пока и не понял. Во всяком случае, чужим бедрам в моем присутствии ничто не грозит. Возможно, это переменится, когда я вступлю в осеннюю пору моей жизни и перестану чрезмерно беспокоиться о том, что обо мне могут подумать.
Ким первым делом вступил в «Университетский шахматный клуб» и играл за него в соревнованиях с другими университетами. Никто не сомневался, что он получит голубой или, вернее, полуголубой знак отличия. Вам, возможно, известно, что в Оксфорде и Кембридже имеются такие спортивные награды. Вы можете представлять Кембридж и его традиционный голубой цвет на хоккейном, к примеру, поле[47] почти в каждом матче сезона и быть самым лучшим из всех игроком, но если вы пропустите «Университетский матч» — игру против синего Оксфорда, — голубого знака отличия вам не видать. «Голубой» («синий» в Оксфорде) означает, что вы сражались с Супостатом. «Гребные гонки» и «Университетские матчи» по регби и крикету — это схватки наиболее прославленные, однако между Оксфордом и Кембриджем проводятся соревнования по всем мыслимым видам спорта и играм, от дзюдо до настольного тенниса, от бриджа до бокса, от гольфа до дегустации вин. Участники таких «второстепенных» состязаний награждаются «полуголубым» знаком, и Ким получил его, выступая за Кембридж и против Оксфорда в «Университетских шахматных матчах», которые проводились на деньги «Ллойдз Банка» в здании Королевского автомобильного клуба на Пэлл-Мэлл. Он играл в этих матчах все три своих кембриджских года и получил в 1981-м приз за лучшую партию.
Мы с Кимом были близкими друзьями, но любовниками пока не стали. Он сох по второкурснику, которого звали Робином, а я ни по кому в частности не сох. Может быть, потому, что любовь слишком жестоко обошлась со мной в мои отроческие годы. Любовь, которую я пережил в школе, была такой полной, пылкой и душераздирающей, что я, как мне кажется, заключил с собой некое подобие подсознательного договора: никогда не предавать чистоту ее упоительного совершенства (я знаю, знаю, но вот такое вот у меня было чувство), никогда больше не распахивать душу перед такой болью и мукой (сколь бы возвышенными они ни были). В колледжах и городе имелось множество привлекательных молодых мужчин, и большее статистически обычного число их производило впечатление самых распрогеевских геев. Я помню одну-две пьяные ночи, проведенные мною в моей или чьей-то еще постели и сопровождавшиеся неуклюжей возней, обжиманьями, потираниями и комически вялыми незадачами, как помню и куда более редкие пиршества с поющими фанфарами и триумфами телесных свершений, однако любовь держалась от меня в сторонке, и, каким бы сластолюбцем ни был я во множестве иных отношений, и награды, и наказания чувственности проходили мимо меня.
Примерно за неделю до завершения первого триместра у меня спросили, не желаю ли я войти в состав комитета по подготовке Майского бала. Большинство университетов устраивает такие летние торжества, дабы отпраздновать окончание экзаменов и начало долгих каникул. В Оксфорде они называются Балами поминовения, в Кембридже — Майскими балами.
— Каждый год мы включаем в наш комитет по одному первокурснику, — сказал мне председатель комитета, — так что, когда в ваш последний год придет время Майского бала, вы будете знать о нем все.
Я так и не решился спросить, почему из всех первокурсников комитет выбрал именно меня. Возможно, члены его считали, что я отличаюсь особым стилем, savoir faire,[48] diablerie,[49] энергией и грациозностью манер. А возможно, они сочли меня беспрекословным сосунком, готовым пожертвовать им часы и часы своего времени.
— В любом случае, — сказали мне, — войдя сейчас в комитет Майского бала, вы станете на третьем вашем году его председателем, а это очень украсит ваше резюме. Позволит вам получить хорошее место в Сити.
Близились уже времена, когда получение места в Сити начало восприниматься не как вступление на постыдный путь, ведущий к конторской тягомотине и обременительным обрядам, но как пленительная, волнующая, желанная участь, о какой только может мечтать любой представитель мировой элиты.
Члены комитета Майского бала, как и следовало ожидать, были выпускниками частных школ. Многие из них состояли также в закрытом клубе «Куинз-колледжа», носившем название «Херувимы», — вся его деятельность сводилась к устройству обедов и попоек. Я понимаю, что мне следует взирать на институции вроде Майских балов и обеденных клубов с ироническим пренебрежением, величавым презрением и нетерпеливым негодованием, однако, едва узнав о существовании «Херувимов», я решил стать его членом. Я как-то услышал Алана Беннетта, сказавшего, что снобизм — «порок очень симпатичный», и меня эти слова удивили. «Я говорю о снобизме, — продолжал он, — который с обожанием взирает снизу вверх. Он, разумеется, глуп, но симпатичен. А вот тот, что с презрением смотрит сверху вниз, симпатичным не назовешь. О нет». Не стану отрицать, какой-то налет симпатичного снобизма во мне присутствует. По-моему, я никогда не смотрел сверху вниз на людей «низкого происхождения» (что бы сие ни означало), не могу, однако, не признать, что меня влекло к людям «происхождения благородного» (что бы ни означало сие). Слабость, конечно, нелепая, я мог бы с легкостью притвориться, что избавлен от нее, но, поскольку я не избавлен, мне лучше сознаться в ней. Думаю, и она тоже объясняется вечным ощущением моей отверженности, вечной нуждой доказать, что я — часть чего-то большего, нуждой, которой человек, и вправду причастный к чему-то большому, не обременен. Ну, в общем, что-то в этом роде.
Триместр продолжается в Кембридже всего восемь недель. Университет называет это «полным сроком» и ожидает, что вы проведете его в городе, никуда не отлучаясь, — теоретически, если вы хотите куда-нибудь улизнуть, вам необходимо получить у декана или старшего тьютора разрешение на «отлучку»; конец одного «полного срока» отделяют от начала следующего примерно четыре недели, которыми вы можете распоряжаться по собственному усмотрению. Отбыв первый мой «полный срок», я прямиком отправился в «Кандэлл» и преподавал там в течение трех недель, еще остававшихся от более долгого школьного триместра. И после Рождества, проведенного с родителями в Норфолке, вернулся на неделю в «Кандэлл», а оттуда в Кембридж — к началу Великопостного триместра.
Сам тот факт, что это мой второй триместр, по-видимому, освободил во мне какую-то пружинку, поскольку в первую же неделю я побывал на трех прослушиваниях. И получил после каждого по роли — и именно те, какие хотел получить. Я сыграл Джеремию Санта, сумасшедшего, смахивающего на Иана Пейсли[50] ольстерца в сделанной Питером Луком инсценировке романа Корво «Адриан Седьмой»; сходящего с ума от встречи с привидением еврейского портного в «Шинели на заказ» Вольфа Манковича и не помню кого в дневном спектакле «Тринити-Холла», посвященном теме шотландского национализма. Что и определило для меня рисунок триместра, на всем протяжении коего я бегал с репетиций на прослушивания, оттуда на спектакли, а с них опять на прослушивания, репетиции и спектакли. Спектакли были дневные, вечерние и ночные, однако, если бы кто-то додумался до утренних, я участвовал бы и в них. По-моему, за восемь недель этого триместра я сыграл двенадцать ролей. Учеба более-менее вторгалась в театральную жизнь студента только в лице тьюторов. Вы могли пойти — один или с кем-то — в жилье дона, прочитать ему написанную вами работу, поговорить о ней, а затем обсудить еще какого-нибудь писателя, литературное течение или явление и уйти, пообещав представить эссе о нем на следующей неделе. И я обратился в специалиста по оправданиям:
— Мне очень жаль, доктор Холланд, но я по-прежнему пытаюсь разобраться в эсхатологии «Потерянного рая». Думаю, мне потребуется для этого еще неделя.
Признаваться в этом мне стыдно и унизительно, но я обыскивал словари в поисках литературных и философских терминов, слов наподобие «эсхатология», «синкрезис» и «синтагматика».
— Ничего, ничего. Не торопитесь.
Доктора Холланда я не мог одурачить и на секунду. Он давно привык к студентам и их утомительному щегольству длинными словами (вы наверняка и сами не раз уж морщились, натыкаясь на них в этой книге: черного кобеля не отмоешь добела), к тому же он почти наверняка побывал самое малое на двух спектаклях, в которых я играл на той неделе, и превосходнейшим образом знал, что я трачу каждый час моего времени на театр и ни одного на учебу. В Кембридже на такое поведение смотрят сквозь пальцы. Пока университет держится мнения, что экзаменов на ученую степень вы не завалите, давить на вас он не станет. А шансы завалить их баснословно малы. Возможно, тут сказывается и высокомерие университета: он уверен, что каждый, кто в него принят, по определению не способен провалиться на экзамене. Все остальное университет и колледжи весьма благоразумно предоставляют вам самим. Если человек хочет работать в поте лица, чтобы получить диплом с отличием, ему предоставят какую угодно помощь; если он предпочитает махать веслами на реке или разгуливать в трико, изрыгая пентаметры, — тоже неплохо. Университет насквозь пропитан спокойным доверием к своим студентам.
Великопостный триместр потонул в вихре актерства. И к концу его я стал своим человеком в небольшом мирке кембриджского театра. Этот маленький микрокосм отражал эзотерические кружки («esoteric coteries» — каково? Я поставил эти слова рядом лишь потому, что одно — анаграмма другого), клики и фракции более обширного внешнего мира. Бар ЛТК наполнялся гулом разговоров об Арто и Ануйе, Станиславском и Гертруде Стайн, Брехте и Блине.[51] Многих начинающих, честолюбивых спортсменов, ученых и политиков, даже обладай они самыми что ни на есть здоровыми желудками, потянуло бы от наших разговоров на рвоту. Не исключено, что мы использовали слово «дорогой» как обращение друг к другу. Я-то уж точно использовал. А то и что-нибудь похуже: «пупсик», «ангел мой» или «глупыш». Унизительный эпитет «милок» в театральной среде тогда еще не прижился, ну да и что ж с того, мы — avant la lettre[52] — были «милками» все до одного. Можно, пожалуй, сказать, что нас подбодряли история и прецедент: Питер Холл, Джон Бартон, Ричард Айр, Тревор Нанн, Ник Хайтнер, Джеймс Мэйсон, Майкл Редгрейв, Дерек Джекоби, Иэн Маккеллен… список гигантов театра, которые облокачивались о стойку этого же бара и мечтали о том же, о чем и мы, был вдохновительно длинным. Но почему же я так быстро пробился в эту компанию? Был ли я и впрямь настолько талантлив? Или все прочие были еще бесталаннее? Хотел бы я это знать. Я могу припомнить множество картин, событий, серьезных переживаний, однако стоящая за ними эмоциональная память сгладилась, стала нечеткой. Был ли я честолюбивым? Да, думаю, неким потаенным образом был. Я всегда оставался слишком гордым для того, чтобы это показывать, однако жаждал войти в глуповатый микроскопический кембриджский эквивалент мира звезд. Думаю, когда капитан регбийной команды колледжа видит, как некий первокурсник выходит на поле и использует первую же возможность, чтобы совершить пробежку и передачу мяча, он сразу же понимает, может этот малый играть в регби или не может. Полагаю, что и я — при всех моих сценических недостатках (физической неловкости, чрезмерной опоре на текст, склонности предпочитать ироническую сокрушенность открытой эмоции) — показал на прослушиваниях, что обладаю по крайней мере одним достоинством: присутствие мое на сцене публика стерпит. Преодолев все препоны прошлого, я вышел из него высоким, худым, способным держаться с достоинством, обладающим раскатистым голосом студентом, умевшим производить впечатление человека и семнадцати, и тридцати семи лет. Этот студент умел «притягивать», что называется, внимание зала к себе, но умел и отступать в тень. Относительно его способности вселяться в своего персонажа, проходить вместе с ним весь его сценический жизненный путь и так далее и тому подобное я не уверен, но, по крайности, того, что он вгонит кого-то в краску стыда, от него можно было не ждать.
Впервые выйдя на сцену, я почувствовал себя попавшим домой, целиком и полностью, отчего мне стало даже трудно напоминать себе, что почти никакого актерского опыта у меня нет. В театре я любил все. Любил его достойные осмеяния стороны, мгновенно рождающийся дух товарищества, глубокую привязанность, которую испытываешь в нем к каждому, кто причастен к спектаклю, любил долгие обсуждения мотивов, которые движут персонажами, любил читки, и репетиции, и технические прогоны, любил примерять костюмы и экспериментировать с гримом. Любил нервный трепет, который испытывал, стоя за кулисами, любил почти мистическое, сверхчувственное осознание каждой микросекунды, которую проводил на сцене, ощущение точности, с которой мог в каждый данный момент сказать, на что именно направлено внимание публики, любил трепет, охватывавший меня, когда я понимал, что увлекаю за собой сотни людей, что они скользят, точно серфингисты, по приливным и отливным волнам моего голоса.
На самом деле удовольствие, которое ты получаешь на сцене, вовсе не связано с наслаждением зрительской любовью, вниманием и обожанием. Не связано оно и с властью над публикой, которую ты (как тебе кажется) обретаешь. Ты просто ощущаешь себя совершенно живым и до изумления совершенным, поскольку понимаешь: ты делаешь именно то, ради чего тебя послали на землю.
Не так давно я сопровождал в Кению нескольких родившихся на севере белых носорогов. Их перевозили из зоопарка Чешской Республики, кроме которого они ничего в жизни не видели. Безумно трогательно было смотреть, как эти животные поднимают тяжелые головы, чтобы взглянуть в огромное небо над саванной, как впитывают звуки и запахи среды обитания, к которой гены приспосабливали их в течение миллионов лет. Быстрые, неверящие всхрапы, помахивания рогами из стороны в сторону, подергивание шкур на боках — все говорило: они самым нутром своим понимали, что оказались там, где им и полагается быть. Не стану уверять вас, будто сцена — это моя саванна, однако я испытывал на ней нечто подобное тому порожденному окончательным возвращением домой приливу облегчения и счастья, который, похоже, ощутили носороги, впервые унюхавшие воздух Африки. Остается лишь пожалеть, что профессиональный «взрослый» театр не позволяет нам подниматься на такой же уровень радости и исполнения желаний. После трех, самое большее пяти представлений студенческий спектакль прекращает свое существование и ты переходишь к чему-то новому. Что я и проделывал. Опять и опять.
Пасхальный триместр — это время, когда Кембридж вдруг оживает и обращается в одно из чудеснейших на земле мест. Как писал выпускник «Сент-Джонз-колледжа» Уильям Вордсворт, «о счастье — в это утро быть живым, но юным быть — стократное блаженство!» Писал он не столько о Майской неделе, сколько о Французской революции, однако высказанная им мысль более справедлива в отношении первой, и, готов поспорить, на самом-то деле он думал, скорее, о парковых приемах, чем о гильотинах.
«Гонки на приз Темзы» устраиваются на Кеме два раза в год, по ходу их лодка каждого колледжа норовит врезаться в какую-нибудь из соперниц, вывести ее из соревнования и вырваться вперед. Для настоящей регаты, в которой лодки идут бок о бок, река слишком узка, что и привело к появлению этих речных «толкучек», проводящихся в Великопостный триместр и в Майскую неделю. Стоять среди зрителей на речном берегу и криками подбадривать команду моего колледжа — это, вероятно, самое «нормальное» из того, что я проделывал в три моих кембриджских года.
Выше по реке лежат «Зады» — луга и парки, обретавшие весной и в начале лета красоту, при виде которой и самый суровый пуританин застонал бы и затрясся от упоения. Солнечный свет на камне мостов; ивы, склоняющиеся к воде, чтобы поплакать и поцеловать ее; юноши и девушки, или юноши и юноши, или девушки и девушки, которые, отталкиваясь шестами, плывут к лугам Грантчестера на плоскодонках, за коими тянутся, охлаждаясь, привязанные веревками бутылки сухого вина; «В лодках не целоваться» — как мило, что вы нам об этом напомнили, хо-хо. Приглядитесь к финалистам такого заплыва, посмотрите, как они устраиваются под каштанами, как раскладывают книги и тетради, как курят, выпивают, болтают, флиртуют, целуются и читают. В две июньские недели, невесть почему именуемые «Майской неделей», на каждой лужайке каждого колледжа устраиваются парковые приемы. «Обеденные клубы» и общества, другие клубы, доны и студенты побогаче снабжают эти приемы пуншем и «Пиммзом»,[53] пивом и сангрией, коктейлями и шампанским. Блейзеры и фланель, застенчивые проявления мелкого снобизма и претенциозности, разрумянившаяся молодежь, молодежь избалованная, привилегированная, счастливая. Не будьте к ней слишком строги. Отбросьте мысль о том, что все эти юнцы — жуткие пьяницы, несносные, не знающие жизни позеры, коим следует дать хорошего пинка под зад и добавить к нему оплеуху. Отнеситесь к ним с жалостью и пониманием. Пинки и оплеухи они еще получат, и очень скоро. В конце концов, посмотрите на них сейчас. Всем им уже за пятьдесят. Некоторые состоят в третьем, в четвертом, в пятом браке. Дети их презирают. Они алкоголики или лечатся от алкоголизма. Наркоманы или лечатся от наркомании. Морщинистые, седые, лысые — их помятые, вытянувшиеся лица смотрят на них каждое утро из зеркал, и в покрывающих эти лица складках не найти ни следа широких, радостных, упругих улыбок, некогда их освещавших. Жизнь каждого пошла прахом, потратилась впустую. Ни одно из веселых ее обещаний так никогда и не принесло плодов, на которые можно оглянуться с гордостью или хотя бы с удовольствием. Они нашли работу в Сити, в торговом банке, у биржевого брокера, в юридической фирме, в бухгалтерской фирме, в химической компании, в театральной компании, в издательской компании — да в какой угодно. Свет и сила, страстность, веселость и вера очень быстро испустили в них дух, одно за другим. Взыскательный мир перемолол их глупенькие надежды и мечты, и те развеялись, как развеивается под жестокими лучами солнца утренний туман. По временам эти мечты возвращаются к ним ночами, и они испытывают такой стыд, гнев и разочарование, что их обуревает желание покончить с собой. Когда-то они смеялись и обольщали или смеялись и обольщались — на древних лужайках среди древнего камня, — а теперь ненавидят нынешнюю молодежь и ее музыку и презрительно фыркают, завидев что-нибудь новое, незнакомое, и останавливаются, поднимаясь по лестнице, чтобы перевести дух.
Господи, Стивен, ты-то с чего вдруг так разнылся? Далеко не каждая жизнь завершается убожеством, одиночеством, крахом.
А то я не знаю. Вы правы. Однако со многими происходит именно это. Энтропия и распад возраста выглядят особенно страшными, когда ставишь их рядом с лирическими грезами кембриджской Майской недели, какой бы банальной, устаревшей, неверной и нелепой ни представлялась ее идиллия. Это сцена, которую так любили изображать классические живописцы: золотистые девы и юноши резвятся в Элизиуме, разбрасывая цветы, наслаждаясь вином и взаимными объятиями и не замечая гробницы, на которой покоится череп, не прикасаясь ни разу к вырезанной на ней надписи «Et in arcadia ego[54]». Да и зачем к ней прикасаться? Тень ее уже очень скоро падет на них, и они в свой черед станут грозить своим детям пальцем, говоря: «Я, знаете ли, тоже когда-то в Аркадии жил…» — и дети их тоже слушать не будут.
Многие кембриджцы и оксфордцы прочитают это и не поймут ни слова. Огромное число студентов презрительно сторонилось чего-либо близкого к блейзеру или стакану «Пиммза», большинство их никогда не выстраивалось вдоль берега реки в день «Майской толкучки», не пило «пунша плантатора» в «Саду Хозяина», не плавало на плоскодонках от Пама до Грантчестера, не помогало санитарам «скорой» промывать чей-то желудок в «Воскресенье самоубийц». Так ведь и Кембриджей существовало многое множество, и я просто стараюсь припомнить мой, каким бы тошнотворным он ни казался.
Спектакли были ничуть не хуже этих приемов. Театральный клуб «Куинз-колледжа» носил название «BATS»[55] — предположительно, потому, что, когда в конце семестра он давал в «Клойстер-Корт» представление на открытом воздухе, бывшее одной из самых популярных и приметных особенностей Майской недели, над актерами кружили в небе и повизгивали летучие мыши. В тот год ставилась «Буря», и режиссер, второкурсник «Куинза» по имени Иэн Софтли, дал мне роль Алонзо, короля неаполитанского. Высокий и басистый, я почти неизменно получал роли королей или облеченных властью господ преклонных лет. Юных любовников, пленительных дев и красивых принцев играли студенты, которые выглядели в точности на свои годы. Я этим качеством не обладал, но, с учетом того, что всем студентам было от восемнадцати до двадцати двух, тот, кто выглядел старше своих лет, получал преимущество — во всяком случае, при распределении ролей.
Ныне Иэн Софтли ставит кинофильмы — «Крылья голубки», «Пятый в квартете», «Хакеры», «Чернильное сердце» и так далее, — а в то время он был кудрявым студентом, с черными волосами и привлекательным обыкновением носить белые брюки. В труппу входили Роб Уайк, аспирант, которому предстояло стать моим близким другом, и игравший Просперо совершенно поразительный актер и еще более поразительный человек Ричард Маккинни. Он писал в то время докторскую диссертацию «Торговые гильдии и религиозные братства в государстве и обществе Венеции 1620-х» и, хоть добрался только до середины ее, уже бегло говорил не только на итальянском, но и на венецианском, а это совсем другой язык. Ожидая, когда соберется труппа (он, как и я, всегда отличался пунктуальностью), Ричард быстрым шагом прохаживался взад-вперед, выпевая каждую ноту увертюры к моцартовскому «Дон Жуану». Если ко времени ее окончания кворума еще не наблюдалось, Ричард переходил к вступительной арии Лепорелло и продолжал исполнять оперу, идеально воспроизводя по памяти каждую ее партию, пока не собирались все актеры. Однажды Ариэль, что-то такое напутавший со временем и местом сбора, опоздал на полчаса (возможности послать текстовое сообщение или позвонить в то время не существовало), и, когда он наконец появился, красный и запыхавшийся, Ричард прервал пение и гневно повернулся к нему:
— Сколько сейчас времени, как по-твоему? Уже и Командора убили, и Оттавио поклялся на его крови, что отомстит.
Актером Ричард был великолепным — для человека столь молодого (редеющие надо лбом волосы и притворная сварливость тянули лет на пятьдесят, хотя больше двадцати трех или четырех быть ему никак не могло). Короля Лира он играл просто поразительно, а за его помешательством на темпе и на громкости голоса («Все, что требуется, — говорил он, — это подойти к краю сцены и заорать во все горло») крылась истинная артистичность. Однажды он устроил всей труппе выволочку за то, что она затянула представление на пять лишних минут. «Не-мать-вашу-простительно! Каждая добавочная секунда — это новая струя мочи, орошающая могилу Шекспира».
Как-то раз я увидел Иэна Софтли сидевшим на корточках перед Барри Тейлором, который играл Калибана.
— Ты знаешь такого панковского поэта — Джона Купера Кларка? — негромко спросил Иэн, вникая грустным взором в глаза Барри.
— Э-э, да…
— Я думаю, что мы можем наделить Калибана чем-то вроде его уличного буйства. Чем-то вроде его гнева, так?
— Э-э…
— Ой, забудь об этом, — вмешался в разговор Ричард, прогуливавшийся туда-сюда, крепко сцепив за спиной руки. — Просто выйди к краю сцены и повизжи от души, полепечи какую-нибудь невнятицу.
При всем моем уважении к Иэну и Джону Кларку Куперу, я думаю, что ни один из актеров, исполнявших роль Калибана за прошедшие со времени создания «Бури» 400 лет, более толкового совета не получал.
В одно из утр я заметил на улице плакат, извещавший о выставке в Музее Фицуильяма. Там собирались показать рисунки, картины, гравюры и письма Блейка, которые, вследствие их чувствительности к свету, долгое время пролежали в закрытых ящиках. Я рассказал о выставке Ричарду и спросил, пойдет ли он.
— Уильям Блейк? — ответил Ричард. — Рисовать не умел, раскрашивать тоже.
Сейчас Маккинни — профессор истории Эдинбургского университета. Надеюсь, его там ценят по достоинству.
Как-то раз меня остановил посреди «Волнат-Три-Корта» Дэйв Хаггинс:
— Знаешь, этим вечером на ваш спектакль приедет моя мама.
— Правда? — Дэйв к театральному миру не принадлежал, а зачем маме смотреть спектакль, в котором не участвует ее сын?
— Да. Она актриса.
Я порылся в памяти, пытаясь найти в ней какие-либо сведения об актрисе по фамилии Хаггинс. И не нашел никаких.
— Э-э… ладно. Это хорошо.
— Ага. И папа тоже.
— Слушай, а я могу их знать?
— Да вряд ли. Разве что по псевдонимам. Она — Анна Масси, а он — Джереми Бретт.
— Н-но… Боже милостивый!
Анна Масси решила посмотреть на мою игру? Ну, не то чтобы на мою, но все же — посмотреть спектакль, в котором я играю.
— Но отца твоего на спектакле не будет, так?
— Нет, они разведены. Он гей.
— Правда? Правда? А я и не… Ладно. Господи. Чтоб я пропал. С ума сойти.
И я затрусил дальше, онемев от волнения.
Мы отыграли под порхающими летучими мышами не то четыре, не то пять представлений; Ариэль носился по двору, Калибан визжал и лепетал, я басил, Просперо выходил вперед и орал во все горло, Анна Масси благосклонно аплодировала.
А тем временем я помогал готовить Майский бал.
Так уж сложилось, что «Покровительницей» — она же «Визитерша» — «Куинза» становится, что вполне отвечает его названию, та, кому выпадает в данное время исполнять обязанности королевы, — а став «Визитершей», эта женщина остается ею до своей кончины. С 1930-х до 1950-х королевой была, разумеется, Елизавета, супруга Георга VI. После его смерти она, получившая титул королевы-матери, продолжала исполнять эту должность. Что и привело ко всему дальнейшему.
Мы с вами находимся на заседании комитета по подготовке Майского бала. Большую часть времени занимает, как и следовало ожидать, обсуждение разного рода частностей: как устроить рулетку, не нарушив закона об азартных играх, кому надлежит сопровождать группу «Бумтаун Рэтс» до шатра, в котором она будет переодеваться, хватит ли льда в шампанском баре — в общем, обычные административные пустяки. Затем председатель обращается ко мне:
— Ты уже получил приглашения в «Магдалину» и «Тринити»?
— Да — и в «Клэр» тоже.
Одна из приятных сторон работы в комитете Майского бала состояла в том, что ты получал бесплатные билеты на Майские балы других колледжей. Помимо нашего, я собирался побывать на балу «Клэр» — одного из красивейших кембриджских колледжей, на первом курсе которого училась моя двоюродная сестра Пенни, — и на двух самых великолепных: в «Тринити» и в «Магдалине». Великолепие их было таким, что на этих балах присутствовали ведущие колонок светской хроники и фотографы из «Татлера» и «Харперс Куин». На балы «Клэр» и «Куинза» можно было являться и в обычных костюмах, но «Тринити» и «Магдалина» настаивали на фраках. Для компаний, сдававших напрокат фраки, эти балы были золотым дном. Один только «Кингз», в котором учились и мужчины, и женщины, кичась своей радикальностью и прогрессивностью, Майских балов не устраивал. Его летний прием носил уныло буквалистское название «Июньский праздник Кингза».
— Хорошо, — говорит председатель комитета. — Ах да. Еще одна мелочь. Я получил записку от доктора Уолкера — насчет того, что, если королева-мать вдруг умрет, колледжу придется объявить недельный траур, на время которого любые развлечения и праздники будут отменены, а уж Майский бал тем более. Ты не мог бы выяснить, как нам застраховаться на этот случай?
— Застраховаться? — Я постарался произнести это небрежно и бесстрастно — так, точно страхование было моим привычным занятием еще с младенческих лет. — А… ну правильно. Да. Конечно. Хорошо.
Заседание заканчивается, я вхожу в будку телефона-автомата и начинаю обзванивать страховые компании.
— «Сан лайф», могу я вам чем-то помочь?
— Да. Я по поводу страхового полиса…
— Что вы хотите застраховать — жизнь, машину, вашу компанию, собственность?
— Ну, вообще-то, ни то ни другое.
— Страховка от несчастий на море, во время путешествия, медицинская?
— Опять-таки, нет. Мне нужна страховка на случай отмены праздника.
— Приостановки?
— Э-э… это так у вас называется? Пожалуй, да, приостановки…
— Подождите, пожалуйста…
Я жду, и в конце концов в трубке раздается усталый голос:
— Особые услуги, чем могу быть полезен?
— Я хочу застраховать празднование… По-моему, у вас это называется «приостановкой».
— Да? Празднование какого рода?
— Ну, прием.
— На открытом воздухе, так?
— В общем, это бал. Все происходит главным образом на лужайках, в палатках, но кое-что и в здании.
— Понятно… И вы хотите застраховаться на случай дождя. Приостановка будет частичной или полной?
— Нет, на случай не дождя, а определенного события в королевской семье.
— Простите?
— Да не за что. Я имею в виду… ну, в общем, мне нужна страховка на случай смерти королевы-матери.
Я слышу, как трубка падает на стол, потом мой собеседник дует в нее.
— Похоже, линия неисправна. Мне послышалось… ладно, неважно. Вы не могли бы повторить ваши слова?
Сейчас, в двадцать первом веке, в мире осталось, скорее всего, не больше двух страховых компаний, но в 1979-м их насчитывались десятки. Я обзваниваю все, о каких что-либо слышал, и с десяток тех, о коих не слышал ничего. И в каждой, как только я добираюсь до страхового агента, которому удается понять, что мне требуется, он просит меня перезвонить попозже. Я решаю, что этим агентам необходимо проконсультироваться с начальством. По-видимому, страхование от приостановки — дело не самое простое.
Разумеется, такое страхование — это род азартной игры. Вы делаете ставку (которую страховые компании называют премией) и, если ваша лошадь приходит первой (сгорает ваш дом, или у вас крадут машину, или умирает член королевской семьи), получаете выигрыш. Соотношение между премией и тем, что вы получаете, определяется сопоставлением ценности страхуемой вещи (денежным возмещением) и шансов на то, что она может пострадать, или статистической вероятностью такого исхода. Букмекеры используют для определения своих цен форму и родословную лошади плюс историю ставок на нее; страховые компании — аналогичную смесь рыночных тенденций, собственной истории и списков прецедентов, которые называются у них «актуарными таблицами». Это я понимаю. Если бы я пожелал получить страховку от приостановки по причине снегопада и гололеда, они поинтересовались бы ценностью Майского бала и поняли, что в случае его отмены им пришлось бы раскошелиться на 40 000 фунтов стерлингов. Они выяснили бы также, что в начале июня метели случаются крайне редко, даже в Кембридже, и потому взяли бы с меня малую часть от малой части одного процента денежного возмещения: 20 фунтов — это не бог весть что. Но с другой стороны, только идиот надумает страховаться на случай события столь маловероятного. Что им взять за страховку от дождя, страховщики решили бы, посоветовавшись с метеорологами, изучив местную таблицу осадков и обнаружив в итоге, что шансы дождя составляют, ну, скажем, пятьдесят на пятьдесят, отчего премия подскочила бы до 20 000 фунтов. Но опять-таки, каким нужно быть идиотом, чтобы устраивать в Англии с ее переменчивой погодой летний прием, который придется отменить, если вдруг разверзнутся небеса? Полисы на случай приостановки выписываются не так чтобы часто, однако в тех случаях, когда дело касается таких природных катастроф, как изменение погоды, пожары и землетрясения, существуют вполне очевидные способы принятия связанных с ними решений о ценах. А вот смерть матушки монарха… как прикажете вычислять ее шансы? Даже при том, что матушке уже семьдесят девять лет.
Я решил дать компаниям три часа — каждой, — а по истечении оных позвонить, чтобы выяснить их котировки.
Заглядывали ли служащие в семейную историю клана Боуз-Лайон, дабы выяснить сроки жизни его членов? Или, может быть, звонили в «Кларенс-хаус», справляясь о здоровье, диете и режиме прогулок королевы-матери? Учитывали ее широко известную любовь к джину и «Дюбонне»? Я могу лишь воображать, какие совещания проводили они в своих конторах.
Актуарии каждой компании, в какую я перезванивал, придерживались, похоже, до крайности мрачных взглядов на способность старушки протянуть ближайшие несколько месяцев: шансы, что она доживет до середины июня, составляли, по их мнению, 20, 25, 23 процента. Соответственно, и премии ими запрашивались немереные. Даже самая дешевая, 20-процентная премия, — далеко выходила за пределы наших возможностей. Весь мой бюджет состоял из 50 фунтов.
— Боюсь, — сказал я председателю комитета, вернувшись к нему после того, как произвел последний звонок, — нам остается только молиться за здравие ее величества. А если она все же умрет, я постараюсь утаить случившееся от колледжа, пусть даже мне придется выкрасть из него все газеты и радиоприемники и запереть их в каком-нибудь подвале.
— Может быть, и придется, — ответил председатель, и молодое чело его покрылось морщинами тревоги.
Не думаю, что со времен Боудикки[56] за жизнь королевы молились с таким усердием. Как это ни печально, королева-мать скончалась, но — на наше тогдашнее счастье, — спустя двадцать три года. И, покинув сей мир в 2002 году, она заботливо сделала это в марте, погрузив колледж в траур, который завершился задолго до Майской недели. Именно за такие проявления доброты и участливости многие и любили эту женщину на всем протяжении ее долгой, полной событий и исполненной энергии жизни. Где-то в 1990-х я, сидя рядом с ней на званом обеде, надумал было поблагодарить ее от имени колледжа за заботливость, с которой она отложила свою кончину, однако стеснительность и здравый смысл удержали меня от этого.
Еще одной приметной особенностью кембриджского Пасхального триместра (ибо так именовался там третий триместр учебного года) было «Майское ревю» — представление, которое устраивал клуб «Огни рампы». За 130 лет своей истории он вывел в люди целые поколения авторов и исполнителей комического жанра. А его майское представление в театре «Артс» обратилось в ежегодный ритуал. Если вы были человеком «респектабельным», то относились к нему пренебрежительно. «Наверняка они в этом году ерунду какую-нибудь покажут» — так полагалось вам сказать своему спутнику или спутнице, увидев извещающую об этом представлении афишу, да еще и нос наморщить. И фраза эта неукоснительно произносилась каждый год. Ее можно было услышать, когда «Огнями рампы» руководил Джонатан Миллер, или Питер Кук, или Дэвид Фрост, не говоря уже о Клизе, Чепмене и Айдле и минуя Дугласа Адамса, Клайва Андерсона и Грифа Риса Джонса, Дэйва Баддьела и Роба Ньюмена, Дэвида Митчелла и Роберта Уэбба — в общем, во все года по нынешний включительно. Если же вы были человеком обычным, вам такие циничные замечания даже в голову не приходили, а день «Майского ревю» представлялся еще одним интереснейшим днем кембриджского календаря. Я не был ни респектабельным, ни даже обычным — просто слишком занятым «Бурей» и прочим, чтобы позволить себе потратить время на это представление.
Услышав, что кто-то набирает актеров для постановки «Царя Эдипа», намереваясь показать его в Эдинбурге, я решил сходить на прослушивание. Я побасил, повышагивал, поразмахивал руками и повитийствовал перед режиссером, Питером Рамни, и ушел с ощущением, что, похоже, малость переборщил. На следующий день в моем почтовом ящике обнаружилась записка от Питера, предложившего мне сыграть Эдипа. И до конца триместра я носился по Кембриджу, гудя, точно жук в бутылке.
Наверное, в какой-то из дней этого триместра мне пришлось и экзамены сдавать. «Предварительные» — по-моему, так они называются. Ничего о них не помню. Ни где они происходили, ни какие на них предлагались вопросы. Должно быть, я их сдал, поскольку ни каких-либо осложнений для меня, ни строгих бесед с университетским начальством за ними не последовало. Моя жизнь в Кембридже протекала очень приятно и без всяких помех со стороны «учебного процесса»: университет, хвала небесам, это не то место, в котором тебя подвергают профессиональному обучению, никакая подготовка к трудовой жизни и карьере тебе там не грозит, в университете ты получаешь образование, а это совсем другая история. Настоящее образование подстерегает тебя не в лекционной аудитории и не в библиотеке, а в жилищах друзей с их нешуточными шалостями и радостными разговорами. Вино может быть наставником более мудрым, чем чернила, а упражнения в остроумии зачастую лучше учебников. Такой, во всяком случае, была моя теория, и я старательно следовал ей. Столь безмятежный и возвышенный взгляд на образование уже начинал выводить из себя наше новое политическое руководство. В конце концов, Тэтчер была инженером-химиком и юристом, а и то и другое требовало лишь качеств мистера Грэдграйнда[57] и их тренировки, но не требовало никакого образования, — что она и показала. А наша разновидность свободного обучения, как они это называли, наша приверженность к элитарной традиции гуманитарных наук, наше заносчивое афинское сибаритство представлялись им дурной травой, которую должно выполоть с корнем. Так что дни этой травы были сочтены.
Настал день Майского бала «Куинза» 1979 года. Я облачился во фрак, который арендовал на неделю, и изготовился к… ну, в общем, к балу. Мы — счастливые, раскрасневшиеся, гордые и возбужденные члены комитета — встретились за полчаса до начала праздника, чтобы выпить шампанского. Десять минут спустя я, сражаясь за каждый вдох, уже лежал с кислородной маской на лице в летевшей к больнице «Адденбрук» карете «скорой помощи». Проклятая астма. На то, чтобы понять причину этих приступов, у меня ушло еще два года. Как правило, они настигали меня на свадьбах, празднованиях чьих-то именин, «охотничьих балах» и прочих торжествах в этом роде. Поскольку там хватало цветов, окруженных облачками летней пыльцы, мне даже в голову не приходило, что лицо мое синеет, а легкие отказываются работать всего-навсего из-за шампанского. Аллергия из разряда нелепых, но человек же не сам их выбирает.
Укол адреналина, сделанный мне в «Адденбруке», подействовал мгновенно и так живительно, что к десяти я уже возвращался на такси в «Куинз», и только два лежавших в карманах респиратора, выданных на всякий пожарный случай, отчасти портили покрой моих брюк. Меня переполняла решимость не пропустить ни одной из оставшихся минут праздника.
Майские балы традиционно заканчиваются завтраком, и многие их участники любят встречать утреннюю зарю на Кеме. Я еще и в том юном возрасте был сентиментальным, слюнявым дураком, слезливым до безобразия. Таким остался я и поныне и, наверное, никогда не увижу в картине летнего утра на реке, по которой молодые люди в арендованных нарядах катают на плоскодонках своих любимых, ничего кроме мучительной романтичности, пронзительной прелести и красоты, от которой у меня замирает сердце.
Каледония 1[58]
По окончании триместра я, как обычно, поехал в Северный Йоркшир, чтобы некоторое время преподавать там латынь, судить матчи второй футбольной сборной «Кандэлл-Мэнор», готовить спортивные площадки к Дню спорта и — в то немногое свободное время, какое у меня оставалось, — учить роль Эдипа и реплики нескольких персонажей пьесы Чарльза Маровица «Арто на Родосе», в постановке коей я, возможно, по глупости согласился участвовать. Говорю «по глупости», потому что в течение двух недель мне приходилось — после того как над «Арто» опускался занавес, — пулей лететь туда, где через полчаса должно было начаться представление «Эдипа», и так каждый день. Давние завсегдатаи Эдинбурга говорили, что я всякий раз поспевал едва-едва, ведь мне приходилось снимать один сложный костюм и облачаться в другой, смывать один сложный грим и накладывать другой, новый, однако это «поспевать едва-едва» мне больше всего и нравилось.
Под конец лета Эдинбург на три недели обращается в мировую столицу студенческого театра. Мне еще предстояло играть на этом именуемом «Фринджем»[59] фестивале каждый год из последовавших пяти. Большинство тех, кто на него приезжает, мгновенно влюбляются и в город, и в фестиваль. Первый дня два ваши икроножные мышцы побаливают от непривычно крутых подъемов и спусков по улицам Эдинбурга, его бесчисленные каменные ступеньки и узенькие переулки застают эти ноги врасплох, — особенно если вы привыкли к простым, ровным улицам городов Восточной Англии и их сидячему, по преимуществу, образу жизни, — и не просто застают врасплох, но поражают их, кажутся им надругательством. Веющая стариной мрачность высоких жилых домов Эдинбурга, их каменные лестницы и пугающе пустые фронтоны внушали мне чувство, что я могу в любую минуту увидеть Бёрка и Хэра,[60] мастера Броуди[61] или мистера Хайда, поднимающимися, ворча что-то, по каменным ступеням Грассмаркета. Никого более страшного, чем подвыпившие молодые люди, державшие в руках большие полистироловые тарелки, наполненные печеной картошкой с сыром, по ним, разумеется, не поднималось. В те дни продаваемый на вынос печеный картофель был наипростейшей разновидностью пищи, которой студенты набивали свои животы. Шотландия и вправду казалась совершенно другой страной. Другой была здесь диета: помимо картошки и курятины, торговавшие ими навынос магазинчики предлагали и более изысканные specialit du pays[62] — батончики «Марс», «Фургонные колеса» и шоколадки «Кёрли-Вёрли», все основательно прожаренные. Другими были шотландские банкноты, язык, климат, свет — даже сигареты «Кенситас» и те казались незнакомыми. Наиболее популярным напитком было здесь «хэви» — это такое горькое пиво, во всяком случае, нечто пенистое, навевающее смутные представления о пиве.
По всему городу, на каждой стене, витрине, фонарном столбе или двери красовались афиши, извещавшие о показах драм, комедий и не имеющих точного определения действ, которые могли сочетать в себе все что угодно — цирк, мюзик-холл, сюрреалистские игры с мыльными пузырями и уличный балет под барабанную музыку, маоистские акробатические танцы, транссексуальные оперетты и жонглирование цепными пилами. Исполнители этих представлений одевались почуднее и носились по улицам, предлагая добродушным, но несговорчивым прохожим свои программки и пригласительные билеты. В день открытия по Принцес-стрит медленно проплывало, двигаясь на восток, шествие. Где-то в городе — так нас, во всяком случае, уверяли — проходил настоящий, официальный фестиваль: профессиональные театральные труппы и оркестры давали в красивых концертных залах и театрах спектакли и концерты для взрослых, но мы ничего такого не видели и знать не знали, мы были «Фринджем», огромным грибовидным организмом, который пронизывал своими нитевидными отростками всю плоть Эдинбурга, проникая в самые жалкие ночлежки, в немыслимые сараи, в халупы, в склады и на пристани, в каждую церковь, в любое функциональное пространство, если, конечно, в нем находилось место для начинающего фокусника и хотя бы трех стульев.
В самой середине «Королевской мили», череды улиц ведущих от Эдинбургского замка к георгианскому Новому городу, стоял главный офис «Фринджа», к которому зрители фестиваля выстраивались в очередь за билетами. Я считал, что прямо-таки обязан увидеть два представления. Одним было ревю «Огней рампы», которое в Кембридже я пропустил из-за «Бури», другим — выступление комика в переделанном из фабрики зале «Электропроводка», находившемся прямо за этим офисом. Мне уже не раз говорили, что не побывать на выступлении выпускника Оксфорда по имени Роуэн Аткинсон просто-напросто нельзя, и я счел разумным постоять в упомянутой очереди, а затем выложить денежки за билеты для себя и членов труппы «Эдипа».
Отстояв в ней, я тут же получил плохую новость:
— О-о, на него все билеты проданы, дорогой.
— Правда?
— Боюсь, что так… да, и на что еще вы… постойте-ка.
Девушка сняла с затрезвонившего телефона трубку, выслушала звонившего, разулыбалась и подняла на меня радостный взгляд. Она была милейшей молодой шотландкой, на удивление веселой, особенно если принять во внимание, как тяжко ей, лишенной компьютера, приходилось трудиться. Я и сейчас ясно помню ее лицо.
— Ну вот. Позвонил человек Роуэна Аткинсона и сказал, что по многочисленным просьбам публики он даст в субботу еще одно ночное представление. Пойдете?
Я купил пять билетов на него плюс один на «Огни рампы» и удалился, страшно довольный.
«Эдипа» мы показывали в «Адам-хаус», что на Чамберс-стрит, — каждый вечер в течение двух недель. Наш художник-постановщик почерпнул «вдохновение» из научно-фантастических фильмов, поэтому все мы — и главные персонажи, и хор — были одеты в странные, состоявшие из нарезанных полосками пластиковых светофильтров костюмы, облачаться в которые было делом дьявольски трудным — особенно мне, учитывая малый временной зазор между двумя спектаклями. Питер Рамни выбрал перевод Софокла, сделанный У. Б. Йейтсом. Текст, с его сладкозвучной риторичностью, давался мне без труда, однако подняться до вершин трагедии и отчаяния, которых требовала эта пьеса, я не смог. Честно говоря, я и до предгорий-то их не добрался. Проходимый Эдипом путь — от властного титана до скулящей развалины — был, выражаясь по-эдинбургски, «Королевской милей», тянувшейся от изысканных площадей Нового города к темным трущобам Старого, у меня же получилась ровненькая кембриджская улица с не лишенными приятности витринами магазинов; горя и ужаса в ней было примерно столько же, сколько в банановом молочном коктейле. Да и в ожесточенном состязании за зрителей «Фринджа» наш спектакль тоже больших успехов не добился. Шотландская рецензентка назвала меня носовой фигурой корабля — уже неплохо, жаль только, что следом она решила объяснить, что имела в виду: на сцене я показался ей и импозантным, и деревянным. Ну и ладно. Меня это особо не огорчило — я проживал лучшие дни моей жизни. В послеполуденных представлениях «Арто на Родосе» я играл, среди прочих, великого французского актера Жана-Луи Барро. Поставила пьесу (для «Лицедеев») глубокая и динамичная Пип Бротон, отдавшая главную роль, Арто, Джонатану Тафлеру (сыну киноактера Сидни Тафлера). Джонатан был великолепен и попросту владычествовал на сцене и в спектакле, несмотря на то что большую его часть проводил в смирительной рубашке.
После пятого представления «Эдипа» я выбрался из моей целлофановой оболочки и поспешил присоединиться к очереди нетерпеливых театралов, втекавших, пошаркивая, в театр, где показывал свое ревю «Ночной колпак» кембриджский театральный клуб «Огни рампы».
— Наверняка в этом году ерунду какую-нибудь привезли, — произнес кто-то за моей спиной.
— Ну да, «Ночной горшок», — ответила его спутница и захихикала.
Нет, привезли не ерунду. Привезли нечто на редкость достойное, и, когда занавес опустился, сидевшая за мной скептическая пара первой вскочила на ноги, восторженно свистя и топая.
В представлении участвовали два первокурсника — моя подруга Эмма Томпсон и высокий молодой человек с большими синими глазами, треугольными пятнышками румянца на щеках и словно бы извиняющимся обличьем, фантастически смешным и неожиданно притягательным одновременно. Звали его, согласно программке, в которой имелись и фотографии исполнителей, Хью Лори. Еще один рослый мужчина с несколько более светлыми, но столь же синими глазами, вьющимися волосами и обаятельными манерами 1940-х был в то время президентом «Огней рампы» и звался Робертом Батерстом. Участвовал в шоу и прошлогодний президент клуба, Мартин Бергман, исполнявший роль его луноликого, бесполого ведущего, человека себе на уме. Кроме них в труппе состоял до изумления подвижный, блестящий, клоунского склада комический актер по имени Саймон Мак-Берни, которого я хорошо знал, поскольку он был возлюбленным Эммы. Вскоре я с потрясением осознал, что присутствую на лучшем комедийном шоу, какое когда-либо видел. Прежде мне и в голову не приходило, что «Огни рампы» настолько хороши. Хороши до того, что я мгновенно распростился со всеми, какие у меня имелись, мечтами попробовать на следующий год мои силы в комических сценках. Я понял, что не смогу и на секунду сравняться с этими актерами. Не будучи человеком, что называется, респектабельным, я тем не менее разделял преобладающее среди респектабельных людей мнение, согласно которому клуб «Огни рампы» состоит из помешанных на своем превосходстве полупрофессиональных сценических кривляк. А между тем «Ночной колпак» поразил меня и техническим совершенством исполнения, текста, ритма, стиля, и уверенностью в себе его актеров, ухитрявшихся, помимо прочего, внушать зрителю приятнейшую мысль о полной нелепости самого понятия «студенческая комедия». Я увидел представление зрелое, проработанное во всех деталях и в то же самое время непритязательное и полное дружеского отношения к публике; изощренное и интеллигентное, но напрочь лишенное претенциозности и самодовольства; в нем присутствовали убедительность, сила, законченность и достоинство, но не было ни тени самомнения, тщеславия либо поверхностности. Коротко говоря, оно было именно тем, чем, по моему мнению, и следовало быть комедии. Сыграв к тому времени в пятнадцати, самое малое, пьесах, в том числе и комических — в той или иной мере, — я тем не менее решил, что мне вряд ли когда-либо хватит нахальства постучаться в дверь клуба «Огни рампы», который был вправе гордиться талантами столь безусловными.
Э-хе-хе. Ну ладно, по крайней мере, я смогу отоспаться на этом вашем Роуэне Аткинсоне. В конце концов, что вообще смог когда-либо предложить Оксфорд по части комедии? Нет, Терри Джонс и Майкл Пэйлин — это понятно, но за вычетом их, кого еще дал комедии Оксфорд? Дадли Мура. Хорошо, ладно, а помимо Пэйлина, Джонса и Мура, кого еще?… Алана Беннетта. Ну да, верно. Конечно. А вот кроме Майкла Пэйлина, Терри Джонса, Дадли Мура и Алана Бенн?… Ивлин Во устроит? А Оскар Уайльд? Ладно, черт с вами, возможно, оксфордцы не такая уж и бестолочь. И все же в «Электропроводку» я отправился, ничуть не ожидая, что какой-то там моноспектакль сможет сравниться по стилю и мастерству с «Ночным колпаком». Два часа спустя я вывалился из театра, едва-едва переставляя ноги. Мои бока и легкие болели, точно отбитые. Таких судорог им за всю их жизнь сносить еще не приходилось. Думаю, Роуэна Аткинсона вы наверняка видели. Если вам повезло, вы видели его на сцене. Если вам повезло очень и очень, вы могли впервые увидеть его на сцене, а уж потом где-то еще. Первая встреча с поразительным талантом — без уже сложившегося у вас мнения о нем и без особых ожиданий — это радость, воссоздать которую попросту невозможно. До того дня я ни разу не видел Роуэна Аткинсона по телевизору и знал о нем только то, что его выступления идут с аншлагами. Увиденное мной называлось «моноспектаклем», однако в нем участвовало еще двое исполнителей — автор почти всех его текстов Ричард Кёртис, исполнявший роль комического простака, и Говард Гудолл, который играл на электропианино и пел забавные песенки собственного сочинения.
В программке значилось, что поставил это шоу Кристофер Ричардсон, которого я знал, когда был учеником «Аппингема», а он — тамошним учителем. † После спектакля я переговорил с ним и услышал, что предварительный показ шоу как раз в «Аппингеме» и состоялся.
— Школьный театр стал чем-то вроде остановки по расписанию на дороге из университета в Эдинбург, — сказал он. — Ты бы привез туда твоих кембриджцев.
— Ну, я… я не… мы вряд ли…
То, что я играл в Кембридже, вдруг показалось мне заурядным, недостойным внимания и безнадежно неинтересным. Однако я постарался отогнать от себя эту столь ненужно негативную мысль.
На что, собственно, мне было жаловаться?
«Херувимы», конец конспирации, континент[63]
Аччелерандо,[64] с которого начался для меня второй триместр, продолжалось и после моего возвращения в колледж. Все больше театра и все меньше учебы.
Теперь мне пришлось выбирать — поселиться вне колледжа в собственной «берлоге» или остаться в нем, разделив жилье с товарищем-второкурсником. Мы с Кимом предпочли остаться и были вознаграждены роскошными апартаментами в «Волнат-Три-Корт». Потолки с потемневшими с елизаветинских времен балками, стены, обитые деревянными панелями. Кое-где из этих панелей были вырезаны куски, и за ними таились утопленные в стену буфеты, а в одном месте — кусок штукатурки со средневековой росписью. Имелись там и книжные полки, и хорошая «комната прислужника», и приоконные диванчики, и древние-предревние освинцованные оконные рамы с кривоватыми стеклами, и далеко не убогая мебель. Мы с нашими книгами, пластинками, стеклянной и фарфоровой посудой, моим бюстом Шекспира и кимовским Вагнера, шахматами «от Жака» и проигрывателем «Бэнг и Олафсен» расположились в них ничуть не хуже любых других студентов университета.
Три триместра этого второго года в памяти моей слились и размазались. Я знаю, что в один из них мне — ура! — предложили вступить в клуб «Херувимы». На церемонии посвящения требовалось выдуть целые кувшины героически отвратных и немыслимым образом смешанных крепких напитков, вина и пива. Следовало также объяснить значение изумрудно-сине-розового шарфа «Херувимов»: «Зеленый — „Куинз“, синий — эмпиреи, розовый — херувимская попка». Еще одна обязанность кандидата состояла в том, чтобы рассказать, что именно он намеревается сделать в поддержку и развитие миссии «Херувимов» и херувимизма. Не помню, что сказал я, полагаю, нечто самонадеянное — дескать, став знаменитым актером, я буду при всякой возможности появляться на телеэкране в херувимском шарфе. Другой посвящаемый, Майкл Фоул, заявил, что станет первым «Херувимом», который присоединится в небесах к херувимам настоящим. Когда его попросили объясниться, он сказал, что намерен стать первым «Херувимом», который полетит в космос. Такое его притязание всем показалось нелепым. В космос летали либо американские астронавты, либо советские космонавты. Однако позже, в несколько более внятном разговоре с ним, состоявшемся по ходу херувимской попойки, я понял, что говорил он совершенно серьезно. Подданство он имел двойное, англо-американское, — американкой была его мать. Он бегло говорил по-русски и научился этому самостоятельно, рассудив, что будущее космических исследований зависит от всестороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Мало того, он уже третий год писал диссертацию по астрофизике и состоял в Учебном авиационном корпусе ВВС, где выучился летать практически на всем, у чего имеются крылья или винты. С такой целеустремленностью и решимостью я еще никогда не сталкивался. Семь лет спустя он стал астронавтом НАСА. Еще через пять лет впервые полетел в космос на шаттле, а ко времени отставки провел вне Земли больше года жизни. До 2008-го он удерживал за собой американский рекорд длительности пребывания в космосе — 374 дня, 11 часов и 19 минут, — можно и не говорить, что рекорд британский по-прежнему остается за ним. Я, конечно, рад был бы сообщить вам, что его смелость, увлеченность и преданность делу стали для меня примером, перевернувшим всю мою жизнь. Но на самом деле я счел его чокнутым и теперь краснею, вспоминая о том, как потешался над ним.
В 1999-м Майкл Фоул пригласил меня поприсутствовать при запуске шаттла, на котором он отправлялся в космос, чтобы произвести ремонт космического телескопа «Хаббл», однако я приехать не смог. В 2003-м он пригласил меня снова — на старт его последней миссии, которую он проводил как командир международной космической станции. Но я опять оказался занятым. О чем я только думал? Разумеется, мне не составило бы большого труда отложить любые мои дела, слетать на космодром и посмотреть, как замечательный человек делает самое замечательное из всех, какие может совершить кто бы то ни было, дело. Я такую возможность упустил и страшно об этом жалею. Надеюсь, нынешние «Херувимы» включили в свои ритуалы тост в честь самого блестящего и бесстрашного из облачавшихся когда-либо в зеленый, синий и розовый цвета членов их небесного воинства.
Вскоре я постарался, чтобы в «Херувимы» приняли и Кима, и он, возможно из благодарности, но, скорее всего, по щедрости душевной заказал для меня смокинг в портняжной мастерской, находившейся на углу Силвер и Трампингтон-стрит. «Ид и Равенскрофт» не только торговали модной мужской одеждой, но и шили сложные костюмы какого угодно рода для ученых, юристов, священников, а также для церемоний — от мантий выпускников до королевских нарядов. Пошитый ими для меня двубортный смокинг из плотной шерсти обладал редкостной красотой. Лацканы его были отделаны черным шелком, по штанинам тянулись шелковые же лампасы. Ким решил, что к такому костюму надлежит добавить достойного качества сорочку с отстежным воротничком и черный галстук-бабочку из хорошего шелка. А как носить все это без соответственной обуви? На деньги Ким никогда не скупился, но и напоказ их не выставлял. Он ни разу не заставил меня почувствовать себя счастливчиком, на которого изливаются его щедроты, ни разу не смутил ими и не ошеломил. Щедрость Кима отличалась и добротой, и размахом, и размах этот позволял нам купаться в завидной роскоши. Мать Кима часто присылала единственному и любимому сыну корзины с деликатесами из «Харродза», целые ящики вина и бесчисленные пары кашемировых носков. Отец работал в рекламном деле — в концерне, как-то связанном с местами для размещения рекламы и явно процветавшем. Моя семья с ее относительно скромным достатком не привыкла, в отличие от кимовской, к трюфелям, паштетам и винтажному портвейну, однако мама обладала совершенно сверхъестественной способностью точно чувствовать момент, когда мои деньги иссякали, и проявляла ее гораздо чаще, чем того требовало спокойствие скептика вроде меня. Скажем, я мог обнаружить в почтовом ящике счет от кембриджского книжного магазина «Хефферз», лишавший меня сна на целую ночь, а следующим утром от мамы поступал конверт с чеком и запиской насчет того, что эти деньги мне, наверное, не помешают. И полученной суммы всякий раз хватало на оплату счета — еще и на вино с пирожными кое-что оставалось.
Ко мне приехала погостить моя сестра Джо. Ким ей ужасно понравился, да и с прочими моими знакомыми она передружилась. Ее обычно принимали за студентку, хоть Джо и было всего пятнадцать. Когда же она вернулась домой, я послал ей письмо, оно попалось на глаза отцу, а из каких-то содержавшихся в нем слов с полной ясностью следовало, что я гей. И скоро в сторожку привратника «Куинза» пришла его записка, содержавшая просьбу позвонить домой. Я позвонил, и отец сказал, что заглянул в мое письмо к Джо и сожалеет об этом, что же касается моего гейства, так оно его только радует, да еще и от всей души…
— Да, маме очень хочется сказать тебе пару слов.
— Милый!
— Мам. Ты очень расстроилась?
— Ну что ты глупости говоришь? По-моему, я всегда это знала…
Какое дивное облегчение испытал я, разоблаченный подобным образом.
Снова наступил мой черед исполнять одну из обязанностей студента — в течение недели читать в трапезной колледжа латинскую благодарственную молитву. Я начал писать от случая к случаю статьи и обзоры телепередач для студенческой газеты «Плакат», играл все больше и больше ролей во все большем и большем числе пьес. Сыграл диск-жокея в «Городской конфетке» Полякова, поэта в «Узкой дороге на дальний север» Бонда и преподавателя классической литературы в новой пьесе студента по имени Гарри Эйр. Играл королей, герцогов и престарелых советников в пьесах Шекспира, убийц, мужей, бизнесменов и шантажистов в пьесах старых, новых, забытых и воскрешенных. Если верить Киплингу, сказавшему, что обыкновение, пускаясь в дальний бег, мерить расстояние секундами как раз и обращает человека в мужчину, то я был, похоже, одним из самых возмужалых студентов Кембриджа.
Во время рождественских каникул, между Михайловым и Великопостным триместрами, я сопровождал «Группу европейского театра» в турне по континенту, даруя благодать «Макбета» озадаченным сообществам театралов Голландии, Германии, Швейцарии и Франции, состоявшим по преимуществу из силком загоняемых в театры школьников. Режиссером была Пип Бротон, поставившая «Арто на Родосе», а роль жестокого тана была поручена ею Джонатану Тафлеру. Однако в последнюю минуту он заболел и поехать с нами не смог, что стало для Пип жестоким ударом, ибо они с Джонатаном были очаровательно преданной друг дружке парой. Я играл короля Дункана — превосходная для такого турне роль, поскольку король погибал почти в самом начале пьесы, и это позволяло мне осматривать город, в котором мы вставали на постой, и возвращаться ко времени выхода на поклоны переполненным сведениями о его лучших барах и самых дешевых ресторанах. ГЕТ была основана Дереком Джекоби, Тревором Нанном и другими в 1957-м, в год моего рождения, и приобрела — вследствие нередких ее прегрешений по части возвышенной серьезности и благопристойности — репутацию отчасти прискорбную. Поговаривали, будто город Гренобль зашел так далеко, что запретил появляться в нем любым кембриджским труппам, — после того, как в середине семидесятых захмелевшие актеры ГЕТ устроили на приеме мэра показательное выступление. Собственно, показывали они, если верить слухам, собственные голые телеса. Наша труппа вела себя не столь дурно, однако и мы вытворяли на сцене черт знает что. Есть в сидящих рядами и рядами серьезных швейцарских школьниках, которые, держа на коленях каждый по сборнику пьес Шекспира, прилежно поедают глазами одну его строку за другой, нечто, пробуждающее в британском актере беса. Перед самым подъемом занавеса мы объявляли «слово дня», и актер, которому удавалось чаще других втискивать его в свою роль, получал после спектакля награду. «Мы, дурни, читать по дурням мысли не умеем, — помнится, сообщил я однажды со сцены Гейдельберга. — Ведь в благородство этого вот дурня я верил слепо».[65] Ну и так далее.
Марк Нокс, игравший в нашем «Макбете» несколько ролей (в том числе и роль гонца, который приносит леди Макдуфф весть о том, что страшный Макбет уж близится и ей грозит опасность), обнаружив, что его речь отлично ложится на мотив «Зеленых рукавов», пел ее, приложив к уху палец, чем поверг бернскую публику в большое недоумение. А следом выяснилось, что и ведьминское «Когда сойдемся мы втроем — дождь будет, молния иль гром?» можно петь — лишь с минимальным насилием над слогами — на мотив «Услышь, как ангелы поют».
На этом фоне Барри Тейлор, который пищал и лепетал невнятицу, когда был Калибаном в показанной RATS на Майской неделе «Буре» Иэна Софтли, а теперь в последнюю минуту подменил Джонатана Тафлера, смог непонятно выдать великолепного Макбета. Если я возвращался с моей городской рекогносцировки достаточно рано, то стоял за кулисами и с наслаждением наблюдал за тем, как он, возносясь над разного рода розыгрышами, а иногда и присоединяясь к ним, ухитряется — лучше, чем мне когда-либо доводилось видеть, — передавать смертоносную жестокость Макбета, пожирающее его чувство вины, бурлящий в нем гнев и страшную боль. То, что труппа любительского театра неизменно верит в свою способность выдержать сравнение с наилучшим профессиональным, это, разумеется, трюизм, но порой и любителю удается сыграть так, что его исполнение может стать предметом гордости профессионала, и в случае Макбета Барри Тейлора происходило именно это. Так, по крайней мере, говорит моя память.
В туристическом автобусе, который перевозил нас из одного европейского города в другой, времени мы проводили больше, чем на сцене. В результате главной нашей заботой стало изобретение игр и иных позволявших коротать время развлечений. Большинство из нас готовилось к экзаменам по английской литературе, а потому одна из игр состояла в том, что каждый выписывал на листочек названия больших литературных произведений, отродясь им не читанных. Я собирал листочки и зачитывал перечень названий, который включал в себя «Гамлета», «Скотный двор», «Дэвида Копперфилда», «Гордость и предубеждение», «Великого Гэтсби», «В ожидании Годо»… какой обязательный для прочтения шедевр ни возьми, в автобусе отыскивался человек, его не читавший. Корчи стыда, вызванного глубиной нашего невежества, были столь же приятными, сколь и унизительными. А знание, что не тебе одному свойственны странные, необъяснимые прорехи в образовании, утешало. Вам, наверное, захочется узнать, какие названия выписывал я. Пожалуйста: «Влюбленные женщины» Д. Г. Лоуренса, которых я, к моей несомненно жалкой беде и позору, не прочитал и поныне. Как не прочитал «Сыновей и любовников» и «Радугу». Можете также добавить к этому списку все романы Томаса Гарди, кроме «Мэра Кэстербриджа» (который я на дух не переношу). Я принимаю — и со страстью — Лоуренса и Гарди как поэтов, однако романы их нахожу для чтения непригодными. Ну вот. Чувствую себя только что вышедшим из исповедальни. Надеюсь, я вас не слишком расстроил.
Дуэль 1[66]
Примерно в это же время я впервые появился на экранах телевизоров. К театру это никакого отношения не имело, но произросло из того же неприятно суетливого стремления выставить себя напоказ и всем непременно понравиться, которое привело меня на сцену и от которого я надеюсь когда-нибудь все же избавиться, — скорее всего, когда доживу до старческого слабоумия. По «Куинзу» прошел слух, что колледж набирает команду для выступления в проводимой телекомпанией «Гранада» студенческой викторине «Дуэль университетов». Я смотрел эту викторину с детства, и меня обуяло отчаянное желание попасть в команду. Капитана ее уже выбрали — каким именно способом, я так никогда и не узнал, однако выбор этот оказался впоследствии полностью оправданным. Капитаном стал блестящий студент отделения современных и средневековых языков Стивен Боттерилл, ныне прославленный исследователь Данте и профессор Калифорнийского университета в Беркли. Он решил, и вполне разумно, набрать трех других членов команды, составив список вопросов и проведя открытые квалификационные испытания. На этом маленьком экзамене я нервничал и волновался куда сильнее, чем на любых официальных «трайпосах». Вопросов я толком не помню, однако один имел какое-то отношение к Натти Бампо,[67] и я с облегчением обнаружил, что ответ на него мне известен. Когда же в моем почтовом ящике объявилась написанная Боттериллом от руки записка, извещавшая, что меня включили в команду, я возликовал и засветился от счастья точно так же, как в тот день 1977-го, когда мама позвонила в нориджскую кофейню «Честный Джон» и сообщила, что я получил стипендию «Куинза». † Кроме меня в команду вошли студент-естественник по фамилии Барбер и юрист Марк Лестер — нет, не звезда мюзикла «Оливер!», совершенно другой Марк Лестер. И мы поехали во владения «Гранады», на первый раунд состязаний.
То был мой первый приезд в Манчестер и первое близкое знакомство с телевизионной студией. В Норидже мне однажды случилось посидеть среди публики во время записи длинной и давно забытой комедии положений «Возвращение на родину», снимавшейся компанией «Англия ТВ», — чем мое знакомство с миром телевещания и ограничилось. «Гранада» была организацией куда более внушительной, нежели милая, добрая, провинциальная «Англия». В ее студиях снимались «Улица коронации» и «Мир в действии». По стенам коридоров висели фотографии актеров, кинозвезд и известных всей стране телеведущих вроде Брайана Трумена и Майкла Паркинсона. По лабиринту этих коридоров нас отвели в большую гардеробную и попросили подождать. Мы жевали хрустящий картофель, грызли какие-то фрукты, пили нечто шипучее и нервничали все сильней и сильней. Если мы победим в первом туре, нам придется в тот же день сразиться еще с одной командой. Если мы победим и ее, то позже должны будем еще раз приехать в Манчестер, чтобы сыграть в четверть— и полуфинале. А если выиграем и их, потребуется третий и последний приезд сюда. Таких «если» получалось многовато, и я (а возможно, и остальные трое) почувствовал вдруг, что вообще ничего не знаю. Все до единого факты, о коих я был когда-либо осведомлен, упорхнули от меня, точно голуби, услышавшие ружейный выстрел. Нас ждало унижение. Я постукивал себя по виску в последней попытке восстановить контакты в мозгу.
Вел викторину, разумеется, великолепный Бэмбер Гасконье, лицо и голос которого я знал так же хорошо, как родительские. Он был одним из немногих людей, подобных королеве и Роберту Робинсону:[68] я не смог бы припомнить время, когда ничего о нем не знал. Человек очень умный и добродушный, он понимал, видимо, что другие команды знают о его кембриджских корнях, и потому изо всех сил старался оставаться скрупулезно беспристрастным, не впадая, впрочем, в конфузливое антикембриджианство. Казалось, любой правильный ответ доставляет ему наслаждение, и все верили, что он сам придумывает каждый вопрос и проводит связанные с ним исследования. Он славился своими мягкими эрудированными поправками: «Не повезло; возможно, вы подумали о Дунсе Скоте…» или «Очень близко — разумеется, он был другом Клаузевица…» — сильно отличавшими Гасконье от благословенного Джереми Паксмана с присущими ему фраппированными восклицаниями «Как?» и выражением человека, раскусившего тухлую оливку, которое появляется на его лице, когда он слышит ответ, оскорбляющий усвоенные им представления о том, что должно быть непременно известным всем и каждому. Autre temps, autres murs…[69]
Боттерилл, Лестер, Барбер и я пугливо вошли в декорацию, произнесли обычные шуточки насчет того, что столы, оказывается, стоят в студии бок о бок, а не один на другом, как на экране, и заняли отведенные нам места. Стыдно сказать, но кто был нашим противником в первом туре, я не помню. В голове моей вертится Университет Лидса, но я могу и ошибаться. Не сомневаюсь, что мы показались членам его команды отвратными оксбриджскими дрочилами. Взглянув на фотографию нашей команды с ее диковатыми трихологическими различиями, придурковатой серьезностью и нездоровым цветом кожи, никто не назвал бы нас самым симпатичным квартетом, когда-либо представавшим перед телезрителями.
Нервничали мы совершенно напрасно. Командой мы были сильной и разбивали наголову всех противников, какие нам доставались, — вплоть до финала, исход которого определялся в те дни результатом последнего из трех раундов. В этом матче мы сражались с оксфордским колледжем «Мертон». Ребята в его команде состояли достойные и умные, но в первом раунде мы их попросту разгромили с разницей в сто очков. Во втором они набрали на десять очков больше, чем мы, что было досадно, но привело к самому напряженному финалу в истории этих соревнований. Когда прозвучал гонг, известивший о конце третьего, решающего раунда, счет был равным. Дополнительное время, тай-брейк. Выиграть почти наверняка должен был тот, кто получит следующий вопрос. Получил его «Мертон» — и дал правильный ответ. Редко когда бывал я настолько подавлен и чувствовал себя таким обманутым. Мне и поныне больно думать, что наша команда дала намного больше правильных ответов и все-таки проиграла. Трогательный инфантилизм, разумеется, однако сейчас, тридцать лет спустя, пока я ввожу эти слова в компьютер, к ушам моим приливает кровь и все во мне кипит от гневного отвращения, горьких сожалений и скорбного разочарования, вызванного несправедливостью столь оглушительной. И ничего никогда уже не поправить. Ничего, говорю я вам, ничего. А, ладно.
«Корпус-Крестины»[70]
К началу Великопостного триместра я вернулся в Кембридж, и там ко мне обратился Марк Мак-Крам, ныне известный автор книг о путешествиях, а тогда резвый, проказливый студент с копной черных волос и глазами, похожими на блестящие черные смородины. Его отец, Майкл, был директором Итона (впрочем, недолго — затем он вернулся в Кембридж и возглавил колледж «Корпус-Кристи»), а старший брат Роберт, работавший в «Фейбер и Фейбер», уже начинал приобретать солидную репутацию в издательском мире. Марк Мак-Крам, отличительными чертами коего были инициативность, предприимчивость и простодушное нахальство, сумел получить в свое распоряжение небольшой Г-образный дом в принадлежащем «Корпус-Кристи» проулке Св. Эдуарда. Он и его подруга Кэролайн Оултон собирались устроить в нем «Игровую» — театр, специальностью которого будут совсем новые пьесы. Кэролайн Оултон я знал и очень любил. Она участвовала в постановке «Макбета», и я всегда старался сесть в нашем автобусе рядом с ней. Она пробуждала во мне некий удивительный трепет.
Просьба, с которой она и Марк обратились ко мне, оказалась совершенно неожиданной. Они хотели, чтобы я написал для крестин «Игровой» пьесу, не обязательно большую — не исключено, что за один вечер их будет показано сразу две. Молодой талантливый студент Роберт Фаррар уже согласился сочинить одну из них. Может, я подумаю насчет другой?
Я был польщен, взволнован и испуган — попробовать мне хотелось, и даже очень, но что, если я осрамлюсь? И почему они решили, будто я способен сочинить пьесу? Я отродясь ничего даже близкого к пьесе не сочинял. Вся моя авторская карьера сводилась к стишкам для собственного употребления и разрозненным статьям для «Плаката».
— Поезжай на каникулы домой, посиди там за письменным столом, поразмысли. Пиши о том, что хорошо знаешь. У тебя отлично получится. Только не забывай, что зал у нас будет маленький, интимный. Если ты напишешь что-нибудь такое, что вовлечет в действие публику, так о лучшем и мечтать не придется.
Триместр закончился, я возвратился в Норфолк. «Пиши о том, что хорошо знаешь» — максима, которую я множество раз слышал от писателей, живых и мертвых. Я сидел за письменным столом моей оклеенной обоями с узором Уильяма Морриса[71] комнаты наверху дома и пытался понять — что же я хорошо знаю? Заведения. Я знаю учебные заведения — школы и знаю одно исправительное — тюрьму. Вот, практически, и все. «Вовлечет в действие публику». Хм…
Я начал описывать первые минуты урока латыни в приготовительной школе: учитель с подчеркнутым пренебрежением разбрасывает по партам тетрадки с работами учеников: «Мальчики, которые имеют глупость раздражать меня, Элвин-Джонс, очень плохо кончают…» — что-то в этом роде. Вот зрители и будут учениками. А затем меня постигло молниеносное озарение, изменившее и временное, и драматическое построение пьесы и с треском опустившее четвертую стену. Стук в дверь, входит другой учитель, начинает разворачиваться сюжет. Я писал и писал — сначала от руки, в блокноте, а затем отпечатывая каждую сцену на моей бесценной пишущей машинке «Гермес 3000» с ее нефритово-зелеными клавишами и серыми, как у боевого корабля, боками — механизме неописуемой крепости и красоты.
Я придумал фарсовую интригу — педерастия, шантаж и любовная связь переплетались в ней со сценами в школьном классе, подразумевавшими участие публики, которое, надеялся я, удовлетворит требованиям Марка и Кэролайн.
На титульной странице я напечатал:
«Латынь!
или Табак и мальчики»
новая пьеса Сью Джинс
«Сью Джинс» было, разумеется, псевдонимом. Теперь мне уже не припонить в точности, почему я решил укрыться под вымышленным именем, — возможно, в надежде на то, что публика, поверив в авторство женщины, простит пьесе ее не так чтобы радикальное видение мира.
Кэролайн и Марку пьеса, похоже, понравилась, ставить ее взялся мой друг по «Куинзу» Саймон Черри. Роль старого учителя Герберта Брукшоу исполнил студент-юрист по имени Джон Дейвис, я же сыграл Доминика Кларка, молодого героя пьесы, если «герой» и вправду то слово, какое нам требуется.
Три дня пьеса шла в «Игровой» с аншлагом, и, поскольку спрос на нее не уменьшался, мы в течение еще одной недели показывали «Латынь!» в лекционной аудитории колледжа «Тринити-Холл».
Я стал драматургом! Странная ликующая радость, которая овладевает тобой, когда ты сочиняешь нечто внушительное по размерам, не похожа ни на какую другую. Восторженный прием публикой актерской игры, бурные, оглушительные аплодисменты не создают ничего хотя бы отдаленно схожего с особой гордостью, какую испытываешь, создав что-то, чего не существовало прежде, и из материала не более экзотического, чем обычные слова.
Эмма Томпсон спросила у меня — у писателя! — не соглашусь ли я сочинить несколько комических сценок для шоу, которое она с компанией подруг ставила в театре ЛТК. Шоу, называвшееся «Час женщины», должно было продемонстрировать женские комические дарования. Я подавил желание заявить, что, раз уж оно носит такое название, а играют в нем только женщины, так и сочинять его следует, наверное, исключительно женщинам. Впрочем, то, что им вообще дозволили поставить собственную комедию, уже было шагом вперед: за пятьдесят лет до того женщинам просто-напросто запрещалось играть в кембриджских театрах. Собственно, их и в университет-то начали принимать всего за десять лет до моего рождения. Вместе с Эммой в «Часе женщины» участвовали первая за всю историю этого клуба женщина-президент «Огней рампы» Джен Рейвенс и юная датчанка Сэнди Токсвиг. Я написал несколько сценок, из которых помню лишь две — пародию на посвященную обзору новых книг телепрограмму и монолог Эммы, игравшей роль одетой в затрапезу, лошадиного обличия женщины, крикливо руководившей своей дочерью в манеже «Пони-клуба». Новаторский, революционный материал. Шоу имело большой успех, одаренность же Эммы, Джен и Сэнди стала для всех несомненной.
Затем ко мне пришел Бен Блэкшоу, друг Марка Мак-Крама, — со своей пьесой «Вам желтая книга не попадалась?», которая рассказывала в живых, коротких сценах историю взлета и падения Оскара Уайльда. Бену хотелось, чтобы Оскара сыграл я. Поставил пьесу сам Бен, и мы показали ее в «Игровой». Благодаря ей я удостоился первой рецензии в общенациональной газете. Критик «Гей Ньюс» написал, что я «передал мелодику ирландского языка, не прибегая к ирландскому выговору». Крошечный листочек газетной бумаги, содержавший полный текст этой рецензии, я носил в моем бумажнике не один год.
Колесницы 1[72]
По Кембриджу поползли разговоры, что некая кинокомпания набирает среди студентов статистов. Ее люди переговорили с президентами АТК, «Лицедеев» и «Общества Марло», а те, в свой черед, со своими актерами. Мы с Кимом поспешили записаться в будущие кинозвезды.
Несколько раньше мой оксфордский друг с гордостью написал мне, что великий Майкл Чимино снимает в их городке большую картину «Врата Рая» и он, мой друг, получил в ней роль без слов. Теперь я позвонил ему и сообщил, что кино снимают и у нас тоже.
— Правда? — сказал он. — А кто? У нас «Юнайтед Артистс».
— О. Нет, не думаю, что наш фильм снимает большая американская студия, — признал я. — Он вроде бы рассказывает о команде британских спортсменов на Олимпиаде тысяча девятьсот двадцать четвертого. Один из них — еврей, другой — благочестивый пресвитерианин, который то ли не может бегать по воскресеньям, то ли еще что. Сценарий написал Колин Уэлленд. В общем… ну, вот так.
Кладя телефонную трубку, я услышал, как мой друг насмешливо фыркает на оксфордский манер. Было что-то унизительное в том, что Кембридж выбрали для съемок такого маленького, провинциального фильма, а Оксфорд получил большую полнобюджетную картину. Никто из нас не мог знать, что «Врата Рая» только что не прикончат «Юнайтед Артистс» и войдут в историю как один из величайших финансовых крахов Голливуда, тогда как наш фильмик…
Он назывался «Огненные колесницы», и я провел на его съемках — в качестве статиста — не один ошеломительно волнующий день. Первый — в «Сенат-хаусе», где снималась сцена «Праздника первокурсников», во время которого два главных героя фильма вступают в «Университетский спортивный клуб» и в «Общество Гилберта и Салливана». Я ощущал легкое головокружение после бесплатной, но болезненной стрижки, — ну, и еще оттого, что успел уже до начала съемок заработать лишних два фунта, придя на площадку в моей собственной одежде — полосатом блейзере колледжа и фланелевом костюме. Стоя за прилавком теннисного клуба, подбрасывая на ракетке мячик и вообще изображая здоровяка и спортсмена, я наверняка выглядел ослом из ослов. Бок о бок со мной стоял исполнявший гораздо более важную роль капитана спортивной команды Кембриджского университета один из настоящих спортивных героев Кембриджа — Дерек Прингл, которому вскоре предстояло начать выступать за крикетные команды Эссекса и Англии.
Я сильно изумился, когда за минуту до начала съемок получил от подошедшего ко мне реквизитора несколько маленьких визитных карточек, на которых было отпечатано изображение двух скрещенных ракеток, а под ним слова: «Теннисный клуб Кембриджского университета». Шрифт был совсем меленьким, и мне, чтобы прочитать надпись, пришлось склониться к карточкам — возможность того, что камера заснимет это движение, я счел до нелепости невероятной. Тогда эти визитки представились мне примером самой что ни на есть поразительной траты времени и денег, но, конечно, ни о том, как снимаются фильмы, ни о необходимости быть готовым к любой случайности я просто-напросто ничего не знал. Какими бы детальными ни были предсъемочные планирование и подготовка, такие штуки, как погода, освещение, шум, неисправность операторского крана или недомогание актера, а то и кого-то из членов съемочной группы, могут мигом изменить все. Возможно также, что режиссер решил начать сцену с крупного плана человека, который берет в руку визитку теннисного клуба, и, если она не будет ждать на месте, готовая и образцово отпечатанная, съемки придется отложить, а это обойдется куда дороже, чем печать нескольких карточек. Ни до чего подобного я, разумеется, не додумался и, не сходя с места, пришел к весьма распространенному заключению, что все кинорежиссеры — слабоумные моты. Ныне, став одним из них, я знаю, что они — слабоумные скряги.
Весь первый день я провел при убеждении, что тот участник съемочной группы, который расставляет нас по местам, объясняет, когда и куда нужно будет идти, вопит, требуя тишины, и кричит оператору: «Мотор!» — это и есть режиссер фильма, которого, как мне уже было известно, звали Хью Хадсоном. В какой-то момент я, нуждаясь в разъяснениях, подошел к нему и начал: «Извините, мистер Хадсон…» — а он рассмеялся и указал мне на человека, расслабленно сидевшего, читая газету, в кресле. «Я всего лишь помощник режиссера, — сказал он, — а режиссер — вон тот».
Если режиссер не кричит, не объясняет людям, когда им трогаться с места, как держать в руках реквизит и в какую сторону смотреть, чем же, подивился я, он вообще занимается? Большая загадка.
После всего лишь трех-четырех дней съемок по Кембриджу прокатился слух, что кто-то из университетских начальников прочитал сценарий, остался недоволен смыслом происходящего в нем и в итоге аннулировал разрешение на съемки в университете. Вроде бы директора «Тринити» и колледжа «Гонвил-энд-Киз», которых играли Джон Гилгуд и Линдсей Андерсон, выглядели в сценарии снобами-антисемитами. Нынешние же их преемники смириться с этим не пожелали.
Ладно, подумали мы. Ничего не попишешь. Повеселились — и будет. Однако продюсер фильма Дэвид Паттнем либо из любви к нам, либо, что более вероятно, из практических соображений, связанных с экономией средств, нас не распустил. Он быстренько договорился с Итоном о переносе съемок туда, и всех нас стали возить автобусами в Беркшир, а находившаяся по соседству с ним «Студия Брея» обратилась в основную базу съемочной группы. В Итоне же снималась и одна из самых памятных в фильме сцена забега в Большом дворе, в которой Гарольд Абрахамс и лорд Линдсей, сыгранные Беном Кроссом и Найджелом Хэверсом, обегают по внешнему периметру Большой двор «Тринити» за сорок три или около того секунды (точное время зависело от того, когда в последний раз заводились часы «Тринити»), то есть за срок, пока часы отбивали двенадцать ударов, — подвиг, едва-едва не повторенный в 1988-м Себастьяном Коу. Школьный двор Итона раза, наверное, в четыре меньше Большого двора «Тринити», однако подбор углов съемки позволил так ловко замаскировать этот факт, что, пожалуй, уложиться в сорок три секунды сумел бы и я. Впрочем, моя роль, как и роли почти всех остальных, сводилась в этой сцене к тому, что мы кричали «ура!» и подбрасывали в воздух канотье.
Съемки этой сцены показались мне на редкость затянутыми. Я поверить не мог, что одну сцену можно снимать так долго, и решил, что занимались этим люди до крайности некомпетентные, что все наверняка можно было сделать гораздо быстрее и толковее. Теперь-то я понимаю, что организована съемка была образцово и проходила очень быстро. Человеку со стороны съемки всегда кажутся нестерпимо скучными и до жути беспорядочными. Вообще говоря, если ты не понимаешь, как что-то устроено, было бы, наверное, естественно проникнуться сомнениями и начать задавать вопросы. В годы более поздние, когда — а это случалось очень часто — какой-нибудь прохожий принимался во время уличной съемки, в которой я участвовал, осуждать «всех этих людей» и указывать, что «большинство их болтается тут без дела», а затем высказывал предположение, что «у вас, наверное, профсоюзы всем заправляют», мне приходилось давить в душе вызванное его грубостью негодование, напоминая себе о собственном моем скептицизме во время съемок «Огненных колесниц». Скептицизм этот разделялся многими, большинство статистов заскучали, решили, что с ними плохо обходятся, и устроили мини-забастовку — расселись по всему школьному двору и принялись скандировать требование дополнительной платы. Жадность и грубость, на которые оказались способными наши студенты, уязвили меня, — рад сообщить, что мы с Кимом к этой большевистской фракции не присоединились. Паттнем вышел к нам и, словно шутя, без малейших признаков раздражения или разочарования, согласился выдать каждому из нас еще по два фунта. Мы ответили ему «ура!» более громким, чем то, какое нас просили выдать в сцене забега.
Если вам случится как-нибудь посмотреть «Огненные колесницы» и вы захотите — по причинам, справляться о коих я не стану, — увидеть меня, присмотритесь к сцене на балу «Общества Гилберта и Салливана», которая идет сразу за торжественным обедом первокурсников. Я маячу там, глупо ухмыляясь, на втором плане. Таково одно из самых жестоких проклятий, наложенных на меня природой. Каким бы душевным, милым и простым ни старался я показаться, черты моего лица неизменно складываются в выражение предельного самодовольства, самоуверенности и самовлюбленности. По-моему, это нечестно.
Между тем в Кембридже жизнь шла своим веселым чередом. BATS поручил ставившему «Латынь!» Саймону Черри постановку пьесы для Майской недели 1980 года. Он дал мне роль старого бородавчатого короля в «Конец — делу венец». Эмма Томпсон играла Елену, Ким несколько ролей сразу, а Барри Тейлор — Пароля.
Барри, чей Макбет произвел на меня столь сильное впечатление, оказался удивительным человеком, внушавшим мне, совершенно того не желая, чувство вины и стыда. Он был на редкость интеллигентен, проницателен, умудрен, учен, прекрасно писал и обладал научным складом ума, однако в том, что касается жизни в Кембридже да и во внешнем по отношению к Кембриджу мире, ему страшно мешал один колоссальный изъян, устрашающий недостаток. А именно честность. Цельность натуры. Сами по себе честность и цельность натуры — качества прекрасные, однако, когда дело доходит до письменных экзаменов, они оказываются еще и фатальными. Барри, который был на год старше меня, учился в Кембридже последний триместр, и, стало быть, ему предстояло в самом скором времени сдавать выпускные экзамены. Если кто и заслуживал диплома с отличием и возможности остаться в университете для исследовательской работы, стать уважаемым всеми преподавателем и ученым, так именно Барри. Однако его роковой изъян означал, что, придя на экзамен и получив билет, он постарается ответить на вопросы. Будет сидеть и обдумывать их. Отыскивать правильные подходы к ним. Потом начнет писать, потом ему придет в голову новая мысль и он зачеркнет написанное и постарается перенести на бумагу только дотошно обдуманные суждения, оценки и умозаключения. И ко времени, когда в конце экзамена раздастся свисток, то есть по истечении трех часов, за которые ему следовало ответить на три вопроса, написав для того три эссе, у Барри будут иметься на руках одно эссе, доведенное до совершенства, половина другого, просто очень хорошего, и третий, оставшийся вообще без какого-либо ответа вопрос. Год назад он уже проделал именно это на предварительном экзамене и сам хорошо понимал, что почти наверняка проделает и на выпускных, на стремительно приближавшемся «трайпосе» по английской литературе. Писал Барри тонко и точно, демонстрируя отменное чувство стиля, его понимание литературы, нравственные, социальные и эстетические принципы обладали куда большей ценностью и глубиной, чем мои, однако он просто-напросто не умел управляться со временем или идти на компромисс, позволявший давать экзаменаторам то, что они желали получить. Родители Барри принадлежали к рабочему классу и жили в Юго-Восточном Лондоне. Он рассказывал мне, что в тех редких случаях, когда мальчики из частной школы садились где-нибудь в Саутэнде или на Собачьем острове на автобус и просили кондуктора продать им билет, он с друзьями принимался, услышав их роскошный выговор, каркать, гнусить и растягивать гласные, изображая таковой. Они не угрожали редким гостям, не задирали их — просто выговор этих чужеземцев был для тамошних мальчишек совершенно непривычным. Они затруднялись поверить, что кто-то — и в особенности их сверстники — может разговаривать на подобный манер. А затем Барри приехал в Кембридж и обнаружил, что это он говорит как-то не так, что картавость выпускников частных школ как раз и является нормой. Ему потребовалось немалое время, чтобы понять: говорить так могут не одни лишь унылые болваны из высшего общества.
Как должен был Барри относиться к человеку вроде меня — достаточно лживому и пронырливому, чтобы отвечать на экзаменационные вопросы именно так, как требуется для получения наивысших оценок с наименьшими усилиями, но при этом наделенному памятью и знаниями, которые позволяют ему выдавать свое вранье за результат серьезных научных изысканий, — я не знаю. Добавьте к этому мои манеры выпускника частной школы и показную уверенность в себе — и вы получите типчика, которого любой обладавший умом да и просто-напросто личностью человек мог, полагаю я, только презирать.