Песни мертвых соловьев Мичурин Артем
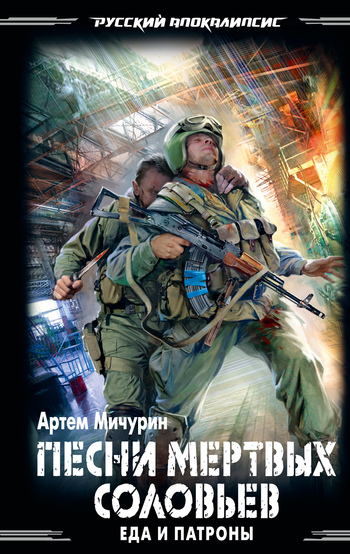
Взгляд снова пробежал по комнате, выискивая пути к отступлению. Наиболее очевидный вариант – окно – отпал, стоило только приглядеться. За не слишком чистым стеклом совсем некстати обнаружилась решетка из перекрещивающихся стальных прутьев. Пролезть нереально, выдрать, судя по капитальным креплениям, тоже. Зародыш паники холодным ужом скользнул под рубаху. А что делать, когда одолевает паника? Успокоиться? Хе. Это не так просто, особенно если времени в обрез. Но можно поступить иначе – дать панике волю и распространить ее вокруг.
Идея родилась почти моментально. Глаз сразу вырвал из скромной обстановки кабинета требующийся для представления инвентарь – простыня, лампы, забитые бумагой шкафы. Через минуту по окропленному керосином кабинету уже плясали языки пламени.
Я швырнул в окно подвернувшийся под руку стакан и почти одновременно со звоном разбитого стекла вылетел в коридор, вопя что есть мочи, пронесся мимо первого охранника, удивленно пялящегося на бушующий в дверном проеме огонь, выскочил из здания и успел скрыться в темноте до того, как услышал за спиной: «Держи щенка!!!»
Темнота – мой лучший друг. Надеюсь, нож не обидится. Даже подумать страшно, как тяжела была бы жизнь, не накройся вся энергетика медным тазом. Посмотришь на фотографии ночных городов в старых журналах, и просто оторопь берет – кругом иллюминация! Безумно яркие фонари на каждом шагу! Окна, витрины, фары! Кошмар! Должно быть, люди в то время вообще не мыслили себя вне этой электрической вакханалии. То ли дело сейчас – на улице ни лучины, разве что мусор в железных бочках тлеет, из редкого окна льется мягкий, трепещущий, естественный свет, да и не льется даже, а робко брезжит, едва освещая комнатушку, не говоря уже о внешнем мире, погруженном в непроглядный для примитивного человеческого глаза мрак.
А ночь тогда выдалась подходящая. Небо заволокло облаками, даже луны не видно, сплошная серая мгла. В такие ночи я чувствовал себя единственным зрячим на планете слепцов, что было недалеко от истины.
Добежав до знакомого уже двора, я отдышался и в полуприседе, стараясь не привлекать лишнего внимания обывателей, двинулся направо – туда, где за деревьями едва заметно светились окна первых этажей. Частный сектор с его узкими проулками и подсобным хозяйством, полным художественного беспорядка, всегда лучше типовой застройки. Кроме того, это был восточный район, обращенный к нейтральному Арзамасу, что вселяло надежду на не столь суровые меры безопасности, как, возможно, с западной стороны. Осталось самое сложное – добраться туда.
На вокзальной площади завыла сирена, оповещая всех о произошедшем ЧП.
Впереди и справа, метрах в ста, вспыхнули два прожектора. Разрезавший темноту луч пополз по кустам с противоположной стороны дороги.
– Внимание всем постам! – Вой сирены сменился хорошо поставленным командирским басом и скрежетом статики. – Внутрь периметра проник нарушитель! Это ребенок! Десять – двенадцать лет! Скорее всего, вооружен! Немедленно задержать его! В случае сопротивления – уничтожить! И быстро пожарную машину к штабу!!!
После слова «внутрь» луч резко ушел вправо, но полностью не развернулся. Пересекший линию заграждений свет блеснул на металлических шипах, прошелся вперед-назад, давая часовому возможность проверить целостность двух рядов забора из колючей проволоки, после чего обратился в противоположную сторону. Луч прожектора, расположенного на соседней вышке, повторил тот же маневр. Вместе они перекрывали всю длину пролета, попеременно освещая каждый свою половину. Чтобы перекусить «колючку» и уйти, у меня было примерно пятнадцать секунд темноты, прежде чем луч вернется, а автоматная очередь пригвоздит детское тельце к земле. Мало, но ждать или искать иные способы – себе дороже. На соседних улицах уже мелькали огни фонарей и раздавались крики.
Я отцепил с ремня ножны своего «НР-2», подобрался ближе к забору, улегся на брюхо и пополз.
Помню, в голове промелькнула мысль о минах, но я быстро ее отогнал, убедив себя, что изнутри никто минировать не станет. Тем более МОНам есть более дельное применение на противоположном краю города. А если ошибся… что ж, все мы там будем.
Признаюсь – когда лежал мордой в землю и краем глаза видел проползающее в метре от головы световое пятно, здорово перетрухал. Наверное, чудо-листья Хромого сыграли злую шутку. Еле удержался, чтобы не вскочить и броситься в спасительную темноту. Ночь была прохладная, но спина взмокла так, что куртка прилипла к пояснице. Челюсть, едва справляясь с нервным ознобом, норовила пуститься в пляс. Я стиснул зубы и пополз вперед. Рот наполнился вкусом выступившей из десен крови.
Секунда, две, три. Я у проволоки. Хватаю ее ножнами-кусачками и жму. Негромкий щелчок. Перекушенные концы падают на землю. Слава богу – не под током. Ползу дальше. Семь, восемь. Второй ряд. Хватаю, жму. Щелчок. Концы проволоки расходятся, но вместо того, чтобы обвиснуть, загибаются вверх. Твою мать!!! Справа и слева раздается громыхание пустых консервных банок. Оба прожектора, не дожидаясь своей очереди, поворачиваются в мою сторону.
– Там!
Крик часового и световое пятно застают меня уже на обочине дороги. Я вскакиваю и бегу. Бегу так, как никогда не бегал. Вижу маячащую впереди тень и фонтанчики раскрошенного асфальта. Сзади грохочет «АКМ», но я его почти не слышу. Ныряю в прогон. Угол забора взрывается снопом щепок. Ветки и листья, скошенные свинцом, падают под ноги. Но я все еще жив. Мне навстречу, звеня ключами, бежит человек. Сую ножны в карман и достаю пистолет. Человек отпирает калитку, ныряет внутрь, но не успевает запереть. Выпущенная из «АПБ» длинная очередь находит его. Плечом вламываюсь в пробитые доски. Калитка упирается в труп. Протискиваюсь через щель. Бегу. Ноги проваливаются в рыхлую землю грядок, подошвы давят овощи. Перемахиваю невысокий штакетник. Бегу. Слышу за спиной: «Эй! Куда?» Останавливаюсь и стреляю на звук. Кто-то вскрикивает. Бегу дальше. Снова забор. Проулок. Забор. Еще. Еще. Еще…
Что происходило между этим сумасшедшим марш-броском и моментом, когда я очнулся, в памяти не отложилось. Помню только – брел, не видя дороги, жрал листья, а после…
Свет. Яркий, солнечный. И синее небо. Аж глаза режет. Вокруг трава. Поворачиваю голову, а прямо перед лицом собачья морда, смотрит на меня и скалится. Как тогда успел нож выхватить, ума не приложу. Псина дернулась вперед, но получила клинок в шею и вместо горла разорвала мне только кожу на подбородке. Я сбил зверюгу с ног, навалился всем телом и, продавив нож к хребту, загнал его меж позвонков.
«Отличное» начало дня. При таких раскладах хорошего продолжения не жди. Если уже с утра жизнь макает рылом в говно, самое верное решение – ничего не делать, запереться дома и тихонько переждать. Я не суеверный, но опыт показывает, что дерьмовое начало имеет гораздо больше шансов перейти в тенденцию, нежели удачное. Только вот дом далековато, а тенденция уже налицо.
Кобель, которого я зарезал, был, судя по всему, вожаком. Здоровенный, килограммов сорок, с уймой шрамов на шкуре, в том числе и от огнестрела. Решил первым продегустировать свежачок, на правах сильнейшего. Трое его подручных помельче крутились рядом, пребывая в нерешительности. Но долго ли эта нерешительность продлится?
Интересные твари. Говорят, до войны собаки жили рядом с человеком, прямо в домах. Дрессированные были, аж пиздец. Границу охраняли, взрывчатку с наркотой помогали искать. Даже поговорка такая существовала: «Собака – друг человека». Черт. В башке не укладывается. А потом все покатилось в тартарары. Сорока минут обмена ядерными любезностями хватило, чтобы история партнерства между человеком и собакой, насчитывающая якобы не одну тысячу лет, пошла прахом. А то! Зов желудка – он посильнее дружбы. Оголодавшие прямоходящие пустили четвероногих друзей под нож. Но кроме одомашненных были еще и бездомные. Охренеть. «Бездомные собаки» – звучит примерно как «водоплавающие рыбы». Так вот, эти отбросы высокоразвитого собачьего общества после войны окончательно разложились в моральном плане, одичали и ушли в леса, откуда периодически стали совершать набеги на человеческие поселения с целью поживиться легкодоступными и пока еще достаточно многочисленными двуногими. С тех пор нет лада между этими некогда мирно сосуществовавшими видами.
Оставшись без попечительства человека, собаки быстро вспомнили, чьего они рода-племени. Принцип охоты у них не отличается от волчьего – окружают добычу, гонят ее, изматывая, а потом убивают. Правда, там, где волки справляются впятером, собак требуется десяток.
Странное дело, при всей схожести волки и собаки люто ненавидят друг друга. Может быть, первые винят вторых за давнее предательство? А те, в свою очередь, чуют вину, но не хотят признать, отчего и бесятся? Один на один собака никогда не кинется на волка, даже если превосходит его габаритами. Жизнь рядом с человеком испортила собачий генофонд. Их мышцы ослабли, клыки притупились. Должно пройти не одно столетие, прежде чем природа реабилитирует предателей. А пока они стараются брать числом. Но это не всегда удается. Немногочисленные раньше волки год за годом возвращают себе леса и степи, жестко конкурируя со своими нерадивыми соплеменниками в борьбе за охотничьи угодья. Однако самое удивительное в том, что и те и другие панически боятся волколаков – громадных тварей, килограмм под девяносто, пришедших в наши широты, как я слышал, откуда-то с северо-востока. Те охотятся в одиночку. Многие из них слепы, полагаются только на слух и невероятно развитое чутье. Бесшумные, укрытые густой, почти не отражающей света шерстью, они выслеживают свои жертвы ночами. Подкрадываются, словно тень, и так же исчезают во мраке, унося с собой добычу, умерщвленную одним точным и неотвратимым, как судьба, укусом, перерезающим яремную вену. Могучие звери. Но с десятком собак или волков они не справятся. Тем не менее одно только присутствие волколака поблизости способно вынудить стаю навсегда уйти с обжитой территории.
В одной книжке про моряков я читал, что лучший способ выгнать крыс с корабля – это поймать десяток-другой серых бестий, посадить их в ведро, закрыть крышкой с отверстиями для поступления воздуха и оставить на неделю. По прошествии этого срока выживет только одна – самая сильная, злобная и прожорливая – крысак, или крысиный волк, как его еще называют. Остальные будут съедены. Пожравшая сородичей тварь не примет больше никакой другой пищи. Выпущенная в трюм, она будет истреблять своих всеядных братьев и сестер, расти и сеять ужас. Причем друг друга крысаки не тронут, даже близко постараются не ходить. Три-четыре таких чудовища, в конце концов, выживают с корабля всю колонию. Не знаю, промышляют ли волколаки каннибализмом, но что-то общее между ними и крысой из ведра определенно есть.
Обычно собаки поодиночке не ходят. Они, как и люди, – стайные животные. Единственное исключение – дряхлая, больная или раненая особь, которая стала бесполезной для группы. Но такие долго не живут, поэтому встречаются редко. Средняя стая насчитывает десять-пятнадцать животных, включая молодняк. Бывает и меньше, но это в основном недобитки, они либо подыхают, неспособные добыть пищу, либо, если повезет, присоединяются к более успешной стае.
Трое, что поджимали в смятении хвосты, глядя на своего мертвого вожака, оказались как раз из таких. Стая, видимо, не так давно попала под раздачу. Уцелевшие еще не успели заметно отощать и ослабнуть. Правда, среди них был подранок. Один из псов прихрамывал на заднюю ногу. Серая шерсть на бедре слиплась в бурую колючую паклю. Но по скорости он все равно дал бы мне фору. Тем более что…
Резкая боль кольнула в левый бок. Я сунул ладонь под куртку и почувствовал, как пальцы липнут в теплой вязкой субстанции. Плохая новость. Оказаться одному посреди пустоши, с простреленным брюхом, да еще и в столь милой компании – это совсем не тот вариант, на который рассчитываешь.
В целом картина сложилась удручающая, или, как говорят не столь начитанные граждане, – «полный пиздец». Во-первых, я не имел ни малейшего понятия о том, где нахожусь. Нет, примерный вектор движения я себе, конечно, представлял благодаря солнцу, но вот расстояние… Сколько времени я шел, покинув Навашино? Как далеко забрел и в каком направлении? Эти вопросы оставались без ответа. Во-вторых, не предусмотренная конструкцией дырка в моем бренном теле хоть и обошла ливер стороной, здорово кровоточила, что сказывалось на самочувствии отнюдь не лучшим образом. И, наконец, в-третьих, оставленные на месте моего недавнего триумфа собаки, схарчив дохлого вожака, вряд ли откажутся от идеи поживиться свежей человечинкой.
Обмотав рану откромсанным рукавом куртки, я кое-как протопал сотен пять-шесть метров прочь от развернувшегося пиршества, нашел сухую канаву и занялся самолечением.
Никогда не думал, что буду рад схлопотать автоматную 7,62 в бочину. Разумеется, я был бы счастлив, пролети она мимо, но, с другой стороны, на ее месте могла оказаться, например, «пятерка» – настоящий кошмар полевых хирургов. Из-за пустоты в головной части эта пулька имеет неустойчивую траекторию и, попадая в цель, начинает кувыркаться уже через пять-семь сантиметров пути, оставляя за собой фарш. Чаще всего выходит донной частью вперед, у нее там центр тяжести. А «семерка» гораздо гуманнее. К тому же нашла она меня явно недалеко от стрелка, еще не успела потерять скорость и благодаря этому прошла словно игла через тряпку. Выходное отверстие получилось совсем небольшим.
Тем не менее оставлять рану как есть было бы чревато. Из-под небольшого струпа, наросшего за время моей отключки, все еще обильно сочилась кровь. Левая штанина до колена покрылась бурой коростой, растрескавшейся на сгибах и осыпающейся при ходьбе. Тяжелая, как с похмелья, голова то и дело норовила упасть и повиснуть бесполезным грузом. Глаза смыкались. Если не остановить кровь, то рано или поздно они закроются, и, скорее всего, окончательно.
В рукояти «НР-2» – моего второго ножа, выполняющего хозяйственные функции – всегда хранится НАЗ. Обычно это моток тонкой стальной проволоки, точильный камень, леска с грузилом и крючками, спички, булавка, нитка, игла. А также мешочек со смесью негашеной извести и медного купороса – средство жесткое, однако весьма эффективное, к тому же помогает избавиться от сомнений в том, что человек на восемьдесят процентов состоит из воды. Если действовать по рецепту, то хорошо бы добавить еще яичный белок, но за неимением оного и так сгодится. Можно, конечно, воспользоваться порохом, вот только поджигать его у себя на спине – занятие для настоящих энтузиастов, к коим не отношусь. Посему я сунул в зубы ремень, отрезал лоскут от куртки, высыпал на него порошок и приложил к выходной дыре.
Сказать, что это больно, язык не поворачивается. Больно прищемить палец дверью или на гвоздь наступить, а это – просто пиздецнахуйбля что такое. Тем сложнее было повторить процедуру для входного отверстия.
Немного отдышавшись и утолив разыгравшуюся жажду, я вернул повязку на прежнее место, вставил в штаны ремень, украшенный четким следом прикуса, и поплелся дальше, в пустошь. Как сказал бы писака-романист – «навстречу приключениям».
Приключения ждать себя не заставили. Видимо, я несколько переоценил питательность туши вожака, потому как надеялся хотя бы эту ночь провести в одиночестве, но вместе с сумерками пришли и «друзья человека».
Их острые, вымазанные кровью морды, поднимающиеся над травой и пробующие воздух, появились, как только солнце коснулось горизонта. Пока собаки держались на почтительном расстоянии, но это ненадолго. Уж я-то знаю – они дожидаются наступления темноты. А потом… Желтые огоньки, скользящие в черной пустоте. Мелькнут и погаснут. Снова загорятся, отразив вспышки беспорядочных выстрелов. Ближе, ближе. Шелест травы за спиной. Где ты, сука?! Длинная очередь из истерично пляшущего ствола. Щелчок затвора. Горячее дыхание в шею. Конец. Но они не учли одного факта – мне ночь не менее мила. Главное – оставаться в сознании.
Я развязал кисет и пошарил внутри. Листьев осталось не так уж и много. Что ж, будем тщательнее пережевывать. С боеприпасами дела обстояли не лучше. Из трех полных магазинов уцелел один, и еще четыре патрона в недострелянном. Поделим на три мишени – восемь попыток выжить. Могло быть хуже. Я перевел флажок в одиночный режим. ПБС свинчивать не стал, с ним удобнее, можно держаться, как за цевье, тем более что здоровенная рукоять еле помещалась в ладони. Да и ни к чему шуметь зря. Кто знает, не пустились ли навашинцы в погоню…
На первый, пробный заход собаки решились за полночь. Приблизились не сильно, метров пятьдесят или больше, покрутились и после двух выстрелов, цели, впрочем, не достигших, отошли. Следующая попытка состоялась минут через пятнадцать. Зная теперь об огнестреле, они разбежались, взяли меня в кольцо – дело нехитрое, учитывая, что я к тому времени еле двигал ногами – и круг начал сжиматься.
До сих пор не понимаю, как им это удается. Без связи, без визуального контакта, ночью, в полуметровой траве собаки расходятся на равное расстояние от жертвы и кружат в общем направлении, с одинаковой скоростью сокращая дистанцию. Более того, если кто-то из своры меняет ход, то же самое делают и остальные, почти моментально, в полной тишине. Потрясающе. Ни один отряд, даже сработанный годами, где каждый знает каждого, как себя самого, не может похвастать такой скоординированностью.
Когда ты в центре хоровода зубастых тварей, исходящих слюною от запаха крови, единственное твое желание – найти опору, чтобы прижаться спиной. И когда понимаешь, что опоры нет, накатывает паника. Фраза «кругом враги» неожиданно приобретает буквальный смысл, и ты чувствуешь, как шевелятся волосы на затылке, а дыхание становится до того частым, что голова кружится от избытка кислорода. Взмокшие пальцы безостановочно перебирают по рукояти, а ствол дрожит, рыская из стороны в сторону. И только одна мысль удерживает тебя на месте: «Побежишь – умрешь». О да, это их план. Они доведут тебя до истерии, до безумия. Молчаливые прислужники смерти. Они пришли за тобой. Беги. Беги! А я останусь. Я вижу их. Я знаю, как эти твари мыслят. Моя рука тверда. Мой разум ясен. Я выживу.
Первая атака была со спины. Тварь прыгнула, но промахнулась. Слишком шумно когти скребли о землю при толчке. Серая тень пролетела возле моего левого плеча и исчезла в траве. Три пули ушли следом.
Справа! Две желтые точки вспыхивают во мгле. Они растут, становясь из горизонтали в диагональ. Грудь принимает на себя удар мощных лап. Я чувствую, как ноги отрываются от земли, а палец давит на гладкую сталь спускового крючка. Мгновение назад оскаленные клыки прячутся за черными губами. Из звериной глотки вырывается крик. А моя спина встречается с землей. В глазах темнеет, но лишь на секунду. Левую икру пронзает острая боль. Приподнимаюсь и стреляю в ощетинившийся силуэт. Тут же обзор мне закрывает собачья голова, слившаяся воедино с моей правой рукой. Кисть немеет. «АПБ» тяжел, слишком тяжел. Он падает в траву. Но есть вторая рука, и есть нож. Клинок по самую гарду тонет в жестком мясе. Кровь хлещет в лицо. Клыки скребут по моей скуле. Я уже ничего не вижу, но продолжаю бить. Я колю и режу наугад. Режу и колю, пока вокруг не становится совсем тихо.
Поднимаюсь, стираю рукавом с глаз липкую пену, сплевываю шерсть. На земле лежат два пса. Их шкуры усеяны ранами, у одного вспорот живот. Кишки сизой веревкой обмотались вокруг задних лап. Слышу дыхание. Тяжелое, хриплое. Метрах в десяти, оставляя за собой борозду из примятой красной травы, ползет третий. Беру пистолет, иду следом. Это тяжело. Левая нога чертовски болит. Недобиток извивается, всеми силами стараясь продвинуть изрытое пулями тело хоть на сантиметр подальше от смерти. Пусть. Ему недолго осталось. Сберегу патрон.
По шее и груди течет кровь из разорванного лица. Правое предплечье сломано. Ниже левого колена лоскуты штанов спутались с лоскутами кожи. Но я жив и продолжаю идти. Не знаю куда. Просто переставляю ноги. Пока не упал.
Глава 7
Смерть – величайшая загадка мироздания. Ирония состоит в том, что отгадавшие уже не могут подсказать верный ответ. Через это прошли миллиарды, но мы все равно остаемся в неведении. Обидно. Хотя, с другой стороны… А действительно ли нам нужно знать? Вдруг разгадка столь ужасна?.. Хм, как поведет себя человечество, поняв, что там ничего нет – ни рая, ни ада, ни бога, ни души? Ты – просто мясо на костях, не более, умрешь – ничего не останется, и ждет тебя не высший суд, а только черви. Окончательно слетит с катушек? Пойдет вразнос, утратив последний стопор? Или напротив, вцепится в жизнь мертвой хваткой? Начнет ценить ее, как никогда? И возлюбим ближних, и прекратятся войны, и воцарится мир…
Я был близок к разгадке, но случай распорядился иначе.
Очнулся от колющей боли в районе подбородка. Открыл глаза и страшно удивился. Надо мной, склонившись, сидела красивая девка лет пятнадцати. Чистенькая, свежая. Первая мысль, посетившая голову: «Бордель? Мне же надо к Хромому». Но приглядевшись, я понял, что ошибся. Обстановочка скромновата, да и девка не по тамошней моде обряжена: серый сарафан с передником, белый платок на голове – нет, я не мог такого заказать. Мне всегда импонировал минимализм в женском гардеробе. Хотя на морду – наш выбор.
– Ой! – всплеснула она руками, увидев, что я оклемался. – Ты как, малыш? Нет-нет, не вставай. Сейчас за матушкой схожу.
«Или все-таки бордель?»
Девка подскочила и выбежала за дверь.
Я, приподнявшись на локтях, взобрался повыше, чтобы как следует осмотреться.
Комната была небольшая, с минимумом мебели: стол у зашторенного белыми занавесочками окна, в одном углу рукомойник, в другом – икона, два стула, тумбочка и кровать. На тумбочке стояла миска с красноватой водой, а в ней лежала мокрая тряпица той же расцветки.
Я откинул одеяло – бок заклеен матерчатым тампоном с рыжеватым пятном страшно вонючей мази, правое предплечье в шинах, левая нога от щиколотки до колена забинтована. Очень хорошо – значит, убивать не будут, по крайней мере, не сейчас. Потрогал лицо – скула заклеена, на подбородке швы. Ни дать ни взять жертва, бедный несчастный ребенок. Как та краля сказала? Малыш? Славно.
Заскрипели половицы, дверь открылась, и вошла грузная мордастая тетка, на ходу вытирая руки перекинутым через плечо полотенцем, следом в комнату проскользнула моя смазливая сиделка.
– Так, что тут у нас? – начала тетка по-деловому и без церемоний ухватила меня за башку.
Бля. Настоящий танк в юбке. Лапищи – будто у мясника. Пополам сломает, глазом не моргнув. Ей бы вышибалой в кабак, нагнала б на пьяных мужиков страху.
– Жар спал, – констатировал «танк», отпустив мою уже начавшую поскрипывать от чудовищного давления черепушку. – Дай ему бульону куриного, но не много, организм слабый еще, не примет. А как поест – сообщи отцу-настоятелю. Говорить-то можешь, агнец? – обратилась тетка ко мне, и мясистые красные щеки приняли почти идеально круглую форму, потесненные улыбкой.
Я кивнул.
– Вот и хорошо, – тетка развернулась и пошла к выходу. – Да, Варя, – остановилась она в двери, – тебя Федор искал, не сказал зачем. С ним, смотри, построже. Больно уж горяч.
– Ну что вы, матушка? – зарделась сиделка, потупив взгляд.
Тетка-танк, уходя, ничего не ответила, только молча погрозила пальцем.
Варя повернулась ко мне, невинно сложила ручки в замочек и улыбнулась.
– Как самочувствие?
– Ху… Хуже бывало.
Я с трудом признал в раздавшемся хрипе собственный голос.
– Это верно. Когда тебя Кирилл с братьями, из дозора вернувшись, принесли, думала – не жилец. Только милостью божьей да стараниями матушки Прасковьи и выходили. Я три ночи пресвятой богородице молилась.
Ах ты, сахарная моя. Того гляди, жопа слипнется. Что за ебнутая семейка? Постой… Три ночи?
– Три ночи?!
– Да. Ты же все это время в беспамятстве пребывал. И трясло тебя, словно бес вселился, аж руки заламывал, к кровати пришлось привязывать. Боялись – суставы вывернешь. Ну, пойду, бульона согрею.
– Ага, пожрать не мешало бы, – пробубнил я ей вслед растрескавшимися губами и погрузился в размышления о насущном: «Что мы имеем? Я трое суток провалялся в жестокой ломке. Нужно поосторожнее с этими листьями. Подобрал меня некий Кирилл с братьями. Братья, матушка, отец – похоже на общину близкородственную, но вроде не дегенераты. И то ладно. Выставляют дозоры – значит, община немаленькая и постоять за себя может. Деваха молилась кому-то там до одури – не исключено, что фанатики. С этими надо аккуратно. Ляпнешь чего лишнего – потом дерьма не расхлебаешь. Будем работать по легенде «Растерянный испуганный мальчик», это всегда прокатывает. Лишь бы дозорным хватило здоровой вороватости втихомолку прикарманить «АПБ», а то глушенный ствол херово вписывается.
Пока я предавался размышлениям, вернулась Варя, постелила мне на грудь сложенное треугольником полотенце и, зачерпнув из миски, поднесла к моим губам ложку горячего, пахнущего курятиной бульона.
– Ты что делаешь?
– Кормлю, – пожала она плечами.
– Сам могу, – я взял ложку в здоровую руку и принялся наворачивать.
– О! – удивилась деваха. – Ты левша? Говорят, левши талантливые. У нас Петр – иконописец – опять же левша.
– Да мне все равно, какой рукой хлебать, бы было что. А этот Петр тоже брат твой?
– Все мы – братья и сестры.
Ну, пиздец, угораздило. Зря надеялся. Если не схарчат, так заставят какую-нибудь пускающую слюни умственно отсталую страшилу охаживать, «давать роду свежую кровь». Блядь, ненавижу даунов. Они хуже свиней – тупые, жирные и заторможенные, как бревно. Хотя Варюшу я б осеменить не прочь. Может, повезет?
– Господь – отец наш небесный, мы – дети его, а промеж собою – братья и сестры, – пояснила Варя, чем немало меня успокоила. – А на тебе, как погляжу, крестика нет. Некрещеный?
Я счел за лучшее просто помотать головой, дабы не углубляться в чуждые дебри вероисповедания.
– Жаль, – вздохнула Варя и попыталась стереть упавшую мне на подбородок каплю бульона. – Ой! Ты что?! Чуть всю миску не расплескал. Я же только промокнуть, а то в рану попадет. Вот чудной, – она отпрянула и нахмурилась, но быстро сменила гнев на милость. – Тебя хоть как звать-то?
Решив, что перечисление моих погонял вряд ли пойдет на пользу делу, я припомнил лацев, с которыми довелось якшаться, и озвучил первое попавшееся имя:
– Миша.
– А я Варя.
– Понял уже.
Девка-то все ж не особо смышленая.
– Какие у тебя глаза странные, – прищурилась она, – никогда не видела таких.
– Где, ты говоришь, деревня ваша находится? – постарался я сменить тему.
– Деревня? – переспросила Варвара, но тут же спохватилась: – А-а, ты про обитель. От Оки двадцать восемь километров на восток. Тут еще, рядом совсем, село большое было, Казаково. А чуть севернее – поселок Вача. Может, слышал?
– Нет. Что за обитель?
– Преподобного Ильи Муромца, покровителя воинства русского.
Ну, ясно – фанатики.
– Мы тут, за рекой, недавно, – продолжила Варя. – Третий год только. Еще и отстроиться как следует не успели. Но мне здесь больше нравится, чем в Муроме.
Я чуть не поперхнулся.
– Вы сюда из Мурома пришли?!
– Да. Отцу Пантелеймону – нашему настоятелю – сам Святой место это указал и велел новую, истинную обитель возвести.
– Понятно. А до Навашино отсюда сколько?
– Километров сорок к юго-западу, если напрямки, – она заглянула в опустевшую миску и улыбнулась. – Хороший аппетит, быстро поправляешься, – после чего встала и направилась к двери. – Схожу за настоятелем. Он с тобой лично побеседовать хочет.
– О чем? – прохрипел я вслед, но Варя только пожала плечами.
Рассказ девчонки многое прояснил, но еще больше вопросов породил. Главный вопрос – в каких отношениях состоят эти странные люди с навашинскими? То немногое, что я знал о первой окской войне, заставляло сильно беспокоиться по поводу умственного здоровья членов здешней общины. Чтобы выходцы из Мурома селились по эту сторону реки, да еще и в сорока километрах от своих заклятых врагов… Ну, знаете, фанатизм фанатизмом, а инстинкта самосохранения никто не отменял. К тому же, насколько мне было известно, муромские церковники принимали в тех боях самое непосредственное участие и давали навашинцам прикурить похлеще кадровых вояк. Рассчитывать после такого на радушный прием не приходится. Так почему же они все еще живы, а их «истинная» обитель не стала пепелищем? Уж не потому ли, что решили сменить сторону конфликта?
– Хорошо, спасибо, Варя, – донеслось из коридора, – а теперь оставь нас. Здравствуй, – дверь открылась, и в комнату вошел высокий худощавый мужик с длиннющей бородой поверх черного балахона. – Как себя чувствуем? – он приставил к кровати стул и, усевшись, положил ногу на ногу.
С виду мужик был крепкий, плечистый, держался прямо и уверенно, как молодой, но лицом тянул на все шестьдесят. Карие, выцветшие с годами глаза смотрели строго и проницательно.
– Здравствуйте, – ответил я почти шепотом, состроив невинную мину. – Нормально чувствую. Спасибо большое за… за все.
– На здоровье, – улыбнулся мужик. Голос у него был низкий, гортанный, и в этом «на здоровье» мне послышались недобрые дребезжащие нотки. – Ну, давай знакомиться. Отец Пантелеймон, настоятель здешний. А ты, значит, Миша?
Мое недавно обретенное имя из его уст прозвучало тоже без особой теплоты.
– Да, – кивнул я робко.
– Откуда ты шел? – продолжил настоятель.
– Не знаю. Мы с матерью и сестрами ехали из Мухтолово. Ночью все спали. Потом началась стрельба. Маме пуля попала в голову, – я прикусил щеку, и в глазах помутилось от выступивших слез. – Она сразу умерла. А сестренки… Мне стало так… Я убежал и спрятался. Когда закончили стрелять, было слышно, что они кричат. Они долго кричали, очень долго.
– Кто напал на вас?
– Не разглядел, – я шмыгнул носом и вытер текущие по щекам слезы. – Темно было. Только вспышки кругом. Наверное, засаду устроили.
– Ты сказал, что все спали. Значит, вы остановились на ночь. Какая же засада?
– Нет, я имел в виду маму с сестрами, ну и себя тоже. А возницы не спали, конечно. Мы с обозом ехали, шесть подвод и машина.
– Торговый обоз? Что везли?
– Не знаю точно. Сахар вроде бы.
– А сам-то мухтоловский?
– Угу.
– И в обозе ваши, местные?
– Да, напросились себе на беду до Кулебак, к родне. Кто же знал, что так выйдет? – я снова всхлипнул и потер глаз тыльной стороной ладони.
– До чего быстро мир вокруг меняется, – покачал головой настоятель. – Из Мухтолово окромя пушнины и теса сроду ничего не возили. Пулю той ночью поймал?
– М-м… – рука потянулась к боку. – Сам не понял, когда прилетела. Поначалу и не заметил даже, так, ужалило. Потом смотрю – кровища откуда-то. И не болело вроде, а сейчас… – я поморщился, изображая адские муки.
– Рану сам обрабатывал?
– Сам, прижег маленько, чтобы кровь остановить.
– У тебя химический ожог, на известь похоже, а она тут под ногами не валяется. С собой носишь или как?
Вот въедливая скотина, так и норовит мне легенду поломать.
– Мама дала, на всякий случай.
– Разумеется, – настоятель лукаво усмехнулся. – Вдруг коленку расшибешь. А вот это, – он выудил из складок своего балахона и уложил на дальний край кровати «НР-2», мой рабочий нож и «АПБ», – тоже мама собрала?
По интонации было ясно, что в дальнейших разъяснениях смысла нет.
– Этим, – взял Пантелеймон «НР-2», – наверное, плотничать. Этим, – повертел он в руках «АПБ», – мух гонять. А этим… – настоятель вынул из ножен обоюдоострый пятнадцатисантиметровый клинок с налипшей у гарды собачьей шерстью, взялся двумя пальцами за навершие литой алюминиевой рукояти и отпустил. Кинжал с глухим «тук» вошел в половицу на добрых три сантиметра. – Много ли можно делать такой почикушкой? Картошку чистить разве что. Или грудину пробить до хребта.
– Универсальный инструмент, – ответил я, не испытывая больше нужды в поддержании печального образа.
Настоятель вытащил нож из доски, поводил пальцами вдоль лезвия и со вздохом отложил в сторону.
– Теперь, братец, давай-ка начистоту. Но учти – повторного вранья не потерплю.
И я рассказал. Рассказал все. И о том, как ехал в оружейном ящике, и о том, как прикончил Баскака, о бегстве из Навашино, о собаках… Настоятель слушал очень внимательно, лишь изредка требуя уточнений. В конце моего рассказа он спросил:
– Кто заказчик?
– Не знаю, – честно ответил я.
– Кто тебя отправил?
– Этого не скажу.
Пантелеймон нахмурился и, подавшись вперед, доверительно прошептал:
– Сынок, тебя отправили на убой. Возврата не предусмотрено. Ты это понимаешь?
Он был прав. Теперь, находясь в относительной безопасности, трезво оценивая свои шансы выжить, я видел, насколько они мизерны. Не иначе Валет решил заработать моими стараниями в последний раз. Весьма прагматично. Послушный мальчик взрослеет. Рано или поздно он захочет жить своей жизнью, и прощай, доходы. Так почему бы не утилизировать парнишку сейчас, пока еще можно, за солидную компенсацию от заказчика?
– Понимаю. Но в моей работе свои принципы.
Настоятель, помолчав немного, кивнул, забрал разложенные на кровати «улики» и вышел за дверь.
В обители я провел почти месяц. Никто меня особо не пас, в передвижении почти не ограничивал, и даже платы за постой не требовал, что казалось совсем уж из ряда вон выходящим. Но все же посматривали в мою сторону искоса, на попытку завязать разговор отвечали в лучшем случае односложно, а чаще всего молчанием.
Неделю из этого месяца я провалялся в койке. Выздоровление шло не столь быстрыми темпами, как хотелось бы. Пока оставался неходячим, все пытался представить, как выглядит обитель. Из крохотного оконца было видно только небо, а звуки пил и топоров, не утихающие с шести утра и до позднего вечера, будоражили воображение: «Что же они там такое строят?» Вообще я слабо разбирался в церковной архитектуре. Единственными олицетворениями оной для меня были: громада Воскресенского собора в чистом районе Арзамаса да убогая деревянная часовенка с покосившимся крестом, недалеко от молокозавода. Здесь я ожидал увидеть нечто среднее. Из разъяснений Вари – единственного моего собеседника – выходило, что обитель – это не только храм, но и все, что вокруг. Ну да, собор и лацевские кварталы – обитель сытых людей. Часовенка и Поле – обитель грязных нищебродов. Вполне логично.
Однако то, что я увидел, впервые выбравшись из своей тесной кельи, производило впечатление, сильно отличное от ожидаемого. Единственное пришедшее на ум сравнение – база Потерянных, нутро которой я однажды мельком разглядел из-за приоткрытых ворот. Те же длинные бараки, правда, куда более опрятные, имеющие по два крыльца и полноценные окна; те же стены по периметру, но опять же более капитальные и высокие; мощные, обитые железом сторожевые башни с пулеметными гнездами – словом, все то же, но основательнее, хотя многое недостроено. Если в случае Потерянных речь шла об укрепленной базе, то здесь можно было говорить о настоящей крепости.
Деревьев из-за стен видно не было, значит, местность вокруг не лесистая, а основным строительным материалом тут являлись сосновые бревна и брус. Из чего я сделал вывод, что община либо охрененно богатая и покупает лес где-нибудь в Мухтолово, либо охрененно трудолюбивая и заготавливает его самостоятельно, за Окой, после чего прет сюда тридцать километров. Как выяснилось позже, верным оказалось второе предположение. Видно, не слишком преподобный Илья Муромец любит своих подопечных. Мог бы и поближе к реке место указать.
Единственная улица, если можно так назвать разделяющую дома грунтовку шириной в пять метров, шла от ворот к храму. На Воскресенский собор с его помпезными колоннами это приземистое сооружение совсем не походило. Впрочем, как и на часовенку у молокозавода – тоже. Было оно неказистым, но основательным, в здешней манере. По сути, храм представлял собой огромную двухэтажную избу с двумя прирубленными по бокам клетями. Все это дело покрывала раздельная двускатная крыша из дранки и венчала единственная маковка. Нижний этаж, судя по окнам, значительно превосходил верхний размерами, раза так в два. К одной из клетей было пристроено высоченное крыльцо.
Взрослого народу в крепости, по моим наблюдениям, набралось сотни полторы, а то и меньше. При этом ребятни по улицам носилось – хоть отбавляй, а многие бабы ждали приплода. Практически все мужчины, за редким исключением, постоянно имели при себе оружие. Даже полуголые машущие топорами и фуганками плотники готовы были немедленно принять бой. Рядом с любой стройкой стояла аккуратно сложенная пирамида, число стволов в которой соответствовало числу работяг. И, что сразу бросилось в глаза, все оружие было автоматическим. Сколько ни искал, так и не увидел хоть одного «СКС». Сплошь разномастные «АК», «РПК», «ПК» и даже «АЕК–971» с «АН–94». Причем многие экземпляры щеголяли весьма недурственной гравировкой на металлических частях и не менее художественной резьбой на деревянных, а кое-где и полиамид пестрел узорами.
Раньше мне уже доводилось встречаться с различными украшательствами. В основном это была бездарная самодеятельность, уродующая прекрасный в своей лаконичности облик оружия. Вот довоенные мастера – те знали свое дело. Однажды, помню, приволок с обнесенной хаты «ИЖ–54». Ружьишко-то простенькое, но какая отделка! Любо-дорого посмотреть. Видимо, индивидуальный заказ. Серийные, пятьдесят четвертые, отделывались грубовато, а у самых дешевых и без того убогая гравировка на колодке заменялась штамповкой. Здесь же чувствовалась рука настоящего художника. Резьба на ложе и прикладе, изображающая сцены волчьей охоты, даже будучи слегка подпорченной, производила сильное впечатление. Я хоть и противник всяческих изъебств на тему «не как у всех», до сих пор с удовольствием вспоминаю тот «ижак».
Здешние «украшения» по своим художественным достоинствам на произведения искусства, конечно, не тянули, но и бездарными назвать их язык не поворачивался. Тем более что они выполняли скорее ритуальную, нежели эстетическую функцию. Уж больно много там было крестообразных узоров и стилизованных текстов. О чем в них говорилось, я не понимал, да и не особо разберешь издали, а в руки оружие мне давать отказывались категорически. И вовсе не из опасений, что пальну. Расспросив Варю, я выяснил, что тамошние фанатики питают болезненную привязанность к своим стволам. До того болезненную, что едва не дрочат на них. Впрочем, последнему обстоятельству я бы и не удивился. Особенно после того, как проведал, что каждому автомату, пулемету здесь на полном серьезе дают имя. Черт, так и вижу бородатого святошу, нежно поглаживающего шомполом канал автоматного ствола и шепчущего с придыханием в окно выброса гильз: «Да, Люся, да, милая». Ясно, что при подобном раскладе лапать свои дражайшие волыны чужаку никто не даст. Это я еще могу понять. Но делать из железки предмет культа… Хотя молятся же крашеным доскам…
Утром двадцать второго дня моего пребывания в обители, сразу после медосмотра, проведенного бабой-танком, я был вызван к отцу Пантелеймону.
– Проходи, садись, – махнул он рукой, не отрывая взгляда от книги.
Обстановка в занимаемой настоятелем комнате на втором этаже храма была до того аскетична, что я не сразу обнаружил, куда тут можно сесть. Стены из голого, проконопаченного паклей бруса, скромная, без излишеств мебель, по самому минимуму, да две иконы – вот и все «убранство».
– Прасковья сказала, что здоровье твое в порядке, – продолжил настоятель, когда я опустил седалище на табуретку. – А значит, причин находиться здесь у тебя более нет. Завтра в шесть утра машину отправлю в Арзамас. Поедешь. Но прежде разговор у меня к тебе будет.
– Слушаю.
Пантелеймон отложил книгу, снял очки и наконец-то перевел взгляд на меня.
– Ты – парень неглупый, потому обойдемся без предисловий. Мне нужен свой человек в Арзамасе. Ничего особенного от тебя пока не требуется, лишь глаза и уши.
– Обычно просят голову, – попытался я сострить, но безуспешно.
– Сбор информации – это твоя задача, – невозмутимо пояснил настоятель. – Хочу знать обо всем, что происходит в городе и окрестностях.
– Понимаю. А взамен?
Старик усмехнулся и выложил на стол золотой.
– Будешь получать раз в месяц.
Я взял монету и, попробовав на зуб, сунул в карман.
– Только информация?
– Если потребуется что-то еще, я сообщу. По рукам?
Один золотой – это в полтора раза больше, чем я получил за предпоследний заказ. А его не назовешь легкой прогулкой. Здесь же мне предлагали заняться тем, что я и так делал ежедневно – держать глаза и уши открытыми, фильтруя треп на предмет ценной инфы. Отказываться от солидной прибавки к скромному ежемесячному доходу было бы глупо. С другой стороны, я прекрасно понимал – за одну только информацию столько не башляют, и «что-то еще» обязательно потребуется. Но разве это повод для переживаний?
– По рукам.
Следующим утром мне вручили изъятые вещи – почищенные, с правленой кромкой, – адрес связного, пароль-отзыв и без лишних разговоров отправили в Арзамас.
Удивительное дело – за прошедший месяц я успел соскучиться по Валету. Кто бы мог подумать. Старый говнюк занял место в моем сердце. Эта мысль веселила меня всю дорогу от западных окраин до дома. Не терпелось поскорее увидеться с единственным родным человеком. Как он меня встретит? Что скажет? Небось похоронил уже, а тут – раз! Ебать! Счастье-то какое. Только бы замки не сменил…
Повезло, ключ без проблем вошел в скважину и повернулся, приведя в движение диски. На замках мой «родной человек» никогда не экономил. С таким механизмом возни – будь здоров, вплоть до высверливания. Что ж, раз не сменил, значит, не ждет.
– Фара! Где, бля, шляешься?! – Валет стоял посреди комнаты в одних трусах и с половой тряпкой в руке, злой как черт, но при моем появлении выражение его лица резко изменилось. – Ты?
Трудно придумать вопрос глупее. На какой ответ можно рассчитывать, задавая его? Вот и я не нашелся, что сказать. Да это было и ни к чему. Думаю, Валет все понял.
– Сученок, – он бросил тряпку, расправил плечи и усмехнулся.
Короткая очередь пресекла его грудь по диагонали, от печени к сердцу. Кровь смешалась с грязной водой из опрокинутого ведра и потекла к моим ногам. Помню, как невольно сделал шаг назад, когда край розовой лужи коснулся подошв.
Сожалел ли я о содеянном? Нет. Ощущал ли потерю? Пожалуй. А еще в тот день я дал себе зарок, что никогда и ни при каких обстоятельствах не окажусь перед лицом смерти в одних трусах.
Фара, вернувшись, конечно, закатил скандал, но, взяв себя в руки, отнесся к моему решению с пониманием. Мы зарыли Валета на том же пустыре, что и Репу. По-моему, даже рядом, в нескольких метрах. Хотя могу ошибаться, ни креста, ни камня там нет.
Перед тем как предать тело наставника земле, я отрезал ему с правой кисти большой палец. Где-то читал, что воины северного народа, называвшего себя викингами, отрезали большие пальцы поверженным врагам, чтобы те в загробном мире не могли встретить их с оружием в руках. У меня было не так уж много мертвых врагов, встречи с которыми я опасался, но Валет, без сомнений, относился к таковым. Он стал первым в моей коллекции.
Глава 8
– Тебе голову, мне пальчик, – я ухватил главный трофей за патлы и, вынув из мешка, положил в раковину.
– Еб твою! На пол не лей! – возмутился Хромой нескольким расползшимся по замызганному паласу темным каплям.
– Грязнее не будет.
– Но-но, за языком следи, – он хмыкнул и покосился на мешок. – Много уже насобирал?
– Двадцать семь, – ответил я, рассыпав по столу выставленный Хромым столбик золотых монет.
– Ебануться. Коллекционер, бля. Ты их хоть обрабатываешь? Воняют небось?
– Не сильнее, чем в твоей конуре.
– Да что ж такое?! Хамит и хамит! Думаешь, я нарочно тебя два раза гонял? Вот больше делать-то не хрена. Какой тут, скажи на милость, мой интерес?
– Мне плевать, какие у тебя интересы. Я знаю только, что потратил на заказ почти два месяца, сделал пять трупов, понес крупные издержки. А что в итоге? Тринадцать золотых?
– Слушай, уговор был на десять. Три – компенсация за хлопоты. Скажи спасибо, хоть это выбить удалось. Заказчик, кстати, считает, что ты сам маху дал, наводка была верная. Ну, так он говорит.
– Знаешь, – я взял деньги и убрал в карман, – алчность – это грех. Смертный.
Вообще, конечно, не стоило так базарить с Хромым, злопамятная сволочь. Но у меня были веские причины. К тому же сорока на хвосте принесла благую весть – двое из четырех его подрядчиков безвременно почили, героически исполняя свой долг. По слухам, они даже не смогли перебраться за реку, пойдя на корм навашинским бригадам. Да, квалифицированные кадры – большая редкость. Кадры реже – оплата выше. Пусть Хромой теперь посидит и подумает над своим поведением. А меня ждали дела, обещающие действительно хороший навар.
Перед тем как явиться к Хромому, я заглянул по ставшему едва ли не родным за прошедшие десять лет адресочку. Богатый дом на тихой Садовой улице. Хозяин – Николай Евгеньевич. Что примечательно – чистейшей воды лац. К моменту нашего первого знакомства тянул на сороковник, да и сейчас мало изменился. Невысокий, сухонький, с правильными, я бы даже сказал, интеллигентными чертами лица. Тем не менее среди местных мой связной известен как Коля Бойня. Отлично рвет зубы страждущим, извлекает пули и даже имеет опыт успешного отсечения пораженных недугом конечностей. Интересный дядька, один из немногих собеседников, с которым можно потрындеть не только про лавэ, шлюх и волыны. Впрочем, заглянул я к нему не для этого.
– Доброе утро, – поприветствовал я сонные зенки, возникшие в смотровой щели после условного стука.
– А? Кол! – Зенки несколько раз моргнули и скрылись за заслонкой, послышался скрип вытаскиваемого засова, дверь открылась. – Дорогой ты мой! Проходи.
Вид у Николая Евгеньевича был плачевным: морда отекла, глаза красные, на башке нечто напоминающее воронье гнездо, и так прет перегаром, что закурить рядом страшно.
– Радость какая аль горе? – я вошел и осмотрелся.
В доме, обычно чисто прибранном, полный бардак: стулья перевернуты, посуда побита, на полу недоеденный ужин, на диване – доеденный.
– Было горе, стала радость! – ощерился Бойня и даже попытался воспроизвести танцевальное па с хлопаньем по ляжкам, но накатившая тошнота испортила весь номер. – Ох, елки, – он схватился за голову и, проковыляв к дивану, сел. – Где ж тебя черти носили?
– Работа, – приподнял я лямку висящего на плече мешка. – А что за переполох?
– О-о! Переполох – слабо сказано. Фома мне такие радиограммы шлет – хоть в петлю лезь.
– Чего хочет-то?






