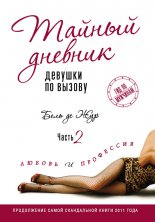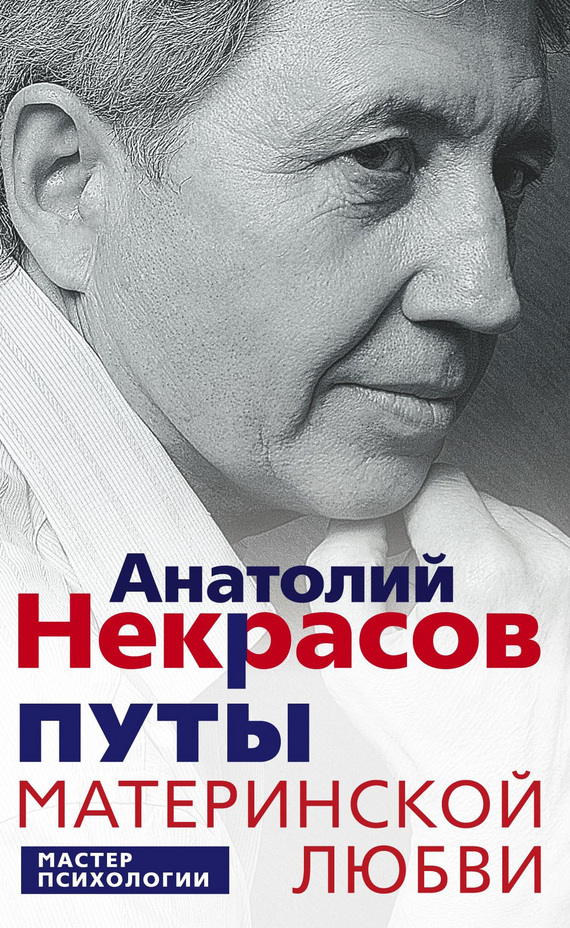Беллона Брусникин Анатолий

Фрегат
«Беллона»
И вдруг я понимаю, что такое жизнь. Я ее вижу.
Платон Платонович красиво сравнивал жизнь с фарватером, а человека — с кораблем, и некоторое сходство, конечно, имеется. Проживаешь день за днем, будто плывешь от бакена до бакена, и через кабельтов пенный след за кормой уже не виден. Однако ж сравнение неправильное. Вот уж не думал, что когда-нибудь не соглашусь с таким человеком! Это у Платона Платоновича жизнь — фарватер, а сам он похож на трехпалубный корабль, у меня же, и вообще у людей обыкновенных, всё не так.
Ведь фарватер, как известно всякому моряку, представляет собою единый водный проход, установленный для безопасной навигации судов, а у каждого человека курс следования свой собственный, и рифы с милями тоже персональные: кто-то потонет, а другому хоть бы что.
И с кораблем дюжинную личность я сравнивать бы тоже не стал. Это правда, что каждое судно имеет свой нрав, свою натуру и планиду — не зря у нашего брата корабль считается живым существом. Однако человек на корабль не похож. Корабль в каком классе со стапелей сошел, в том же и окончит свои дни. Никогда фелюке не вырасти в корветы, а, скажем, фрегату не выродиться в шлюпы. С людьми же приключаются самые разные перемены, или, по-ученому сказать, метаморфозы. Иной из нас, пока доследует до порта окончательной приписки (или до дна морского — это уж как судьба), раз по десять поменяет и тоннаж, и оснастку.
Даже удивительно, как это я сейчас о таких вещах думаю. Я много о чем сейчас думаю. Вот смотрю в одну точку и вспоминаю, как Платон Платонович, обучая меня правописанию, втолковывал: «Запомни, Герасим: никакая книга, никакая реляция и никакая мысль не может считаться законченною, пока ее не завершит точка».
Вон она, моя точка, я ее вижу. Она черная.
Но точка, которой всё заканчивается, сама по себе важности не имеет. Она всегда и у всех одинаковая. Важно, что было перед точкой: написанное тобою и про тебя. Что не вырубишь топором.
Жизнь лежит передо мной, будто длинный-предлинный лист, вроде тех, на которых писали в древние времена, когда бумагу не резали на страницы, а сворачивали в свиток.
Я вижу неровные строчки, сливающиеся в чернильную канитель, и букв не разобрать, потому что мелкое и незначительное в памяти обыкновенно не застревает. Но есть и картинки. Они как распахнутые окошки, я могу в них заглянуть.
И я заглядываю в каждое, ни одно не пропускаю. Почему-то я знаю: на это времени у меня хватит.
Картинка первая
Зеленая ящерица
Самая первая картинка расположена далеко от начала рукописи — оно мне почти вовсе не видно, теряется в какой-то сонной дымке. Честно говоря, ничего там, в начале моей жизни, интересного нету. Раннюю свою пору я почти что и не запомнил. То есть помню, конечно, кто я родом и из какой произрос почвы, но воспоминания будто окутаны туманом. Словно не со мною это было, а прочитал я в книжке или услышал от кого-то рассказ про матросского сына Герку Илюхина, появившегося на свет в Корабельной Слободе славного города Севастополя такого-то числа одна тыща восемьсот такого-то года.
Думается мне, что детские годы и отрочество так скудно отложились в моей памяти, потому что до некоего позднелетнего дня я и не жил по-настоящему, а пребывал в полудреме, навроде личинки или куколки.
Сейчас, в сию самую минуту, мне открылось, что моя жизнь — настоящая жизнь — началась не когда я, по выражению грубоязыкой тетки Матрены, «вылез из поганой черной дыры на поганый белый свет», а наоборот: когда я с бела света сверзся в черную дыру. Между двумя этими событиями диаметрально противуположного галса миновало пятнадцать с лишком лет, которые никакого интереса не представляют. Вся моя ранняя биография (ей-богу, не достойная столь громкого слова) укладывается в три слова: родился, осиротел, вырос.
К тому дню, когда я провалился в черную дыру и, стало быть, началась моя настоящая жизнь, я вырос еще не в полный свой рост и был ниже себя нынешнего вершка этак на два, но всё же вытянулся на полголовы выше тетки Матрены, а она в Корабельной считалась женщиной каботажной, то есть статной.
…Вот я сижу на склоне холма, именуемого у нас Лысой горой, смотрю на бело-зеленый город, курю самосад из глиняной трубки и ни о чем особенно не думаю. Не научился я тогда еще думать. Нужды в том не было. Так бы, наверное, и проклевал носом в бессмысленной полудреме до смертной доски, как большинство земных обитателей, — если б не зеленая ящерка.
Но ящерку я увижу через несколько мгновений, пока же просто пялюсь на Севастополь. Других городов и местностей я еще не видывал, потому зрелище не кажется мне чем-то особенным.
И все же я часто залезал на какую-нибудь из окрестных возвышенностей и глазел с высоты на кварталы и бухты. Несомненно, я чувствовал притягательность красоты, хоть, конечно, очень удивился бы, если б мне кто-то сказал, что я любуюсь пейзажем. Я и слова такого не знал.
Теперь-то, когда мои глаза научились распознавать и оценивать красивое, я понимаю, какой это был волшебно прекрасный город.
Я сплевываю табачные крошки, лениво оглядывая язык Южной бухты, справа от которого желтеют соломенные кровли родной слободки; на солнце переливается большой рейд — на нем, как гуси на воде, военные корабли; в тесной Артиллерийской бухте густо торчат мачты купеческих судов, а прямо подо мною раскинулись правильные квадраты «чистого» города: красные крыши, белые стены, зеленые бульвары. Повернешь голову влево — там морской простор, будто растянутая парчовая риза, вся в золотом шитье и самоцветных каменьях.
Мне скучно. Трава на плешивом склоне вся выгорела. Жарко печет августовское солнце. Надо бы перебраться под какой-нибудь валун, укрыть затылок от знойных лучей, да лень. Волосы на макушке, если потрогать, горячие. Тетка, зараза, не разрешает носить по будням старую отцову бескозырку, а другого головного убора я не признаю, потому что я не шпынь береговой, а моряцкий сын. Я и одет в матросское: рубаху, холщовые штаны, парусиновые башмаки. Пускай всё латаное-перешитое, однако ясно, из каковских я буду…
Батя мой был марсовый матрос. Он помер еще до моего рождения, в заморском порте Манила, от желтой тропической лихорадки. Тетка Матрена рассказывала, что был он высокий, на лицо рябой и малость кривоногий. Вот и всё, что я знал про папашину личность. Потретов с матросов не пишут.
Матери у меня отродясь не было. Тетка даже ее имени не запомнила и звала не иначе как «лярвой». Меня, когда осерчает, «лярвиным сыном».
Лярва и есть. Как узнала, что батя из плавания не вернется, кинула меня, сосунца, тетке под дверь, а сама в Одессу уплыла с каким-то греком. Или, может, в Николаев. Ну ее совсем. Про отца я думал часто: какой он был, чего на своем веку повидал, да каково это в Маниле помирать. А про мать никогда. Чего о лярве думать?
Воспитала меня батина сестра — как умела, то есть, считай, никак. Она была матросская вдова, каких в Корабельной много. Плохого про нее сказать не могу. Любить не любила — думаю, и слова такого не знала. У нас в слободке детей любить не в обычае. Кормить кормят, заболеют — лечат. А там погладить, приголубить, слово нежное сказать — такого заводу нет.
Изредка тетка меня жалела, но это спьяну, когда выпьет шкалик-третий и на слезу потянет. Сначала долю свою несчастную обплачет, потом и до меня, сиротинушки, очередь дойдет. Я-то, правду сказать, не жалел Матрену нисколько. Думал, подрасту еще и сбегу в Керчь или Евпаторию, буду с рыбаками рыбу ловить. С контрабандистами тоже хорошо, весело.
Вот-вот, про это я как раз и подумал, когда повернул голову в сторону моря и увидел на соседнем камне зеленую ящерку.
Крымские ящерки на исходе лета обретают серый, скучный цвет, становясь неразличимыми на фоне жухлой травы и пыли, эта же была ярко-зеленая, будто вся вырезанная из бутылочного стекла, или нет, не стекла, а китайского нефрита, на который я, бывало, пялился в витрине «Колониального магазина», что на Екатерининской улице. В жизни не видывал я такой нарядной ящерицы! Длиной она была, пожалуй, с мою ладонь. Глазки — словно две блестящие икринки. В напряженном вытянутом тельце, в повороте точеной головки было что-то файное — или, как я сказал бы теперь, изысканное.
Мысль, что пришла мне в голову при виде изящного зверька, была не особенно изящная: эх, поймать бы да на Привоз. Там, на приморском базаре, я не без успеха продавал морских звезд и коньков, необычные раковины и прочую дребедень, не имевшую у нас в слободке никакой ценности, однако же охотно приобретаемую чудаками из «чистой» публики: приезжими чиновниками или барчуками. За такую царскую ящерку какой-нибудь гимназист или юнкер мог отвалить четвертак, а то и полтинник.
Сначала я подобрал небольшой булыжник. До камня, на котором грелось зеленое чудо, было шагов пять. Я бы не промахнулся. Но потом я передумал. Не то чтоб из жалости, а просто прикинул, что за живую дадут больше, чем за сушеную. Опять же, ежели ящерицу высушить, так, наверно, вся зелень сойдет — и какой дурень тогда ее купит?
Очень медленно я приподнялся, спрятал трубку в нагрудный ладан, заменявший мне карманы. Шажок, другой.
Ящерица чуть двинула головкой. Я понял, что ближе она меня не подпустит.
Несколько минут я не двигался. Она тоже.
Как дивно посверкивала на солнце переливчатая шкурка! Меньше чем за рубль не уступлю, думал я. А может, вовсе себе оставлю. Сколочу клеточку, насыплю желтого песочка или белой гальки, буду кормить изумрудную царевну мухами да любоваться.
Едва лишь ящерица, успокоившись на мой счет, отвернулась, как я кошкой, оттолкнувшись ногами, сиганул на валун, где сидела моя добыча.
Валун был плоский, плотно утопленный в землю, размером с большой барабан. Еще в полете я понял, что останусь с пустыми руками. В мгновение, будто спущенная с тетивы зеленая стрелка, ящерица сорвалась с места, и я упал на пустой, нагретый солнцем камень.
От азарта я совсем не думал о том, как приземлюсь. Ударился грудью и подбородком — больно, до звона в голове, соленого привкуса во рту и черноты в глазах.
Оглушенному, мне показалось, что от моего сокрушительного падения дрогнула и просела земля. Я хотел опереться о камень и приподняться, но у меня почему-то не получалось. Валун словно вминался в почву под моими руками. Что-то шуршало, скрипело, ёкало.
Уверенный, что еще не очухался от удара, не веря своим глазам, я увидел, что камень уходит куда-то вниз. Если б я не находился в таком остолбенении, то наверное ухватился бы за росший рядом сухой куст, но момент был упущен. Валун провалился сквозь землю, и я вместе с ним.
Падая головою в черную дыру (верней, не падая, а скользя, ибо движение было не отвесное сверху вниз, а немного наискось), я заорал во всё горло — и еще успел услышать чудовищно гулкое эхо собственного голоса, но в следующую секунду сорвался уже в полную пустоту и, верно, от ужаса лишился чувств, потому что удара о твердь не помню, а высота была приличная. Я после измерил: две с половиной сажени.
Скоро я очнулся, нет ли, не знаю. Только открыл глаза — и ничего кроме черноты не увидел. Потер веки, похлопал ресницами — опять ничего.
Что я живой, мне было ясно. Болело ушибленное плечо, а на зубах скрипела пыль. Но вообразилось, будто я ослеп, и я взвыл.
Вот гляжу я на себя тогдашнего и примечаю, как много я вопил, орал, плакал. Как часто я чего-то до жути боялся, коченел в ужасе, трясся от страха.
В моей жизни случались смелые поступки. Подчас я даже пользовался славой храбреца среди людей совсем не робкого десятка. Но сам-то про себя я знаю, что от природы слеплен не из геройского теста. Повидал я по-настоящему отважных людей, и немало. И скажу по опыту, что подлинный смельчак — тот, кто ведет себя с одинаковой доблестью как на людях, так и без свидетелей. Со мной, увы, не то. Я и на миру-то не всегда был орел, а уж когда я один и никто на меня не смотрит, я будто сжимаюсь, слабею, ибо не перед кем фанфарониться и держать форс.
Как же горестно и отчаянно я рыдал, сидя на ровной, твердой поверхности в кромешной тьме и не понимая, что за напасть на меня обрушилась!
Может, я принял за ящерицу колдунью, каких по окрестным горам осталось видимо-невидимо еще с басурманских, дорусских времен? Наши ребята говорили, что в глухих балках и каменных ущельях можно повстречать всякую татарскую нечисть. Против христианской души силы у той нежити нету, а всё ж лучше их не трогать.
Набросился я на изумрудную ящерицу, а она не простая, завороженная. Вот и наказала меня погребением заживо и слепотою.
От слез мои глаза прочистились или, может, пообвыклись с мраком, и увидел я, что тьма не вполне кромешная, льется откуда-то слабое сияние. Поднял голову — наверху светло-серая дыра, от нее тянется столб света, и в нем кружатся пылинки, еще не осевшие после моего паденья.
Я шевельнулся, стукнулся локтем о жесткое. Да это же валун, на котором сидела ящерка!
И встали у меня мозги на место. Дошло, что никто меня не заколдовывал, а просто провалился я вместе с камнем в подземную пещеру.
У нас в горах и холмах пещер много. Есть природные, а есть рукотворные, оставшиеся от древних каменоломен. У нас в слободе тоже такие имеются. Кто победнее, хату себе не ставит, а прямо в каменной норе обживается. Летом там прохладно, и зимой обогреть легче. Темно только и душно.
Страху во мне сразу стало меньше, но все-таки еще много осталось. А коли я отсюда не выберусь, подохну от голода и жажды? Ведь сколько ни ори, никто не услышит. На Лысую гору, даром что она от города близко, люди редко поднимаются. Потому что делать тут нечего. Ни тени, ни воды, и огород не разобьешь — слой почвы больно тощ.
Я пошарил по земле, которая показалась мне странно ровной и гладкой — словно пол. Вместе с валуном вниз свалилось несколько веток и целый ком земли с сухой травой.
Вынул я из ладана трут и огниво, сделал факел. Прежде всего влез на валун и поднял руку — понять, далеко ли до дыры. Оказалось, высоконько. Не достать.
Тогда решил осмотреться — нет ли еще камней, чтоб из них сложить кучу.
Вышло так, что сначала я несколько шагов пятился, задрав голову. Только потом обернулся и посветил перед собой.
Вот он, тот миг, когда я проснулся, мое истинное рождение на свет.
Я разинул рот, чтобы снова заорать, но не мог произнести ни звука. На меня в упор смотрела девушка. Ее глаза были как живые — живее, чем живые, а волосы переливались, будто освещенные ярким солнцем. Лишь спустя мгновение я понял, что это настенная картина. Что такое «мозаика», я не знал, и сначала мне показалось, будто прекрасный лик весь состоит из сияющих капель.
Потом я много раз, очень подолгу, вглядывался в это лицо. Локоны у девы были цвета тусклого золота, а очи черные-пречерные, с отблеском. Они всегда смотрели прямо на меня, неотрывно, будто испытывали, способен ли я разгадать сокровенную тайну, от которой зависит вся моя жизнь и, может быть, даже нечто большее. Но что за секрет таится во взоре пещерной жительницы, мне было невдомек. Я ведь тогда еще не ведал, что всякой разгадке свое время и дверь не откроется, пока не повернется ключ.
Перед изображением я простоял очень долго. Бережно потрогал холодные разноцветные чешуйки, из которых было сложено чудо.
Слева и справа от картины кособочились каменные оползни, и девушка выглядывала промеж них, будто из окна. Я расчистил стену с одной стороны. Там тоже что-то было изображено — показался край дома с колоннами, похожего на нашу Петропавловскую церковь, однако дальше было не продраться, камни и земля слежались чересчур плотно.
Тогда я наконец догадался обойти всю пещеру. Для этого пришлось соорудить новый факел, старый уже догорел.
Наверное, когда-то помещение было прямоугольным, а свод высоким. Но осыпи полностью завалили две торцевые стены и почти целиком одну из длинных — в единственном месте, которое осталось незакрытым, и был портрет златовласой и черноглазой красавицы. Я то и дело оглядывался, чувствуя на себе ее неотступный взор.
Зато противоположная стена сохранилась почти по всей своей длине. Она была сплошь покрыта многоцветной мозаикой. Впоследствии я обстоятельно рассмотрел каждую из диковинных сцен, там изображенных.
Кудрявый человек с телосложением циркового борца, обмотанный пятнистой шкурой, рвал пасть льву; рядом он же рубил длинным ножом змеиные головы; волок куда-то козу-золотые-рожки; грозил кулаком полуконю-полумужику; махал большой лопатой.
Там много чего было, на той стене. Кудрявых молодцев было двенадцать, один еще малец, другие постарше, имелись и зрелые мужи, но все похожи. Я пришел к заключению, что это, должно быть, двенадцать братьев. Одни воюют с чудищами, другие себе хозяйствуют. Разглядывать ихнюю жизнь было интересно.
Пол пещеры — там, где не был засыпан, — состоял из мраморных плит, выложенных в шахматном порядке. А еще я нашел в углу много расписных кувшинов с вытянутыми, как журавлиная шея, горлышками. Кувшины были запечатаны чем-то вроде воска. Я расковырял одну из пробок, понюхал. Пахло чем-то невероятно душистым, отчего сразу закружилась голова.
Бояться я давно уже перестал. Было ясно, что до дыры я доберусь без особенного труда, — довольно сложить горку из камней и щебня. Мне теперь, наоборот, стало страшно вылезать из волшебного места. Вдруг я никогда сюда больше не попаду? Вот вылезу, а изумрудная ящерица махнет хвостом, гора закроет от меня свое чрево, и я никогда не увижу черноглазой девушки, не разгадаю ее тайны.
Уже собрав в кучу камни и убедившись, что через земляной лаз смогу выползти наружу, я снова спустился и стоял перед Хранительницей Тайны, пока не сжег последнюю ветку.
Огонь съежился, несколько раз мигнул, погас.
Лицо, прекраснее которого не было и нет на земле, скрылось во мраке.
Приморский бульвар
Вот картинка вторая.
Я неспешно иду, нога за ногу, по Приморскому бульвару, грызу семечки, шелуху сплевываю в кулак. Сорить на бульваре запрещается, тут чистота, как на корабельной палубе, и публика гуляет только «чистая». Нижним чинам, бабам в платках, гулящим девкам ходу нет. Я в своей латаной блузе держусь поближе к ограде. Если заметит хожалый да погрозит кулаком — перепрыгну, только меня и видали.
Со дня, когда я ухнул под землю и открыл волшебную пещеру, миновало больше месяца. Удивительное это было время. Как при утреннем пробуждении, когда уже не спишь, а взгляд еще не прояснился. В голове бродит недосмотренный сон, но члены ожили, начинают шевелиться первые мысли. Вот-вот скинешь одеяло, потянешься, встанешь.
Каждый день поднимался я на Лысую гору и часами просиживал в своем заветном подземелье. Обустроил я его так хорошо, как только смог. Первым делом, конечно, замаскировал лаз. Не хватало еще, чтоб мою тайну по случайности обнаружил кто-то чужой!
Дыру я закрыл крепкой крышкой из дубовых досок. Поверху уложил дерн с травой. Теперь на этом месте можно было хоть вприсядку плясать — не провалишься. А открывался люк легко — взялся за корень, служивший ручкой, да откинул.
Наклонная нора, по которой я так шибко скатился вслед за валуном, была преимущественно земляная, и я сделал там ступеньки. Спускался следующим образом: как следует огляжусь, открою дверцу, сползу в проход, притворю крышку и только потом зажгу свет (у меня там на особой полочке имелась лампа, которую я спер из дому; был и запас свечей). Под дырой я соорудил деревянную лесенку с перекладинами. Камни, которыми был завален пол, перетащил или перекатил в один угол. Мраморный пол расчистил. В особом месте лежали факелы: сухие толстые палки, обмотанные промасленной ветошью. Бывало запалю по всем сторонам огонь и брожу вдоль дивных изображений. И наслаждаюсь, и нет никого больше на свете.
Приключения двенадцати кудрявых братьев-богатырей я изучил в доскональности: разобрал, кто из них старший, кто младший. Они, как я выяснил, располагались по старшинству: слева последыш, совсем кроха, потом юные, затем бородатые, а в правой стороне стены — дядьки в возрасте. Но видно, что одного семени — та же буйная курчавость, тот же по-бычьи крутой лоб.
Однако братья братьями, а все ж таки бльшую часть времени я торчал перед златовласой девой. Валун, вместе с которым я сверзся в недры, я перекатил к стене и превратил в табурет. Сяду на него и гляжу, гляжу на свою переливчатую молчальницу. А она на меня. И не надо мне больше ничего. Только когда живот от голода схватит и очнешься, что день прошел.
Хорошо, тетка Матрена на меня к тому времени уже рукой махнула и, где я шляюсь, не допытывалась. Сам себя кормлю — и ладно.
С утра-то я обычно на Рыбацкую пристань ходил, где всегда есть работа: улов разгрузить или арбузы из татарской мажары в шаланду перекидать (их от нас возили морем в Евпаторию и Ялту). Сам я, хоть неширок в кости, но жилист и проворен, а работал быстро — не терпелось поскорей попасть в мою пещеру. Заработаю пятак иль гривенный, больше мне и не надо. Брал на базаре хлеб с сушеной таранью, а яблоки и абрикосы у нас сами растут, рви где хочешь. Не позднее полудня я уже спускался в свое подземное царство.
Это был мой секрет, моя великая тайна, ведомая мне одному. Даже если б меня стали на огне жечь или клещами рвать, никому бы я ее не открыл, не выдал бы чужим своей черноглазой вопрошательницы. Будь я в ту пору поживей мыслями, наверно, заподозрил бы, не сдвинулся ли я рассудком, не стал ли жертвой болезненного наваждения, которое в науке именуется «галлюцинация». Но ни про какие галлюцинации я не слыхивал, глазам своим привык доверять, а что до мысленной живости, то благодаря чудесной пещере она понемножку начала во мне просыпаться.
Никогда прежде я столько не размышлял, не мечтал, не воображал себе всякие невозможности. Будто откроется мне откуда-нибудь тайное слово, с помощью которого я сумею мою деву расколдовать, и она сойдет ко мне со стены, и поблагодарит за избавленье, и станем мы с нею жить-поживать, будто царь с царицей, и никто нам будет не нужен. А если не сыщется заветное живое слово, чтоб вызволить мою ненаглядную из каменного заточения, то я б согласился и на слово мертвое, которое меня заколдовало бы и поместило к ней в стену. Пускай бы мы были вместе хоть там, на той стороне. Глядели б друг на дружку блестящими неподвижными глазами, держались бы за руки, и никто б никогда нас здесь не нашел.
От этих фантазий у меня в голове начинались взвихрения, и тогда я выбирался побродить по городу. Чувствовал: если вовсе от живых людей оторвусь, могу съехать с ума.
В прежние времена я часто шлялся по севастопольским улицам. Там было на что поглазеть. Вдоль парадной Екатерининской и близ Графской пристани, где по вечерам духовой оркестр, фланировали морские офицеры, провожая взглядом немногочисленных дам. Женщин нарядного сословия и приличного названия в нашем военном городе было так немного, что каждая почитала себя красавицей и получала тому подтверждение в виде лестного мужского внимания.
По набережной Артиллерийской бухты, взявшись за руки и горланя свои песни, разгуливали иностранные матросы в смешных шапках с пушистым шариком на макушке. Чужеземным кораблям заходить в черту города воспрещалось; иностранные купцы бросали якорь в Балаклаве или Камышевой, а в Севастополь добирались на линейках, где проезд стоил пятак с носу.
На Привозе близ стрелки было веселее всего. Через залив и с кораблей на берег сновали шлюпки, баркасы, гички и ялики. По набережной ходили гурьбой или по одиночке матросы, прицениваясь к сухопутным удовольствиям: сбитню, пиву, изюму да орехам — ну и, конечно, к женскому товару, который в нашем порту водился в изобилии. Девки в Севастополе были как на подбор: крепкие, щекстые, зычные. Они лихо ругались и заливисто хохотали, а еще про них шла слава, что пьяненьких матросиков они не обкрадывают — это у наших шалав почиталось стыдным. Купца какого или сухопутного — пожалуйста, не поймана — не воровка, а моряка не трожь, его копейка соленым потом и кровью добыта. Раньше, пока мне не встретилась та, рядом с которой все женщины навроде пыли, я любил посмотреть-послушать, как матросы с девками рядятся, сбивают цену. Но в новом своем зачарованном состоянии я обходил веселое место стороной — будто моя подземная зазноба могла откуда-то прознать, что я пялюсь на непотребных особ.
Теперь я, если уж гулял, выбирал улицы почище. Должно быть, потешно выглядел оборванец, поглядывающий на златоэполетных офицеров и важных господ с усмешечкой тайного превосходства, — но именно потому и расхаживал я по «чистым» кварталам, чтоб потешить свою гордость. Я был там самый бедный, самый ничтожный и убогий из всех. Но лишь на вид. На самом же деле я владел тайной, которая никому из этих бар и барышень даже не снилась; я обладал сокровищем, равного которому не существовало во всем свете, — моей Красавицей.
А еще мною всё время владело необъяснимое, но какое-то очень уверенное предчувствие, что чудеса в моей жизни только-только начались, и главные еще, быть может, впереди.
Мне еще предстояло очнуться по-настоящему. Но не постепенно, а враз — как если бы на меня, полусонного, кто-то вылил ведро ледяной воды или, наоборот, подпалил огнем мою постель.
Я поднимаюсь с Приморского на Екатерининскую, где самые дорогие кофейные заведения и самые лучшие лавки.
Вот сейчас это случится, сейчас!
И сброшу я остатки дремоты, и побегу, как ошпаренный, и больше уже никогда не остановлюсь…
Мое внимание привлек диковинный человек, разглядывавший витрину маленькой лавки. Раньше там находилась греческая бакалея, потом поменялся владелец и, когда я проходил здесь в последний раз, дней десять тому, стекла были завешаны тряпками. Теперь появилась новая вывеска, и в окне что-то было выставлено, но меня заинтересовала не лавка, а застывший перед нею зевака.
У нас в Севастополе можно было повстречать людей со всего света: и турок в фесках, и египтян в белых платках, и негритянцев, иногда даже желтолицых китайцев с девчачьими косами. Но этакого чудака я не видывал еще никогда.
Он был в рубахе навыпуск из перевернутой навыворот мягкой кожи, с разноцветным узором из мелких бусинок; портки были того же матерьяла, с бахромою по шву; обувь навроде кожаных постолов, в каких ходят болгары и румынцы, но тоже вся расшитая. Черные волосы свисали ниже плеч, поверху перетянуты алым жгутом, а с макушки торчало большое птичье перо.
Я подумал, что это ряженый цыган из балагана — в Херсонесе о ту пору как раз разбил шатры табор из Бессарабии. Слободские ребята рассказывали, что там много диковин: глотают огонь, кидают ножи, ходят по веревке и всякое разное. Я на представление не ходил, потому что ничего чудесней моего подземного чуда там все равно мне бы не показали. Однако что ж не поглазеть на диво, коли оно вот оно?
Я подошел сбоку, вознамерившись разглядеть странного человека вблизи. Был он носат, лицом темен и неподвижен, похож на птицу ворон — одним словом, страшен. Наискось через плечо у предположительного цыгана висела сумка, еще и закрепленная тесемкой в обхват пояса. В особенности же заинтересовал меня красивый топорик с резной ручкой, зачем-то висевший у носатого на боку. Осторожно, маленькими шажками, я подобрался еще ближе — теперь меня отделяло от ряженого не больше трех шагов.
Он не повернул головы и вообще не шевелился. Мне не доводилось видеть, чтобы кто-то живой и не спящий пребывал в такой неподвижности. Прямо как каменный.
Что это он так пристально рассматривает?
Я наконец поглядел на вывеску и на витрину.
Надпись была непонятная: «ЕВРОПЕЙСКАЯ НОВИНКА. ДАГЕРРОТИПИЧЕСКIЯ ПОРТРЕТЫ». За стеклом вывешены десятка два малюсеньких картинок, каждая с гусиное яйцо. Я знал, что они называются «миниатюры»: у директора школы для матросских детей, где я отучился два неполных года, на столе было два таких портретца — царь и царица. Но эти миниатюры выглядели иначе. Во-первых, они были не цветные, а тускло-серые, как рисунки в учебнике. Во-вторых — и это мне понравилось — лица на картинках были совсем как настоящие. Смотрят, будто сейчас оживут. Каждый портретик овальный, забран под толстое стекло.
Зрение у меня от роду превосходное, и, хоть изображения были крошечные, я мог легко рассмотреть их во всех подробностях. Узнал супругу коменданта севастопольского порта Станюковича, она по вечерам любила кататься в коляске вдоль набережной — ох, важная барыня, истинная адмиральша. Еще мне был известен шкипер Костораки, знаменитый на весь город замечательно длинными усами.
Однако длинноволосый глядел не на адмиральшу и не на приметного шкипера, а на какой-то медальон в дальней от меня стороне. Ничего особенного — просто две женские головы. В витрине двойных портретов было штук шесть, а в одну картинку втиснулось даже целое семейство: папаша, мамаша и двое ребятишек.
Я снова стал глазеть на топорик. Очень уж затейный на нем был узор: будто змея оплелась вокруг рукоятки.
Цыган вдруг шевельнулся, наклонившись ближе к заинтересовавшей его миниатюре, да шмякнулся носом о стекло. Сердито фыркнул. Качнул патлатой башкой, покосился на меня жутким, мороз по коже, взглядом. Потом толкнул дверь и вошел. Двигался он в своих кожаных лаптях не по-людски, а словно по-звериному — совсем бесшумно.
Сделалось мне любопытно: что это понадобилось дикому человеку в лавке и как он будет объясняться — по-нашему или по-чужеземному?
Я пристроился сбоку от витрины, чтоб меня изнутри не было видно, и стал подглядывать. Дверь закрылась неплотно, я мог слышать разговор.
Говорил, правда, только хозяин, низенький толстяк в больших очках, а цыган (или кто он там) по-русски, кажется, не знал или, может, был немой. Он не произнес ни звука, а лишь показывал руками.
Потыкал в витрину — в то место, у которого давеча долго торчал.
Хозяин спросил громко, как обычно объясняются с чужеземцами и с глухими:
— Что вам угодно? Объясните толком! Вы желаете сделать портрет? Нет? А, вы хотите посмотреть вон тот медальон?
Бессловесный посетитель покачал головой и сделал какой-то жест, которого я не разглядел.
— Вы хотите его купить? Что вы, как можно! Это заказ, за ним придут! …Нельзя, говорю. Понимаешь ты по-нашему или нет?
Немой достал из своей сумки мешочек, высыпал оттуда что-то на ладонь и сунул под нос очкастому. Тот похлопал глазами, взял с прилавка круглое стеклышко на длинной ручке, нагнулся.
— Какой большой самородок! Позвольте-ка… Я только проверю…
Осторожно, двумя пальцами он взял с ладони какой-то камешек, блеснувший неяркими искорками. Положил на тарелочку. Вынул откуда-то чудную треугольную склянку с прозрачной жидкостью. Уронил одну капельку на камешек.
— В самом деле! Господи-Боже-мой… — Хозяин засопел. Положил на стойку большой медальон в желтой рамке. — Возьмите лучше вот этот дагерротип. Отличная работа. Максимально возможный размер, четыре дюйма. Превосходная вакуумная изоляция, идеально защищает от оксидации воздухом — этот снимок никогда не почернеет. Обратите внимание на позолоченную гарнитуру! А смотрите, какая очаровательная головка! Это содержанка поставщика Наврозова. Каждый локон на куафюре виден! Уж не знаю, что даме в портрете не понравилось. Право, это лучшая из моих раб…
Неожиданную штуку учудил вдруг патлатый. Выбросил вперед руку и зажал болтуну рот — толстяк только забулькал. Я хихикнул.
Второй рукой чернявый человек снова показал на витрину.
— Ладно, что с вами сделаешь… — Хозяин платком вытер губы. — Возьму грех на душу… Скажу заказчице, что экспозиция подвела, сниму еще раз… Простите, что?
Это посетитель снова показывал что-то руками.
— А, вы желаете знать, кто изображен на дагерротипе? Минуточку, у меня тут записаны имя и адрес…
Вытащив большую тетрадь, очкастый перевернул несколько страниц.
— Вот он, заказ. Э-э. Госпожа Ипси…
Но грубиян развернул тетрадь к себе, выдрал из нее желтоватый линейчатый листок и ловко сложил его квадратиком.
Только теперь мне пришло в голову поинтересоваться, за какой это портрет дикий человек готов заплатить настоящим золотом.
Найти медальон было нетрудно — на стекле, в которое чернявый ткнулся носом, остался круглый след.
Я подошел ближе — и обомлел.
Две барышни смотрели на меня из овальной рамки. Первая, постарше, была с черными волосами — ее я толком и не рассмотрел, впившись глазами во вторую, светловолосую, совсем юную.
Меня заколотило.
Это была она, она! Моя дева из подземной пещеры! В скромном темном платье, с уложенной венцом косой — но эти черные, безмолвно вопрошающие глаза я сразу узнал. И рисунок бровей, и резной обвод скул, и чуть заостренный подбородок.
Так вот какое чудо предчувствовал я замирающим сердцем! Мир оказался еще чудесней, чем мне воображалось!
Я не заключил, что схожу с ума. Не попытался объяснить необъяснимое. Просто с благодарностью принял новое чародейство, ниспосланное мне провидением.
И проснулся, теперь уже совсем проснулся.
Действительность словно раскрылась передо мною во всей своей головокружительной удивительности.
Нечего напрягать свой слабый рассудок, тщась уяснить причудливые узоры судьбы. Нужно держать глаза раскрытыми, не хлопать ушами — и нестись на всех парусах по океану жизни навстречу дымчатому горизонту!
Это я сейчас думаю о провидении, узорах судьбы и прочих красивостях. А тогда, у витрины дагерротипной мастерской, я не умничал. Без колебаний и размышлений я подобрал с тротуара камень, шмякнул им в витрину и, не обращая внимания на разлетающиеся осколки стекла, схватил с полки нагретый солнцем медальон. Ни за что на свете я не расстался бы с этой волшебной нитью, которая — я знал, знал! — однажды приведет меня к моей Деве.
Она живая, она существует на самом деле! И ждет меня.
Вот единственное, что я уяснил, а о прочем пока что не задумывался.
Да и некогда было.
— Караул! — завопили из лавки. — Обокрали! Держи вора!
Я припустил вниз по улице. Вором я себя не чувствовал. Я взял то, что предназначалось только мне и никому другому принадлежать не могло.
Божий мир обрушился на меня, пробудившегося, всей своею мощью. Я улепетывал вдоль по Екатерининской и будто впервые ощущал с полной остротой звуки, цвета, запахи. Булыжная мостовая словно бы прогибалась под моими ногами, подбрасывая меня вверх. Я был легок, всемогущ и бесстрашен.
Но оглянулся — и бесстрашие испарилось. Пузатый хозяин лавки давно отстал, но черный молчальник гнался за мной неотступно. Он несся, хищно пригнувшись, расставив локти. Длинные космы развевались по ветру, ноги касались земли невесомо и бесшумно. Безобразное, всё из острых углов лицо было оскалено. Я завопил от ужаса, потому что никогда не видывал такой свирепой рожи.
Я ускорил бег. Медальон спрятал в ладан, прижал к груди. Никакая сила не отобрала бы у меня мое сокровище.
Бежал я к набережной, где можно затеряться в толпе. Слава богу, мой преследователь гнался за мной молча и «Держи вора!» не кричал. Иначе меня вмиг схватили бы за шиворот. Я мчал через людскую гущу, проскальзывая меж моряков, разносчиков, посыльных. Сзади залилась пронзительная трель. Севастопольские полицейские (их называли «хожалыми») были оснащены дудками на манер боцманских, но со звуком писклявым и противным. Это, верно, хозяин призвал на помощь стража порядка. Теперь, если б я попался, то затрещинами не отделался. За воровство в городе карали строго, по-военному: драли как сидорову козу и отправляли в арестантские роты. Ведь матросские сироты вроде меня считались состоящими по военно-морскому ведомству, и для малолетних преступников при гарнизоне имелась штрафная команда. Попасть в нее считалось страшней, чем угодить в кантонисты.
Но без добытого в лавке портрета мне все равно жизнь была бы не в жизнь. А кроме того я уж знал, где спрячусь.
Вдоль всего Адмиралтейского причала были пришвартованы лодки с военных кораблей. Кто-то приплыл в город по делу, кто-то — погулять. Об это время дня их тут стояло до полусотни, и почти все без присмотра, потому что кому ж в Севастополе придет в голову упереть казенную лодку?
Я сиганул прямо с пристани в первый же пустой ялик и скрючился на дне, спрятавшись под скамейкой. Сердце мое стучало, грудь лопалась от нехватки воздуха.
Поверху протопали сапожищи, требовательно и грозно засвиристела дудка — это пробежал полицейский.
Я осторожно высунулся — и увидел, что мой маневр не остался незамеченным. Бок о бок с яликом стояла шлюпка, свежевыкрашенная в черное и белое, с флажком на корме и надписью по борту «Беллона». Оттуда на меня с интересом глядели гребцы, четверо бравых матросов, у руля восседал седоусый боцман с дымящейся трубкой в зубах. Лодка то ли готовилась к отплытию, то ли, наоборот, только что пришвартовалась.
На всякий случай я изобразил невинную улыбку: может, это мой ялик, почем им знать?
Но ближайший ко мне матрос, с рыжими конопухами по всей физиономии и серьгою в ухе сказал:
— Спёр чего? Не люблю ворья. Кыш отседова, салака сопливая!
Я был не против. Поднялся, чтоб вылезти обратно на причал — и снова сжался. Трель зазвучала ближе. Хожалый возвращался.
— Как есть спёр! — недобро оскалился рыжий. — Ну-ка, Степаныч, ожги его линьком!
Боцман смотрел на меня, двигая косматыми бровями, и что-то соображал.
— Погодь, Соловейко. Не тарахти. Эй, пацанок, ты чей?
— Сам по себе, — ответил я, прислушиваясь к приближающимся свисткам. Думал: в воду что ли нырнуть? Так у них в шлюпке багор — зацепят, достанут.
— В полицию хошь? — спросил боцман и подмигнул.
Не выдадут, понял я и немного успокоился. Помотал головой.
— Тады лезь сюда.
Седоусый приподнял край брезентового кожуха, каким закрывают корму во время сильного дождя или высокой волны.
Уговаривать не понадобилось — я лихо перепрыгнул в шлюпку. Меня подхватили, легонько стукнули по загривку, и я оказался под кормовой банкой, меж ног у рулевого.
— На кой он нам, Степаныч? — спросил рыжий, что предлагал ожечь меня линьком.
— Молчи, дура. Вчерась юнга сбёг. Дракин ругается, грозит лычку с меня снять. А я ему нового доставлю — то-то и важно будет.
— Башковитый был парнишка, потому и сбёг, — ответил Соловейко.
— Ну это ты, Соловейко, не бреши. — Степаныч — я подглядел — показал конопатому кулак. — Наша «Беллона» — всем фрегатам фрегат. — И посмотрел на меня сверху вниз. — Хочешь, парень, на «Беллоне» юнгой служить? Форменку получишь, довольствие.
— Где служить?
Я высунулся: что там хожалый?
— На «Беллоне». Лучший на всем Черноморском флоте корабль. А Беллона — это, брат, богиня войны.
— Баба — и войны? — удивился я.
— Смерть — она тоже не мужик, — сказал рыжий и подмигнул. — Вся погибель от баб.
Боцман показал на черно-желтую ленту, которой у него был обвязан околыш бескозырки.
— Видал? Из всей эскадры только на «Беллоне» такие. Егорьевские. Дадены за Наваринскую сражению. Станешь настоящий моряк — и тебе повяжут.
— Куды ему, сопливому, ленту? — Соловейко сплюнул. — Скажешь! Еще юнгам егорьевский знак давать!
Ни с лентой, ни без ленты поступать в корабельные юнги я не собирался. Еще не хватало! У меня подземное царство. У меня тайна, которую надо разгадывать — как раз и ниточка протянулась. Чёрта ль мне «Беллона»?
Но перечить не стал. Как раз над кромкой причала мелькнул линялый голубой мундир полицейского. Я спрятался под кормовую банку.
— Решай, паря, — тихо молвил Степаныч. — Или с нами, или туда.
Тут с пристани спросили:
— Эй, служивые! Шкет тощий, белобрысый, в матросской рубахе с заплатами на локтях тут не шастал?
— Вали, селедка, — с угрозой отвечал боцман.
У матросов с хожалыми была давняя вражда.
Ничего полицейский не ответил, поостерегся. Сапоги ускрипели прочь.
Вот теперь можно было сматывать.
Я вылез из-под брезента, прикидывая, как буду действовать дальше. Перво-наперво — скакнуть обратно в ялик, потом ухватиться за канат — и на пристань. Ну а там поминайте как звали. Плавайте по морям-океанам на своей богине без Герасима Илюхина.
— Индей! Явился наконец, — сказал один из гребцов.
Я повернулся — обмер. На причале, оглядываясь куда-то назад, стоял мой страшный преследователь.
— Тссс, молчок! — шепнул матросам Степаныч, а меня взял за шиворот и пихнул обратно под брезент.
Я затаился там, в сырой темноте, трясясь от страха и ничегошеньки не понимая.
Шлюпка качнулась — кто-то мягко в нее спрыгнул.
— Где тебя леший носил? — проворчал Степаныч. — Заждалися!
— Ишь, глазищами сверкает, кривоносый. — Это сказал Соловейко. — Зубами порвать хочешь? Кровушки хрестьянской попить?
Ответа не было. Да его, кажется, и не ждали.
— Табань помалу! — гаркнул боцман.