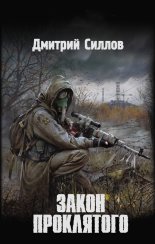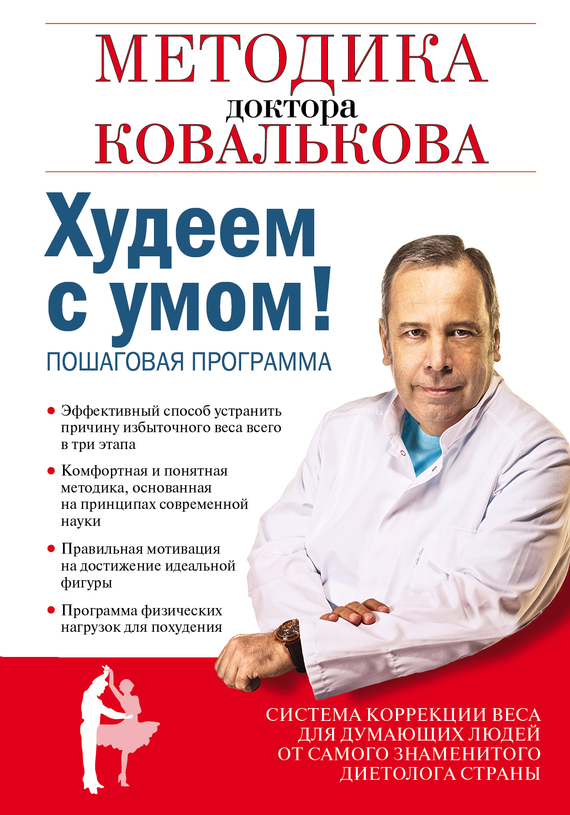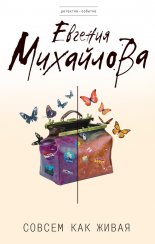Освобождение шпиона Корецкий Данил
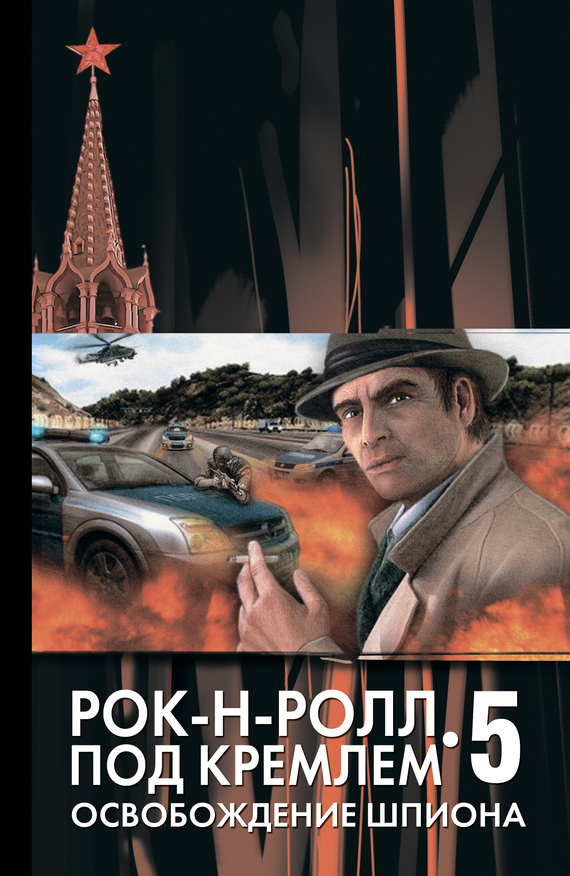
Воронов с невозмутимой привычностью записывал что-то в протокол. Он левша, кисть будто тянется за ручкой, как привязанная.
— И все-таки — что произошло между вами? Говорите по сути дела. Обстоятельства мы выясним потом.
— Хорошо, — сказал Мигунов. — В три часа тридцать минут я проснулся от того, что почувствовал чьи-то пальцы на своей шее. Это был Блинов. Он душил меня. Я оттолкнул его. Некоторое время мы боролись, потом он оказался на своей кровати. Он сказал, что все равно убьет меня. Говорил всякие гадости про меня и про моих родственников. Сказал, что, когда выйдет на волю, первым делом убьет мою жену и моего сына. Тогда я схватил подушку и накрыл его лицо, чтобы не слышать этого. Ну, и, наверное, задушил его в этот момент… Не имея, конечно, умысла на убийство…
— Какой подушкой вы его накрыли? — спросил следователь. — Чья была подушка?
— Моя.
— Где она лежала?
— На кровати, наверное.
— И вы смогли дотянуться до нее, продолжая удерживать Блинова на его кровати?
Мигунов подумал. В самом деле…
— Я плохо помню. Возможно, подушка упала во время нашей борьбы и я подобрал ее с пола.
— Поднимите подбородок. Повыше.
Изучает следы на шее. Кажется, Блинов в какой-то момент ухватил его за горло, когда сопротивлялся. Мигунов надеялся, там что-то осталось. Ну, а даже если не осталось… Плевать.
Он случайно встретился взглядом с Савичевым. Глаза начальника были темны, он с нетерпением ждал окончания допроса, когда они смогут остаться наедине. Черт, надо было, видно, все-таки подождать до Заозерска со всякими громкими заявлениями.
— Я требую медицинского освидетельствования на предмет нанесения побоев, — проговорил Мигунов, сам удивляясь своему нахальству. — Меня избили во время задержания. Хотя я не оказывал сопротивления.
— Вас освидетельствует врач в СИЗО, — сказал следователь, не отрываясь от бумаг.
— Тогда занесите мое требование в протокол.
Воронов поднял глаза.
— Зачем? Это обязательная процедура при поступлении в изолятор.
— Я думаю, меня могут избить и даже покалечить еще до поступления…
— Никто вас калечить не собирается, Мигунов. Успокойтесь.
Следователь многозначительно взглянул на Савичева. Тот, красный как рак, кивнул:
— Что за глупости? Кто тебя будет калечить?
— Держат же меня сутки в наручниках! — пошел ва-банк заключенный. Хуже все равно не будет…
— Как сутки?! — возмутился Воронов. — Это уже пытки! Немедленно снимите!
Потом Мигунова отвели в медсанчасть, фельдшер Ивашкин в присутствии Воронова осмотрел его, заполнил акт освидетельствования, куда занес все синяки, ссадины, царапины и шрамы. Ближе к вечеру в ворота колонии въехал автозак с пятью дюжими охранниками. Мигунова погрузили в стылое железное нутро, там снова заковали в наручники. Эти были полегче, да и заковали теперь руки не за спиной, а впереди — тоже облегчение… Во время процедуры он, вытянув шею и изогнувшись, все смотрел сквозь открытую дверь назад. Сбывался давний сон: он покидал ненавистное место. Вот только не было полета, не было бескрайней шири вокруг, даже неба не увидеть. Стена общего барака с окном, край крыши. Всё. Там, в бараке, за перечеркнутым решеткой окном — чье-то лицо, смутное, неразличимое. Может, Дули, может другого «петуха», а может, и правильного арестанта. Минуту, наверное, Мигунов смотрел на это лицо, упивался им. Так чудом выживший смотрит на покойника.
— Не вертись, каин! — рыкнул старший конвоя, запихивая его в крохотный «карман» и со скрежетом запирая замок. — Может, тебе башку тоже в наручники забить?
Автозак тронулся с места и после ряда формальностей и задержек выехал за периметр особорежимной зоны и запрыгал по кочкам лесной просеки. Но Мигунов был рад. Это вертолет из его снов вез пожизненно осужденного навстречу свободе.
Заозерск. Следственный изолятор
Заозерский СИЗО, как и все пенитенциарные заведения России, страдал хроническим перенаселением. Но для «пожизненника» Мигунова, агента ЦРУ и шпиона, полностью освободили «двойку», в которой до этого обитали пятеро арестантов. Наверное, чтобы государственный преступник не испортил какого-нибудь разбойника, бандита или убийцу. Мигунов был только «за».
В камере было тепло, в его распоряжении имелись две настоящие «шконки» — не деревянные лежанки или нары, а именно кровати, с полосатыми толстыми, по меркам ИК-13, матрацами. Еда, кстати, тоже была получше: гороховый суп и вермишель по-флотски казались шедеврами кулинарного искусства по сравнению с какой-нибудь белесой бурдой из картофельной шелухи, в которой плавали черные тараканы. На третий день плутоватого вида вертухай просунул Мигунову в «кормушку» еще горячего цыпленка-гриль. С перцем и чесноком, с румяной корочкой. При цыпленке записка: «Якутские „Неспящие“ с тобой! Держись, Мигунов! Мы тоже не спим!» Так вкусно он никогда не ел! А если и ел, то уже успел это начисто забыть. А потом заснул: без сновидений и тревог, как младенец, как убитый! Он уже успел забыть про такой сон!
А потом посыпались передачи — от «Международной амнистии», «Линии Защиты», от якутского отделения «Архипелага», от Комитета против пыток, от каких-то совершенно незнакомых Мигунову людей… Теплая одежда, белье, футболки с призывами «Не спи, Россия!» (подумать только!), сало, чай, кофе, шоколад, сгущенное молоко, сухая колбаса! Однажды передали даже красную икру в аккуратной баночке! Хотя он точно знал, что и шоколад, и кофе, и икра к передаче запрещены.
Он запоем читал газеты, журналы и книги: в СИЗО имелась библиотека на тысячу томов, с подшивками центральных и местных газет. Ходил он теперь прямо — «лягушачья поза» осталась в прошлом, наручники не надевали, по два часа проводил на прогулке, почти каждый день приходили адвокат или следователь, или оба.
После 8 лет на Огненном острове жизнь стала комфортной, полной и насыщенной. Он чувствовал себя, как Робинзон, который с необитаемого острова перенесся в шумный красивый город, где каждый день ходит в рестораны, театры и кино. Или как заключенный, переведенный из тюрьмы в хороший ведомственный санаторий. Во всяком случае, он стал чувствовать себя гораздо лучше и даже заметно прибавил в весе.
Следствие его не очень волновало: при пожизненном сроке новое расследование было обычной формальностью и не могло ухудшить его положения. На допросах он продолжал отрицать свою вину, развивал линию «политического заказа» по первому делу и самообороны — по второму.
Оплаченный правозащитниками адвокат из местной Коллегии относился к бывшему полковнику с симпатией и приходил не только по необходимости, что добавляло еще одну приятную нотку в общий праздничный фон. Оказалось, что этот сорокапятилетний мужик с вислым красноватым носом тоже фанатеет от Элвиса, Джонни Кэша и Мерла Тревиса. Уже на вторую встречу адвокат, по просьбе Мигунова, приволок плеер с записью концертов Элвиса в Гонолулу и Лас-Вегасе, а также парочку ранних синглов. И последующие два часа они мирно беседовали о всякой всячине под «Шестнадцать тонн» и другие рок-мелодии.
Охранник стоял за звуконепроницаемой дверью со стеклянным окошком, он мог их только видеть, но ни черта не слышал и не знал, что вместо скучного обсуждения линии защиты там гремит настоящий пир духа, что подозреваемый Мигунов, озабоченно склонившийся над бумагами за обшарпанным столом, — это только видимость, голограмма. На самом деле он за тысячи километров и сорок лет отсюда: теплым августовским вечером 1969-го, одетый в белый костюм из фланели и шляпу «стетсон» с золотой пряжкой, он отжигает за столиком в самой роскошной гостинице Лас-Вегаса «Интернейшнл», где в воздухе висит золотая пыль, виски и красное калифорнийское льются рекой, визжат умопомрачительные красотки, а на сцене вихляет бедрами кумир его молодости…
— На вашей шее отсутствуют следы удушения, то бишь синяки и царапины. Не говоря о более серьезных повреждениях…
Воронов, нахмурившись, перебирал бумаги с актами медицинского освидетельствования. На Мигунова он не смотрел.
— Если следовать здравому смыслу, то и подушку вы вряд ли смогли бы поднять с пола, если бы боролись с Блиновым. Я правильно говорю?
Он торопливо потянул носом, словно собираясь чихнуть. Не чихнул, только покрутил головой.
— Ну, а как, по-вашему, я мог задушить его без борьбы? — возразил Мигунов.
— Без борьбы не смогли бы, — согласился Воронов. — Вы могли приготовить подушку заранее. То есть планировали убийство. А не защищались, как вы утверждаете.
— Нет, это не так. Я именно защищался. А что синяков нет, так это тоже объяснимо… Наверное, я вовремя среагировал и реакция у меня лучше…
— Что ж, так и запишем, — безэмоционально пробубнил следователь.
Мигунов прижал руку к сердцу.
— Товарищ… То есть, гражданин следователь, я полковник ракетных войск, замнач Управления правительственной связи… Я жертва политической конъюнктуры. А Блинов — животное, садист, за его спиной 12 доказанных убийств, а он хвастал, что их значительно больше! Кто из нас мог планировать убийство? Ну, посудите сами!
— В общем-то логично, — кивнул Воронов, достал носовой платок, деликатно приложил к носу.
Вот уже добрых сорок минут Мигунов наблюдал, как он мужественно борется с насморком и чихом. Нос покраснел, глаза тоже, на белые поросячьи ресницы иногда набегает предательская слеза. Но Воронов так ни разу и не чихнул. Браво. Кстати, платок-то не первой свежести, это скорее даже не платок, а тряпочка для утирки носа — чистый функционал. Неудивительно, что Воронов так стыдливо деликатничает… Мигунов подумал, что Светка ни за что в жизни не отпустила бы его из дому с такой вот тряпочкой в кармане…
— Извините, гражданин следователь, вы кто по званию?
— Подполковник юстиции, — с сильным прононсом ответил тот.
— Значит, вы лучше других понимаете, как трудно дослужиться до полковника! Мы с вами почти коллеги. Я тоже выполнял важную и чрезвычайно ответственную работу! И когда оказалось, что тридцать лет назад на полигоне был шпион, то потребовался козел отпущения, и я оказался самым подходящим. Вы ведь знаете, как сложно собирать доказательства по старым делам, а не найти шпиона нельзя… Вот так я и оказался на Огненном острове с маньяком Блиновым в одной камере! Зачем вообще мне было его убивать?
Поросячьи глазки стрельнули в него сочувственным взглядом. Это была пусть маленькая, но победа.
— Подпишите.
Воронов подвинул ему протокол допроса, Мигунов подписал. Следователь нажал кнопку. Дверь открылась, вошел охранник.
— Можете идти.
Когда заключенного увели, Воронов собрал бумаги в свой синий планшет, уложил его в потрепанную дорожную сумку — портфелей, саквояжей и прочих «дипломатов» он не признавал. И только после этого с наслаждением высморкался. Простыл он, видимо, по дороге в колонию — в машине продуло. Больше негде. А чего, спрашивается, было туда ехать? Убийство! Убийство!! Ну, убийство. Только надо оценивать все обстоятельства, в совокупности. Таких дурацких дел ему еще расследовать не приходилось. Дадут этому Мигунову десять лет — и что? Добавят их к «пожизненке»? Тем более что, скорей всего, здесь действительно самооборона. Все-таки полковник ракетных войск и маньяк-убийца… Ясно, кто первый начал! Хотя…
Сам Мигунов, виновник этой бессмысленной суеты, чувствует себя прекрасно и, похоже, вполне доволен жизнью. У него сейчас отпуск, каникулы, настоящие Карибы. Убил маньяка и нежится в свое удовольствие в обычных условиях содержания… Это тебе не особый режим!
Может, для этого и убил?!
Да нет, вряд ли… Неподготовленный человек не способен совершить убийство, чтобы улучшить условия содержания на пару месяцев…
Воронов надел старую, выношенную куртку, замотал горло шарфом.
Хотя, может, все не так просто. Эмоции — плохой подсказчик, даже в таких делах, где все, казалось бы, яснее ясного. Это Воронов знал хорошо. Он, с его веснушчатым добродушным лицом, тихий, немного неуклюжий — был одним из опытнейших следователей. Под редеющей рыжей шевелюрой прятался цепкий и ясный ум. Слишком ясный… как бы даже прямолинейный. Так считали некоторые его коллеги. Да, Воронов не брал взяток, не взирал на лица и в работе руководствовался принципом dura lex, sed lex: закон суров, но это — закон. Он умел быть жестким — когда надо. Нередко шел против течения — когда считал это нужным.
Все это как-то не вязалось с его внешностью тюфяка и порой вызывало у окружающих чувство удивления. А также подозрения в двойственности его натуры, в какой-то вопиющей неискренности. Что, как ни парадоксально, имело под собой основания: Воронов и был тюфяком… но только за пределами круга своих профессиональных обязанностей.
Впрочем, он тоже ошибался, сомневался и переживал. И в последнее время все чаще и чаще. Недавно ему исполнилось тридцать четыре. Вместе с женой они снимали полдома в частном секторе на окраине — ни газа, ни водопровода, туалет на улице. Хотя большинство его коллег давно обзавелись собственным жильем в центре Заозерска, в благоустроенных многоэтажках, а некоторые даже отстроили себе многоуровневые коттеджи. Его дочь ходила в школу и из школы пешком через пустырь, а сам он ездил на работу в переполненном автобусе — в то время как коллеги разъезжали на новеньких «японках», а их дети смотрели мультики на установленных в салоне DVD-плеерах, чтобы скрасить скучную дорогу.
Воронов приходил к мысли, что, пожалуй, стоит на каком-то важном жизненном распутье. Всю жизнь он шел по «главной» дороге, соблюдал сигналы светофора, не спрямлял и не подрезал. Но попал куда-то не туда. Возможно, он просто немного не доехал до нужной точки, где его ожидает заслуженная награда и решение всех жизненных проблем. Возможно и другое: до точки он все-таки доехал (или дошел). Только это совсем не та точка.
…На выходе из СИЗО, как обычно, дежурила стайка активистов «Неспящих». Две девчонки и парень с дурацким плакатиком, где был изображен будильник и надпись — «Не спи, Россия!».
Увидев Воронова, молодые люди повернулись к нему, парень помахал плакатиком, одна из девчонок как-то неуверенно крикнула:
— Свободу Мигунову!
После чего все трое рассмеялись. Смеялись искренне, от души, потому что — смешно, в самом деле. И глупо. Для них это была игра, а Мигунов — разменная фишка в этой игре. Вполне могла быть другая — им, в принципе, все равно.
Воронов прошел мимо, направляясь к остановке. Он не понимал, кому нужны эти пикеты, акции, весь этот психологический прессинг. Это, конечно, воздействует на руководство СИЗО, они закрывают глаза и на пикеты, и на передачи, лишь бы не обострять ситуацию и не попадать в центр скандала.
А его, Воронова, подобная возня только раздражает. Заставляет думать о Мигунове не как о человеке случайно попавшем в жернова судейской машины, а как о действительно опасном преступнике, за спиной которого стоит мощная и наглая сила. Но что это за сила?
Мигунов явно не был неискоренимым преступником, Воронов это ясно видел. Ему приходилось общаться со многими убийцами и насильниками, людьми психически здоровыми, но абсолютно как бы… тупыми душевно. Страшными людьми. Опустить топор на чью-то голову — не вопрос, единственным препятствием для них здесь служит не закон, не угроза наказания, а одна лишь природная лень. Мигунов, несмотря на свой пожизненный срок, был совсем другим. Вполне возможно, он и в самом деле только защищался…
— Простите, Виталий Дмитриевич.
Он поднял голову. Рядом с ним, шаг в шаг, шла стильно одетая длинноногая девушка из той породы стильных и длинноногих, которых в Заозерске можно увидеть разве что в рекламе по телевизору. То есть, явно столичная штучка.
— Не успела вас застать в изоляторе, Виталий Дмитриевич! — объявила она с радостной улыбкой, словно ей за это полагался, как минимум, орден. — Простите. Я — Женя Курляндская, журналист из «Свободной Европы». Я звонила вам сегодня утром, помните?
— Курляндская, — проговорил Воронов, хмурясь и замедляя шаг. — Да, помню. Насчет Мигунова. Но ведь я вам сказал тогда…
— А я подумала — вдруг вы передумаете! — воскликнула она, и воздух буквально задрожал от исходящего от нее позитива.
— Я не даю никаких комментариев по делу. Всего доброго, — сухо сказал Воронов и пошел дальше.
Женя Курляндская нисколько не смутилась повторным отказом.
— Хорошо. Ладно. Не по делу. Пусть будет не по делу, Виталий Дмитриевич. Отлично! Давайте поговорим о вас!
Она забежала чуть вперед, повернулась к нему, обдав шлейфом каких-то умопомрачительных духов. Судя по виду, ей чуть больше двадцати пяти, у нее неприлично огромный рот и такие же огромные (и неприличные) глаза. При всем при этом она, пожалуй, даже красива. Как ведьма в Вальпургиеву ночь.
— Вы теперь медийная личность, Виталий Дмитриевич! Вы сами этого еще не понимаете, но это так! И уже не отвертитесь! Вы веете дело Мигунова, за которым следит весь мир, и… Да к черту Мигунова! — засмеялась она, как-то ухитряясь идти спиной вперед на высоких каблуках и при этом ни разу не запнуться. — Вы сами теперь лакомый кусочек! Пятнадцать минут хотя бы, Виталий Дмитриевич! Ну, решайтесь! Детство, школа, университет, работа — ни слова, ни полслова про Мигунова!
— У вас за спиной урна. Сейчас наткнетесь и упадете, — предупредил Воронов.
— Вот и отлично! И наткнусь — если вы не согласитесь! — Женя Курляндская ускорила шаг и даже зачем-то раскинула в стороны руки, продолжая улыбаться во весь рот и испускать волны позитива. — Упаду, сломаю что-нибудь! Ногу! Ребро! Или позвоночник! Будет вам стыдно, Виталий Дмитриевич!
Он ничего не сказал, даже не улыбнулся в ответ. Он знал, что прожженный журналист Женя Курляндская никуда не упадет и даже не испачкает свои стильные узкие штанишки. Впрочем… Нет. Она благополучно разминулась с урной, зато задела рукой проходящего мимо пожилого человека с продуктовыми пакетами, с улыбкой выслушала его краткую нецензурную отповедь и восторженно сообщила Воронову:
— Вот! Теперь я смогу написать о том, как меня обматерили на одной из центральных улиц Заозерска в вашем присутствии! А вы, старший следователь Следственного Комитета, даже пальцем не пошевелили!.. Хотя лучше не так…
Она задумалась, картинно приставила палец ко лбу.
— Погодите… Вот! Точно! Меня дискриминировали по половому признаку — раз! Назвали женщиной легкого поведения — два! Принуждали к сексу в извращенной форме — три! И все это на глазах у старшего следователя Воронова! Наши слушатели в Европе просто в осадок выпадут!
— Пока что у меня на глазах вы пристаете к прохожим и настойчиво принуждаете меня к нарушению служебной тайны, — заметил Воронов.
— Тогда арестуйте меня, Виталий Дмитриевич! — обрадовалась Курляндская. — Посадите меня в ваше замечательное СИЗО! Я такой очерк оттуда накатаю!
Он остановился, достал платок. Глаза слезились, а собственный нос ему казался похожим на гнилую грушу, которая вот-вот отвалится и упадет под ноги. Хоть бы убралась куда-нибудь эта… со своим интервью, вот честное слово…
— Я пошутила, Виталий Дмитриевич.
Убираться она никуда не собиралась, но хотя бы погасила улыбку и отключила свой позитивный реактор — и на том спасибо.
— Извините, я просто… — она беспомощно развела руками. — Пятнадцать минут, Виталий Дмитриевич. Ни слова о тайнах следствия. Ни слова о Мигунове. Обещаю. За интервью заплатят хорошие деньги. Половина — ваша… Я видела здесь кафе неподалеку — то ли «Адам», то ли «Эдем». Сядем, поговорим… Пятнадцать минут. Я шесть тысяч километров отмахала, чтобы… Черт.
Она посмотрела в небо, потом на носки своих туфель.
— Ну, как вас уговорить, Виталий Дмитриевич? Мне раздеться, что ли?
— Извините, — сказал Воронов, отвернулся и громко, с наслаждением, высморкался. Больше терпеть он не мог.
К тому же сморкающийся мужчина не стимулирует девушку раздеться перед ним.
— Ну, а дальше что? Разделась?
У Лернера такое обычное выражение лица — никакое. То есть не понять, всерьез он говорит или шутит.
— Нет, разумеется… — Курляндская оглянулась на Анну, повела плечами. — Там оживленная улица, и вообще…
— Он сразу ушел?
— Да. В магазин, потом на автобус.
Лернер помолчал, постучал пальцами по столику. Они сидели в том самом «Эдеме», в полупустом зале, в дальнем от стойки углу.
— Ты следила за ним?
— Да.
— Что он покупал в магазине?
— Ничего особенного… Пачку макарон, кефир, молоко, полуфабрикаты какие-то…
— Какие полуфабрикаты? — спросил Лернер.
— Дешевые.
— Какой кошмар, — сказала Анна.
— Водку, пиво — брал? — спросил Лернер.
— Нет.
Постучал пальцами.
— Плохо.
Будто это она и виновата в том, что Воронов не покупал водку с пивом.
— Ладно. Все равно, думаю, он ничего толком тебе не рассказал бы. Что с бригадой твоей?
— Один — литсотрудник из «Заозерского курьера», один из областного «Вестника Сибири», один — сам по себе, фрилансер, работает на несколько Интернет-изданий, смышленый парнишка…
Курляндская достала из сумочки блокнот, посмотрела.
— Так… Соседи по дому, институтские друзья, работа жены — сотрудники, подруги и так далее… Фрилансер мой попробует подкатиться к кому-нибудь в Следственном Комитете. Судя по тому, что я сегодня видела, у Воронова должны быть недоброжелатели. Они, как правило, обладают самой беспристрастной информацией.
— И что ты им всем наврала, дорогуша? — с улыбкой спросила Анна.
— Только правда, ничего кроме правды, — Женя Курляндская провела пальчиком по воздуху.
— Столичная журналистка интересуются медийной личностью. Ее интересуют любые подробности. Она щедро платит за любую информацию. И это — чистая правда. В конце концов, через полторы недели вы услышите в эфире «Свободной Европы» Женечкину авторскую программу «Мистер Икс», где весь этот сыр-бор будет красиво разложен но полочкам, упакован и подан в самом лучшем виде с моими восхитительно точными и, как всегда, остроумными комментариями.
— Ты молодец, Женечка, — похвалила ее Анна.
— А сама чем сейчас займешься? — спросил Лернер.
— Наведаюсь в администрацию, потом в Бюро по недвижимости. Узнаю, что им светит с квартирой… Ну, и все такое. В поликлинику зайду, в конце концов. — Она вздохнула. — Боюсь, проблем у нашей медийной личности хватает. Выше крыши.
Глава 9
Страшные сны майора Евсеева
г. Москва
За дверью стоят люди в черных диггерских комбинезонах, лица скрыты под черными трикотажными масками. Стоят молча, смотрят на дверь, будто только что позвонили в звонок и ждут, когда им откроют. Каждый держит за руку ребенка. Дети одеты в страшные гнилые лохмотья, они тоже молчат и тоже смотрят. Только Евсеев точно знает, что эти дети — мертвые. Ему даже известно, как убивали каждого из них, как выглядят их расщепленные кости там, под лохмотьями. Он только не возьмет в толк, зачем они пришли именно к нему, а не к Огольцову или, скажем, к Косухину, который занимается делом сатанистов-детоубийц.
Он бесцельно бродит по квартире, старается отвлечься, но каждый раз, проходя мимо двери, за которой его ждут черные диггеры с детьми, он снимает туфли и встает на цыпочки, и идет на цыпочках в одних носках, чтобы его не услышали. Но дверь каким-то образом становится прозрачной, они видят его, и он их прекрасно видит, хотя все ведут себя так, будто ничего не происходит, словно играют в некую недобрую и страшную игру.
И вдруг кто-то из детей стал громко ругаться матом. Голос у него низкий, осипший, как у старика, и лицо почему-то тоже стало по-стариковски морщинистым, щеки и подбородок покрылись густыми волосами, а сам он так и остался маленьким, щуплым, как подросток. Евсеев не выдержал, крикнул: «Прекратите ругаться, как вам не стыдно!» И тут все — и дети, и диггеры, все как по команде стали крыть матом, отчего дверь задрожала и стала выгибаться, как если бы снаружи ее толкала огромная невидимая сила.
Только сейчас Евсеев заметил, что вместо номера квартиры на двери висит табличка «Заместитель начальника управления по Москве Огольцов В. К.». Но ведь он не Огольцов! Это ошибка! Он — Евсеев! Он стал кричать им, что они ошиблись квартирой, что он тут ни при чем, и тоже зачем-то крыл матом. Только его никто не слушал, все кричали, и дверь трещала под напором. А потом вдруг стало тихо. Евсеев подумал, что они ушли, страшно обрадовался. В этот момент в тишине раздался щелчок, с каким поворачивается ключ в замке, дверь стала медленно отъезжать в сторону, и оттуда к нему потянулись неимоверно длинные высохшие руки-кости…
Евсеев открыл глаза. Было темно. Отзвуки сна еще стояли в ушах. Он почти не удивился, услышав, как в прихожей — наяву — зашелестел дерматин, открылась дверь. Шаги: цок, цок. Осторожно защелкнулся замок, из коридора по полу протянулась золотистая дорожка.
Он встал с постели и вышел в коридор. В прихожей стояла Марина, держала в руке остроносую туфлю с красной подошвой, на высоченной прозрачной «шпильке».
— О… Привет, — сказала она каким-то ненатуральным голосом.
— Привет. По-моему, ты сейчас в Тюмени, — сказал Евсеев, жмурясь от яркого света. — Танцуешь в черных колготках с этими, как их… С перьями на голове. Или я сплю?
— Ты не спишь, дорогой. А я не в Тюмени. И не танцую в черных колготках. — Она отшвырнула в сторону туфлю для стриптиза, заглянула под трюмо.
— Мои милые домашние тапочки, мои хорошие, цып-цып… Как я по вас соскучилась, если б вы знали!
У Юры создалось впечатление, что она избегает смотреть ему в глаза.
— А почему ты не танцуешь?
— Потому что сбежала, — тон был тоже неестественный: вроде искусственно-бодрый, а на самом деле взвинченно-возбужденный. — Послала всех подальше, села на самолет и улетела к моим родным домашним тапочкам…
— А зачем же ты от них уезжала?
Она наклонилась, обула красные панталетки с открытыми пальцами, выпрямилась, подошла к Евсееву, обняла и уткнулась в плечо, так и не показав глаз.
— И к родному мужу. Вот так.
Странная история. В ней не было никакой логики.
— Зачем же было лететь за тридевять земель, чтобы потом лететь обратно?
Евсеев посмотрел на нее. Лицо осунулось, под глазами круги.
— Надо же было самой убедиться, что Тюмень — столица деревень…
— Ты же говорила, это столица нефтяных королей…
— Туда в войну перевезли труп Ленина из мавзолея, он хранился в сельхозакадемии. Потому что он — гриб. А Тюмень — самое тоскливое место во всей Сибири. Даже во всей вселенной.
— Не надо про Ленина и про грибы. Не заговаривай мне зубы. Что там случилось?
— Нефтяные короли достали. Хотя и Пупырь не лучше, если честно… Слушай, у тебя поесть ничего не будет? Весь день моталась, некогда было, а в самолете вырубилась, едва села в кресло…
— Твои любимые рыбные палочки, — сказал Евсеев.
Она кивнула.
— Хоть что угодно! А коньячку можно?
Евсеев надел тренировочный костюм, посмотрел на часы: половина шестого. Пошел умываться. Когда вышел из ванной, на кухне уже играло радио, скворчало масло в сковороде и клубились густые ароматы отдела полуфабрикатов. Он захватил из бара бутылку «Юбилейного» и пару бокалов.
— Что случилось, Марина?
— Да ничего особенного… Собралась всякая толстопузая шелупень, с перстнями на каждом пальце да наглыми рожами. Пупырь с ними заигрывает: тю-тю, трали-вали… Вкусно, Юр. Еще хочу…
Она выложила со сковороды то, что осталось, подняла бокал с коньяком.
— В общем, дорогой мой, несравненный мой муж! — объявила она торжественно. — Хочу выпить за тебя. Потому что… Во-первых, потому что мы расстались как-то нехорошо. Многое осталось недосказанным. Во-вторых, потому что в общем и целом ты оказался прав: надо кончать с этими подтанцовками. Я признаю свое поражение, выбрасываю белый флаг и готова хоть завтра идти в Академию хореографии, нести доброе и, как там говорится… вечное. Уходить в восемь, приходить в пять. Танцевать для мужа голой под сенью семейной люстры…
— Не просто танцевать, — сказал Евсеев.
— Хорошо. Буду раздеваться и делать все остальное.
— Не только. Ты родишь ему ребенка.
Она задумчиво посмотрела в бокал, будто из янтарной глубины ей должны были подсказать ответ.
— И рожу ему ребенка, — нараспев повторила она. — Мальчика. Четыре кило пятьсот. И все у нас будет хорошо.
Она едва пригубила коньяк, отставила бокал в сторону. Евсеев смотрел на нее. Ему казалось, она вот-вот расплачется.
— Что произошло, Марина?
— Ничего. Почти ничего. — Она попыталась улыбнуться. — Устала просто… как лошадь. С Пупырем разругалась… Ты не будешь против, милый, если я станцую тебе в другой раз? А пока что просто приму душ и завалюсь спать?
— Я буду просто вне себя, — сказал Евсеев, изображая полное спокойствие. На самом деле внутри у него все кипело. — Мебель порублю в щепки.
— Вот и прекрасно. Мне нравятся темпераментные мужчины.
— Там хватало таких, да? — не удержался он.
— Там не хватало тебя, Юра.
«Опять уклонилась от прямого ответа. Но из того, что сказала, — ясно: да, там хватало темпераментных мужчин, но мужа не хватало, что заставляло верную жену страдать и нестись ночью через всю страну…»
Марина встала.
— Пойду выкупаюсь. Ты знаешь, что после войны тюменских уличных котов ловили и отправляли спецрейсом в Ленинград? Спасать Эрмитаж от крыс. Я всю дорогу думала над этим и не могла понять, почему именно тюменские коты им понадобились, что в них такого особенного. Есть ведь гораздо ближе города… Думала, что это типа как рижский ОМОН, головорезы такие…
«Хватит пиздеть!» — хотел крикнуть Евсеев, но сдержался и спокойно спросил:
— Откуда ты знаешь про рижский ОМОН?
— Мы же жили в Риге с родителями. Ты забыл? Правда, я тогда была маленькой…
— И к чему ты рассказываешь мне про котов? Или больше не про что?
— Не знаю. Наверное, по животным соскучилась. Во, слушай. Привези мне Брута, а? Сегодня. Я так по нему соскучилась, по черту лохматому. Вот проснусь, а Брут уже здесь — здорово, правда?
Последние слова она прокричала уже из ванной, под шум воды. Евсеев посмотрел на бокалы с коньяком — оба остались почти нетронуты. Он встал, пошел в прихожую, взял ее сумочку, открыл и вывалил содержимое на пол. Среди обычной женской ерунды, которая имеется в любой сумочке, на паркет упали две пачки тысячных купюр, перехваченных аптечной резинкой. Все стало ясно! Другие аптечные резинки она выбросила, а деньги — вот они… Это и есть уликовый материал, недаром Мигунов перед попыткой ухода сжег несколько миллионов, да и Толмачев[2] сжигал доказательства измены, только резинки почему-то оставил, по ним и сосчитали уничтоженную сумму.
Держа пачки в руках, он пошел в ванную, постучал в дверь и тут же понял, как это глупо: надо было выбить с разбегу защелку!
— Открыто.
Она стояла под душем, вода покрывала тонким слоем маленькие груди, огибала пупок, скатывалась на выбритый лобок и стройные ноги, гладкая кожа сверкала… Левая рука прикрыла правое предплечье, в широко раскрытых глазах плескалась растерянность.
— Это не мои деньги…
Юра подошел вплотную, хлестко ударил по лицу сначала одной пачкой, потом другой. Одной — другой. Одной — другой… Пачки растрепались, купюры планировали в ванну, намокнув, забивали слив…
Марина закрыла лицо ладонями. На правом предплечье синели овальные пятна: следы от сдавливания пальцами — классика судебной медицины.
— Это деньги труппы, Пупырь передал в кассу!
— И это тоже Пупырь?! — он показал на синяки. — Или они тоже не твои?
Она заплакала и опустилась в ванну.
— Кому ты заговаривала зубы?! Ты забыла, что я не Пупырь?! Выкладывай все, иначе хуже будет!
Юра не представлял, что может быть хуже. Сердце бешено колотилось и грозило проломить грудную клетку. Хуже всего мог быть только инфаркт. Он знал такие случаи.
Марина сидела среди мокрых денежных купюр, обхватив руками колени, и, всхлипывая, смотрела куда-то вниз.
— Говори! И в глаза смотри, в глаза!
Она не подняла голову и ответила не сразу.
— Они все шлюхи, вышедшие из стриптиза, — произнесла она наконец. — Он специально набирал именно таких.
— И что? Он заставлял вас…
— Нет. Никто никого не заставлял. Просто все хотели заработать бабок. Все были в курсе. Даже областная администрация… В смысле, мужики из администрации. Это так, полуофициально. Вечерний концерт в филармонии, а потом до утра — шансон с голыми задницами на столах, в дачах и саунах…
— Я же с самого начала говорил тебе, что так и будет!
— Я не знала, что задумал Пупырь, когда поняла, уже было поздно… Но я ни с кем не спала… Вот синяки, это меня тянул один… Но я вырвалась…