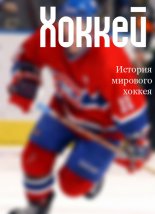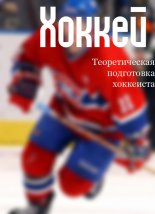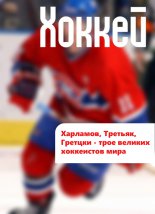Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов
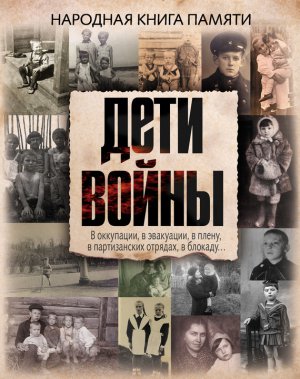
Часто, когда мама оставалась дома с моей младшей сестрой, мне надо было бежать к папе, чтобы отнести ему чистое белье или еще что-то, а дом, где он помещался, был на самом берегу моря (там сейчас Водная станция, слева от Графской пристани), и у самого берега стоял крейсер. Прибежишь к нему с трудом под бомбами, прорвешься – и опять бомбят, а бомбы падают совсем рядом. Очевидно, немцы хотели этот крейсер разбомбить. Я начинала нервничать: ну почему они стоят на одном месте, почему в убежища не уходят?! Но крейсер стоял и стрелял по самолетам. Когда ребята выходили, я к ним обращалась: «Ну почему вы на одном месте стоите, почему не уходите?!» «Команды нет», – отвечали они. И вот в один день в корабль все же попала бомба, много ребят погибло, многих ранило, и опять я много плакала и спрашивала командиров: «Ну почему вы так неповоротливы были?!» – а они мне: «Девочка, не раздирай душу, не наша вина, не было команды, мы не властны над собой. Мы много отличных ребят теряем – война! Не надо травить душу!» Я отлично помню этот разговор.
И опять я шла домой, а мать шла помогать отцу, так мы с ней менялись. Мама хорошо справлялась с расчетами, а папа к тому моменту уже их забывать стал и уже боялся без нее оставаться. Продукты доставали мама и папа, я тоже иногда стояла в очередях.
Кто начинал плакать, того сразу призывали прекратить слезы, быть мужественней, деваться ведь нам все равно некуда, и сами сделать мы ничего не можем. А как мне терпеть, когда нет с нами мамы, мы одни? Но я терпела и молчала, сестренка Леночка тоже молчала, прижавшись ко мне.
И вот однажды, уже к концу осады, рано утром, в 3–4 часа, пришли к тете Розе пять человек наших бойцов вместе с ее племянником, и он сказал, что Севастополь сдали и что на следующий день немцы будут здесь. Было очень страшно такое слышать.
Ушли ребята, и тут начался штурм Севастополя. Папа и мама были на работе, а я с сестрой сидела в бомбоубежище – вместе с людьми и с тетей Розой.
Это был страшный ад. Ежесекундно падали бомбы, все грохотало и тряслось, волосы наши подымались дыбом, щебенка сыпалась в волосы, многие плакали, оплакивали своих близких, родных, матерей, отцов. Я держала на руках сестренку и думала: если мы останемся живы, как я накормлю сестренку, где я возьму еду, питье? Мамы нет, папы нет: в этом аду они не могут остаться живы. Каждую секунду рвались бомбы, мы стали задыхаться, спички не горели, мы сидели в темноте.
Кто начинал плакать, того сразу призывали прекратить слезы, быть мужественней, деваться ведь нам все равно некуда, и сами сделать мы ничего не можем. А как мне терпеть, когда нет с нами мамы, мы одни? Но я терпела и молчала, сестренка Леночка тоже молчала, прижавшись ко мне.
И вот, наконец, все кончилось, затихло. Эта тишина была еще страшнее. Ребята полезли к выходу и сказали, что один выход полностью засыпан, придется идти на дорогу, но мы боялись вылезти. Кто-то рискнул первым это сделать, но тут же вернулся и сказал: «Там все разбито, только груда камней, проводов». Мы стали постепенно выходить. Пошла с сестрой и я. Вот тут начались слезы, вой. Дома все разбиты, только воронки глубокие. У кого старики остались дома, отказавшись от убежища, – погибли. Дом тети Розы тоже весь завалило, в него попала бомба, но старенькая мама тети Розы осталась жива, ее откопали, и она потом пришла в сознание.
Мамы и папы нет. До нашего дома не так далеко идти было, но по груде камней и проводов я не смогла с ребенком пройти. И в это время мы вдруг увидели немца с автоматом. Мне казалось, что сердце у меня во рту, я захотела кричать. Мне было неимоверно жаль всех наших ребят, все наши корабли, всю нашу землю. Мне казалось, что-то грязное, неотвратимое, грозное вступило на нашу землю. Я стала просто рыдать. Меня успокаивали окружающие, но я не успокаивалась. Мне говорили, что я должна терпеть, научиться молчать, не показывать своих чувств. Я поняла, что настало время страшное, нельзя быть такой же открытой, надо учиться сдерживать себя, как бы ни было тяжко.
Потом пришла мама. Сказала, что дом наш разбит снарядами, что все стены рухнули, но крыша есть, хотя и побитая, что цело пианино, хотя и засыпано, и вещи остались. Мы все пошли домой, пробираясь через провода и груды камней. Мама умудрилась достать нам попить и что-то поесть, успокаивала нас. «Что мы можем сделать, – говорила она, – чем могли, мы помогали своей Родине. Мы с отцом работали, а ты вот бутылки собирала, сдавала. Не наша вина, что все так произошло». Но я все плакала и долго не могла успокоиться.
Вскоре пришли немцы и объявили, что все евреи должны собраться на стадионе. Мама предложила тете Розе пойти к нам домой и в подвале пересидеть, но она наотрез отказалась: «Я свою маму не брошу, а с ней идти к вам опасно, так как мама уже очень стара. У вас дети, и всех нас побьют».
Затем мы стали разбирать камни, песок, откапывать вещи, приводить все в порядок. В итоге у нас дома на Ломоносова мы все прибрали, да и на Батумской люди откопали летнюю кухню, и там все собрались. Начали печь лепешки вместо хлеба. Где-то муку откапывали, воду опять в тех же колодцах брали, выстаивая очереди.
Вскоре пришли немцы и объявили, что все евреи должны собраться на стадионе. Мама предложила тете Розе пойти к нам домой и в подвале пересидеть, но она наотрез отказалась: «Я свою маму не брошу, а с ней идти к вам опасно, так как мама уже очень стара. У вас дети, и всех нас побьют». Мы с мамой настаивали, но она упиралась. «Что всем, то и нам, – говорила она. – Заставят работать, будем работать, а если умирать, то я уже с мамой и со всеми евреями буду». Она осталась непреклонна. Нашила себе и маме звезду на спину, как им было приказано, и поехала по приказу на стадион.
Я поняла, что немцы сейчас как звери и что надо терпеть, молчать, не плакать, хотя душа моя бунтовала против всего этого.
Маму свою тетя Роза везла в тачке, так как сама она ходить уже не могла. На следующий день мы с мамой пошли относить им еду. Нас немцы пропустили – у мамы был паспорт. Так мы ходили несколько раз. Потом мама пошла одна, но тети Розы и ее мамы уже не было. Куда их отвезли – никто не знает. Через несколько дней стали поговаривать, что их, очевидно, расстреляли. Но за что?! Я поняла, что немцы сейчас как звери и что надо терпеть, молчать, не плакать, хотя душа моя бунтовала против всего этого.
Как-то мама пришла и говорит:
«Знаешь, Надюша, немцы стали пускать к нашим раненым пленным, а они все лежат на полу в бывшей тюрьме». Папа стал какой-то старый, обросший, молчаливый – он оставался с сестренкой, а мы с мамой распороли подушки и наделали маленьких подушечек. Разорвали простыни на бинты, собрали весь йод, какой у кого нашли и пошли к нашим раненым.
Когда я зашла в тот большой зал, я в ужас пришла: на полу лежали почти один к одному наши ребята. Кто стонал, кто молчал, кто воды просил, кто хлеба. Мама и я быстро стали разбирать что принесли: подушки под головы, пить давали, лепешки, которые мама напекла. Ребята меня успокаивали: «Не плачь, девочка. Будь мужественной. Смотри, что фашисты делают, и помни».
Мы несколько раз с мамой ходили туда. Потом один раз пришли, а нам сказали, что якобы раненых положили по больницам, но я уже ничему не верила. Я и сейчас не уверена, что их не расстреляли всех.
Вскоре после этих событий пришли к нам немцы и объявили, чтобы в 24 часа мы покинули этот дом, так как всю территорию, прилегающую к морю, они освобождают от жителей. Родители заметались.
У нас был знакомый, который жил за Историческим бульваром. Мы часто ходили к ним в гости. У них был свой дом, сад, огород, кошка, собака, которые меня любили. Теперь дядя Фома, как я его звала, остался один. Жену его арестовали до войны, как немку или как полячку. Я не помню уже ее национальности, но это была доброжелательная женщина, очень гостеприимная и хлебосольная. Дочь дяди Фомы была где-то в Москве, а сына убило на работе.
Дядя Фома принял нас с радостью, хотя и жить-то у него было негде, так как в дом попала бомба и все было разбито. Но так как человек он был очень трудолюбивый, то он все разобрал и какие-то уголочки дома покрыл железом, так что кое-как можно было существовать. И вот мы переехали к нему, даже пианино, которое откопали в нашем доме, он перевез. Это уж я очень просила, так как ждала, что когда немцев прогонят, то я снова смогу учиться. В этом разбитом доме с сараями, которые все же остались, мы и расположились.
Звали его Дубинин Фома, дом его находился по улице Чапаева, 29. Немцы сюда почти не заходили, и было относительно спокойно. Часть немецкая стояла несколько в стороне, только высокий забор был виден.
Наступали холода уже, осень. Дядя Фома сказал отцу, что как-то надо отремонтировать хотя бы кусочек дома, чтобы мы могли перезимовать, и начал подготовку. У него было много всякого материала, человек он был хозяйственный и запасливый. Вот только кровельного железа у него не было, но так как вокруг было много брошенных разбитых домов, то он собирался с их помощью решить проблему. Он уходил куда-то, затем возвращался с кусочками железа и складывал их в сарай.
Однажды он ушел и долго не возвращался. Мне было очень тревожно, я думала, а вдруг его убили немцы. Но пришла женщина и сказала: «Идите скорей! Я видела, что на Историческом бульваре лежит Фома в траве, а рядом с ним – лист железа». Отец с матерью побежали туда, принесли Фому на носилках, он был без сознания. Мать стала его лечить чем-то. Отец искал врача, но не нашел. Фома пришел в себя и рассказал, что он упал из-за этого самого куска. Мы его лечили, и ему становилось лучше. Через неделю он уже встал, но сделался какой-то прямой и малоподвижный, и однажды ночью он умер от столбняка.
Все мы были убиты этим новым горем. Что теперь делать? Куда идти? Похоронили мы его. Соседи сказали отцу: «Куда же вы пойдете с детьми? Оставайтесь тут, а мы вам поможем как-нибудь отремонтировать кусочек дома». Мы и остались – ведь идти было некуда, все разбито. Начали потихоньку разбирать камни и строить жилище, чтобы перезимовать. Я все так же ходила за водой, брала ее в колодце под горой. Мама пекла лепешки из муки, которая у нее еще оставалась, и давала нам по кусочку, варила какую-то похлебку.
Потом мы с мамой куда-то ездили, не помню уже куда, и меняли свои оставшиеся вещи на муку, хлеб, соль.
Как-то папа сказал, что можно поехать в татарскую деревню к дяде Шаипу – это давнишний папин знакомый был, которому в свое время папа в чем-то помог. Он поехал один, пробыл недолго и привез нам фрукты, фасоль, горох. Мы были очень рады такому угощению. Через некоторое время дядя Шаип сам приехал и тоже привез фрукты. Я стала просить дядю Шаипа взять меня хотя бы ненадолго к себе в деревню. Он согласился, и меня отпустили. Пошли мы в деревню Старые Шули, где он жил с семьей.
Жена его и четверо маленьких ребят приняли меня очень тепло, хотя по-русски жена его плохо понимала, но как-то уж мы общались. Я старалась помочь ей, чем могла, ребенка маленького качала, кормила иногда, но чаще дядя Шаип брал меня с собой на работу – он был бригадиром сбивщиков грецких орехов. Много я с ним походила и посмотрела. Заходили мы и в другие деревни к его родственникам. Везде меня хорошо принимали, но от себя дядя Шаип меня никуда не отпускал никогда даже за хлебом. Он говорил мне, что для меня это опасно: «Наш народ поделился надвое: одни за русских, другие против. Вот они-то тебе могут принести зло. Остерегайся их». Я не знала, кто за, кто против, и никуда не отходила от дяди Шаипа. Иногда я ощущала острые взгляды на себе, но отгоняла страх. Когда он отвел меня домой, то дал орехов, фруктов, и я осталась довольна.
Вскоре произошел такой случай. У нас была знакомая молочница. Много лет она носила нам молоко, пока мы жили на Ломоносова, 12. Я часто у нее бывала все лето, помогала ей по хозяйству, пасла коров, овец. Часто я забиралась на дерево во дворе и пела песни, а она очень любила слушать меня.
Я часто помогала ей складывать сено под крышу, а она разрешала мне завалиться там и поспать. И вот она-то и пришла к нам и пригнала своих овец, телку и козу. Плакала, говорила, что немцы все забирают, а у нас спокойней. Пригнала она их рано утром, рискуя жизнью.
Что делать? Мы в растерянности, но долг платежом красен: когда-то она отцу занимала деньги на пианино. Мама утром пошла по балочке пасти стадо, но скоро я поняла, что дома мне одной еще страшнее оставаться. Отец к тому времени работал где-то кладовщиком или уборщиком, точно не знаю.
На следующий день я пошла скотину пасти, а мама осталась с сестренкой. Приходилось убегать от немцев, которые ко мне направлялись. Иногда я даже пряталась в пещерах по пути на Максимову дачу. Не один раз в меня и в овец стреляли немцы, но я все же умудрялась убежать.
Скоро я заметила стадо коз, которое пас какой-то мальчик. Со временем мы познакомились. Это был городской пастух Вася Шанько. Мы подружились и стали сгонять вместе коз и овец – вдвоем было не так страшно.
Вася Шанько был хорошим мальчиком, моим ровесником. Часто он меня просил, чтобы я осталась одна со всем стадом и при этом чтобы я никому не говорила про его отлучку. Уходил он надолго, а когда возвращался, то был молчалив, и я не задавала ему вопросов. Потом, уже позже, я узнала, что он уходил по заданию брата-подпольщика куда-то на связь. Но вскоре он стал молчалив и грустен – немцы арестовали его брата. Это я узнала гораздо позже. Замучили брата зверски. Нашли этих замученных уже после оккупации. Мы с классом ходили на кладбище Коммунаров хоронить этих ребят. Я плакала, учителя наши Клавдия Ивановна Кораблева, Вера Романовна Девочко и Ада Алексеевна успокаивали меня и говорили: «Знай, Надюша, и помни, какой ценой нам досталась Победа!»
Но это было позже, а пока в оккупации оставшиеся учителя открыли школу № 14 на Пироговке. Вася сказал, что в школу он пойдет, бросит пасти стадо, и посоветовал мне поступить так же, так как в школе будут наши учителя. Я пошла. Учились мы в одном классе, и еще там было много знакомых мне ребят и девочек. Все мы были дружны, все настроены патриотически: за нашу Родину были готовы все сделать, а, как немцам насолить, придумать не могли. Однажды на уроке математики нас вдруг прорвало, и все мы стали громко петь патриотические песни, да с азартом. Учитель наш бедный бегал между рядами и уговаривал нас: «Не надо, ребята, прошу вас, ведь напротив школы – дом, в котором немецкая часть. Сейчас придут и перестреляют всех». Но мы не унимались.
Однажды на уроке математики нас вдруг прорвало, и все мы стали громко петь патриотические песни, да с азартом. Учитель наш бедный бегал между рядами и уговаривал нас: «Не надо, ребята, прошу вас, ведь напротив школы – дом, в котором немецкая часть. Сейчас придут и перестреляют всех».
Только когда успокоились, то стали ждать, что сейчас кто-то придет, и поняли тогда, какой опасности подвергали мы учителей. Хорошо, что в тот раз все для нас обошлось.
Вскоре наступила весна нашего освобождения… Наши подошли близко к Севастополю. Мы ждали их с великой радостью. На Сапун-горе началась битва, мы смотрели туда вдаль, и сердце болело, что наши так задерживаются, ведь это значит, что много наших ребят гибнет. Мама и я плакали, молили, чтобы скорее наши прорвались и нас освободили.
Но вот наконец-то все стихло, и на противоположной горке я увидела нашего бойца. Радость была необыкновенная. Затем на горку пришли еще несколько бойцов. Мы с мамой выскочили из калитки и к ним кинулись, целовали и благодарили их. Они нам сказали: «Отойдите в дом. Еще не все закончено. Кругом засели немцы». И тут я вижу, что они смотрят в сторону Исторического бульвара. Я оглянулась и вижу, что там стоит немец, подняв руки. Наши ребята пошли в его сторону, и в этот момент раздался взрыв, и двое наших упали. Это немец их обманул. Первого – командира Джугашвили – убило, второго тяжело ранило.
Гнев, негодование, ненависть к врагу нахлынули на меня, а ребята меня успокаивали: «Девочка, ты не знаешь, какие это звери. Хорошо, что мы их гоним и выгоним наконец. Жаль наших ребят, но такова война».
Раненого мы затащили к нам в дом. Я металась, чем помочь, но вскоре пришли санитары, перевязали рану на ноге и тихо сказали: «Этот не выживет». Я ушла на кухню, потом плакала горько, сидела около него. Он верил, что выживет, рассказывал, что у него двое детей, он должен жить. Тут еще принесли одного раненого – молодой красивый лейтенант. Ранило его в живот, он страшно страдал и просил все время пить, а санитары не разрешали давать воды, и я мазала ему только губы.
Хирурги в больницах были страшно загружены, не успевали оперировать, там была очередь. Тогда два бойца, мама и папа понесли лейтенанта на матраце пружинном в больницу, и там его сразу взяли на операцию.
Тот боец, что в ногу был ранен, скоро скончался. Мама и я очень плакали, жаль было и его, и его детей, что остались без отца. Моя маленькая сестренка, которая уже бегала, тоже очень плакала: «Где дядя?»
А тот, что в ногу был ранен, скоро скончался. Мама и я очень плакали, жаль было и его, и его детей, что остались без отца. Моя маленькая сестренка, которая уже бегала, тоже очень плакала: «Где дядя?»
Вот так было: горе и слезы.
Потом 9 мая вдруг началась страшная стрельба. Я испугалась ужасно, ко мне прижалась сестренка. Что такое? Мы выбежали на улицу и увидели, что все бойцы стреляют вверх. Мы спрашиваем: «Что это вы делаете?» – а они отвечают: «Это салют в честь освобождения Севастополя». А мы-то этого не знали и так напугались.
В нашем доме уже жили наши офицеры, хотя само жилье было непритязательное, строили его своими силами, но и это было в тот момент шикарно. Теперь мы стали получать хлеб и крупу. Стала налаживаться жизнь.
Вскоре нам объявили, что придет наш флот. Все мы пошли на Приморский бульвар его встречать, с цветами, радостные. И вот появились первые корабли. Народу было очень много. Все кричали «Ура!» и плакали от радости. И все помнили, какой ценой досталась Победа.
Из-за фашистов мамина сестра сошла с ума
Буякова Валентина Ивановна, 1934 г. р
К началу войны и осады Севастополя мне было всего восемь лет. Но картины и впечатления, все пережитое в то страшное время до сих пор не стерлись из моей памяти.
Я родилась 23 января 1934 года в Севастополе. Мы с отцом, матерью и младшей сестренкой Тамарой жили в Карантинной балке по улице Понтонная, дом 3. Отец, Буяков Иван Максимович, 1900 года рождения, был участковым милиционером в Карантинной балке. Мать, Буякова Татьяна Степановна, 1914 года рождения, работала в столовой военно-морского училища в Стрелецкой бухте. Она сперва участвовала в подготовке училища к эвакуации, а затем до последнего дня оставалась в воинской части в районе улицы Минной.
В наш дом попали две зажигательные бомбы. Они пробили крышу, но не взорвались. После одного из налетов, когда мы с сестренкой прибежали домой, то обнаружили их в шифоньере.
Над нашей Карантинной балкой ежедневно пролетали десятки фашистских самолетов в сторону Фиолента, Херсонеса, Казачьей бухты. Рядом с балкой были бухта с кораблями и база торпедных катеров. Бомбили нас ежедневно в любое время дня и ночи. Бомбы попадали почти в каждый дом на нашей улице. Так были разрушены дома наших соседей – под номерами 5, 7 и 9. В наш дом попали две зажигательные бомбы. Они пробили крышу, но не взорвались. После одного из налетов, когда мы с сестренкой прибежали домой, то обнаружили их в шифоньере.
Когда налет заставал нас в доме, мы прятались в маленьком окопчике у дома, который сделал отец. Попасть в него можно было только ползком.
Бомбардировок сначала я очень боялась. Позже настолько привыкла к ним, что иногда во время налета и гула самолетов я приоткрывала дверцу окопчика и, глядя в небо, где отчетливо были видны фашистские бомбардировщики и падающие из них бомбы, комментировала маме: «Над нами летят пять самолетов. Они сбросили 8—10 бомб. Но они на нас не упадут. Их ветром отнесет далеко. Так что ты, мама, не бойся». Но, когда бомбы попадали в наши балки и мы выходили на поверхность, помню, как было жутко. В балке становилось почти темно от пыли и гари. Горели не только дома, но и земля, и камни. Смрад в воздухе, какой-то пыльный трупный запах, дышать было невозможно. В окопчике нас несколько раз засыпало взрывной волной. Однажды был такой сильный взрыв, что нас оглушило. А у сестренки Тамары, которой было всего три года, проблемы со слухом остались на всю жизнь.
До сих пор не могу забыть страшную трагедию, которая произошла у соседки тети Дуси, которая жила по адресу: улица Понтонная, дом 9. Налет фашистских самолетов застал нас в доме. Мы едва успели укрыться в нашем окопчике. Когда самолеты улетели, я открыла дверцу окопчика и увидела рядом молча стоящую тетю Дусю. Она стояла как безумная, с распущенными волосами, и держала на руках сына Колю, с которым я окончила первый класс в школе номер 19. Голова и руки Коли болтались – он был мертв. Рядом стоял ее перепуганный четырехлетний плачущий сын Виктор. Мы с мамой онемели и не знали, что делать. И тут внезапно снова налет, гул самолетов уже близко. Мама кричит ей: «Дуся, давай Колю оставим здесь и бежим в укрытие. Иначе мы все здесь сейчас погибнем!» Они положили Колю на землю около развалин, и мы побежали в укрытие.
Воды в городе не было, так как все водопроводы были разрушены. На улице Минной колонка с краном не работала. Поэтому изредка собиралась очередь за водой у колодца, который был у огородника в низине, метрах в ста от нашего дома. Там погибло немало женщин и стариков. Налетали «мессершмитты», низко пикировали на очередь и стреляли в людей из пулеметов.
Потом тетя Дуся рассказала, что, когда приближались фашистские самолеты, ее мама была в доме, а она с обоими сыновьями добежала до летней кухни со двора, бросила мальчиков на пол, сначала старшего, а на него младшего. А сама легла сверху, закрыв их собой. Бомба упала прямым попаданием в их домик. От дома осталась груда камней, а бабушку разорвало на части. После налета тетя Дуся поднялась с пола и с ужасом увидела, что Коля мертв. Хоронили бабушку и Колю в их дворе.
Воды в городе не было, так как все водопроводы были разрушены. На улице Минной колонка с краном не работала. Поэтому изредка собиралась очередь за водой у колодца, который был у огородника в низине, метрах в ста от нашего дома. Там погибло немало женщин и стариков. Налетали «мессершмитты», низко пикировали на очередь и стреляли в людей из пулеметов. Люди разбегались, искали где-нибудь укрытия. Мама иногда оставляла нас в укрытии, уходила домой, чтобы хотя бы согреть на примусе чай. А, придя, рассказывала женщинам: «Опять были трупы».
За несколько дней до начала оккупации воинская часть, где работала мама, получила указание срочно эвакуироваться. Все выехали в сторону Фиолента. Начальник уговаривал маму уезжать: «Иначе, вы здесь погибнете». Но мама отказалась. Она сказала – ну куда я поеду с детьми, лучше здесь погибнем, чем где-то. Хотя я не знала, что тысячи людей уже не смогли эвакуироваться, так как фашистские самолеты бомбили и топили весь транспорт и у моря, и у берега. Последние несколько дней было очень страшно. Это был ад. Мы в эти дни совсем не выходили из укрытия. Не прекращая, гудели фашистские бомбардировщики, пикировали «мессершмитты», начался артиллерийский обстрел. Слышно было, как где-то недалеко с грохотом вылетали из пушек снаряды. Мы не знали, в какую сторону бежать. Подобное я видела только в кинофильмах о войне на передовой.
На следующий день началась облава по домам уцелевших жителей. К нам пришли трое фашистов с автоматами. Долго рылись в шкафах, вещах, книгах, альбомах, искали подтверждение наличия в семье евреев, офицеров, коммунистов, книги Ленина, Сталина и другие. Потом вышли во двор, осмотрели сарай. Мама боялась, что они найдут фото отца в милицейской форме.
Помню, что я больше всего боялась взрывов снарядов. Закрывала уши руками, чтобы не слышать этого кошмара, и думала, что теперь мы уж точно погибнем. После этого наступила тишина. С утра не бомбили, не стреляли. Нас в укрытии осталось человек 12 женщин и детей. Мы вышли на поверхность подышать. И где-то часов в 14 мы увидели, как от улицы Пожарова по улице Минной к нам движется группа фашистов-мотоциклистов. Они шли и везли рядом свои мотоциклы. Страшные, вооруженные, в касках, они приблизились к нам, осмотрели нас. Затем один из них дал очередь из автомата внутрь укрытия и, убедившись, что здесь только женщины и дети, по-немецки приказал всем разойтись по домам. На следующий день началась облава по домам уцелевших жителей. К нам пришли трое фашистов с автоматами. Долго рылись в шкафах, вещах, книгах, альбомах, искали подтверждение наличия в семье евреев, офицеров, коммунистов, книги Ленина, Сталина и другие. Потом вышли во двор, осмотрели сарай. Мама боялась, что они найдут фото отца в милицейской форме. А в сарае в бочке под хламом лежало два килограмма муки, которые она берегла на черный день. Мама держала меня за ручку, и я чувствовала, как дрожит ее рука. И я боялась, что нас убьют фашисты. Но все обошлось.
Хорошо помню, как по улице Пожарова в течение двух дней непрерывным потоком с утра до вечера гнали колонны пленных – последних защитников Севастополя, мужчин и женщин с детьми, которые не успели эвакуироваться и которые работали до последнего дня в воинских частях. Я пошла на улицу Пожарова, надеясь увидеть среди пленных кого-нибудь из родных или знакомых. И то, что я увидела там, меня потрясло. Это забыть невозможно. Шли матросы в тельняшках, раненые, с окровавленными повязками, истощенные, мучимые жаждой, так как была сильная жара, это был июль месяц. Они просили хотя бы глоток воды. Они были обессиленные. Они еле двигались, шли обнявшись и несли на себе других или поддерживали тяжелораненых, которые вообще не могли идти. А фашисты-конвойные на лошадях подгоняли их, кричали и били плетками. Возле дома на улице Пожарова, 10, стояли несколько женщин из уцелевших жителей. А рядом вся в крови лежала убитая фашистами женщина. Ее убили за то, что она вынесла пленным ведро воды. Тут же валялось пустое ведро, и вокруг разлита вода. Одна женщина тихо сказала: «Фашисты не разрешают убрать труп женщины. Они сказали, пусть видят все, кто захочет им принести воду».
В первый день я увидела среди пленников работников воинской части, где работала мама. Я пошла на второй день на улицу Пожарова и прошла дальше до пустыря. Там я увидела родную мамину сестру – Любу и двоюродную – Фиму. Люба в 1941 году окончила 10 классов – работала бухгалтером в воинской части в училище в Голландии [27]. Они шли, поддерживая друг друга. У Любы на голове была окровавленная повязка. Я бросилась к ним и уговаривала их бежать, так как фашиста на лошади не видно. Мы втроем побежали по пустырю к балке. Но фашист увидел нас. Примчался на лошади, стеганул нас плеткой и с криком погнал обратно в колонну пленных. Я горько плакала. Прибежала домой и рассказала все маме. Мама из последней муки испекла лепешки и рано утром пошла с соседкой к тюрьме на улицу Восставших. Не знаю, как им удалось среди тысячи пленных за колючей проволокой разыскать сестер и уговорить охранников их отпустить. Пригодились лепешки и немецкий язык, который Люба неплохо выучила в школе. Мама привела сестер домой. Но через два месяца Любу вместе с другой молодежью города фашисты угнали на работу в Германию, и мы четыре года считали ее погибшей. Только в 1946 году она вернулась в Севастополь. В 24 года она – красивая и умная – из-за всего пережитого потеряла рассудок. Лечили ее в психбольнице в Симферополе. Она дожила до старости, так и не излечившись.
Любу вместе с другой молодежью города фашисты угнали на работу в Германию, и мы четыре года считали ее погибшей. Только в 1946 году она вернулась в Севастополь. В 24 года она – красивая и умная – из-за всего пережитого потеряла рассудок. Лечили ее в психбольнице в Симферополе. Она дожила до старости, так и не излечившись.
Удивительно то, что во время осады города и после нее мы не умерли от голода. Ведь нам не давали ни пайков, ни хлеба. Магазинов никаких не было. Помню, что ели очистки от картошки и какую-то траву, суп с галушками из муки, облитой керосином, который можно было есть, только зажав нос пальцами.
Помню случай, когда фашисты при разгрузке сосисок упавшую на землю сосиску бросили в толпу детей, как собакам, и, пока мы за нее дрались, они смеялись.
Помню, я лежала больная с высокой температурой и мечтала о кусочке хлеба. Я думала – вот если бы я сейчас съела кусочек хлеба, я бы сразу поправилась. Еще помню, как мы с группой людей пошли в татарские деревни, которые находились в 20-ти километрах от города. Мы надеялись поменять оставшиеся вещи на овощи и молочные продукты. Мама хотела идти одна, но я уговорила ее взять меня с собой, так как боялась, что мама может не вернуться. Слабые и голодные, мы шли целый день. Было тяжело. Страшно болели ноги. Но я не жаловалась. Фашисты объехали на лошадях всю деревню, всех нас выловили, отобрали все, что мы выменяли у старой татарки – несколько картофелин, огурцов и литр простокваши, – посадили нас за решетку и выпустили только вечером, предупредив, что по деревням ходить запрещено, иначе расстреляют.
Вскоре после прихода фашистов в Севастополь они объявили Карантинную балку запретной зоной и обнесли колючей проволокой. Оставшихся в живых жителей переселили на улицу Пирогова в сохранившиеся дома, в которых раньше жили эвакуированные семьи офицеров. Говорили, что фашисты полагали, будто дома заминированы, и сами побоялись в них въехать и потому решили проверить на нас. И мы боялись, что мы в любое время можем здесь погибнуть. Но, когда они убедились, что мин нет, приказали выезжать из Севастополя куда хотим.
Помню, я лежала больная с высокой температурой и мечтала о кусочке хлеба. Я думала – вот если бы я сейчас съела кусочек хлеба, я бы сразу поправилась.
Мама получила в гестапо разрешение, и в 1943 году мы выехали в село Юзскун за Джанкоем, где жила ее мама с младшими сестрами. Там мы продолжили жизнь в оккупации, и только в конце 1945 года смогли вернуться в Севастополь по вызову родственников, так как город был закрыт. Я увидела и запомнила вид центра Севастополя: кроме главпочтамта и храма – груда камней. Нам пришлось жить еще несколько лет в развалинах и подвалах.
После войны я окончила севастопольский судостроительный техникум, затем филиал Николаевского кораблестроительного института в Севастополе, вечернее отделение по профессии инженер-кораблестроитель. По окончании техникума в 1953 году министерством была направлена на работу на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе и проработала там до 1996 года. Ушла на пенсию с трудовым стажем 48 лет.
Работая на заводе, в честь 200-летия основания завода в 1983 году была награждена грамотой Президиума Верховного Совета Украины за заслуги перед Украиной в области судостроительной промышленности. В настоящее время на пенсии и проживаю в Севастополе.
Немецкие конвои не жалели патронов
Васильев Борис Павлович
После взятия Севастополя в плен попали десятки тысяч людей, многие из которых не дождались освобождения. Страшные воспоминания поломанного детства, обагренного кровью времени. Вспоминая пережитое, не могу забыть, как после захвата Севастополя немцы гнали людей с мыса Херсонес, где их взяли в плен, в концлагеря Бахчисарая и Симферополя. На всем протяжении дороги оставались лежать наши убитые солдаты и гражданские. До сих дней не могу забыть убитую мать с месячным младенцем, которых тоже взяли в плен, а потом расстреляли. Они лежали сбоку дороги на остановке Дмитрия Ульянова на перекрестке к Херсонесу, а рядом – тела трех солдат, убитых при попытке сбежать из колонны военнопленных под мост.
После захвата Севастополя немцы гнали людей с мыса Херсонес, где их взяли в плен, в концлагеря Бахчисарая и Симферополя. На всем протяжении дороги оставались лежать наши убитые солдаты и гражданские. До сих дней не могу забыть убитую мать с месячным младенцем, которых тоже взяли в плен, а потом расстреляли.
И так было везде, где стояли мосты: пленные старались убежать из строя, но конвоиры не жалели патронов, горы трупов росли, перейти дорогу было нельзя, иначе ты тоже попадал в колонну. Гнали пленных очень долго, говорили, что всего в колонне было 78 тысяч человек. Даже сегодня на остановке троллейбуса № 6, напротив кинотеатра «Россия», колеса машин топчут могилу трех солдат, закопанных в воронке от бомбы. Их закапывала моя мать, которую немцы заставили отрабатывать трудовую повинность. Людей заставляли хоронить трупы, которых было очень много. А по берегам моря лежали утопленники с погибших кораблей, которых тоже надо было хоронить, и тогда мы прятали тела в бесчисленные воронки от бомб и снарядов.
Водопровода не было, воду брали из колодцев, которых было немного, в основном в Карантине, в самом низу балки. Очереди выстраивались огромные со всего города, так как другой воды не было нигде. Мы – я с дядькой, ремонтируя дом, который после бомбежек пришел в негодность, ходили, чумазые и измазанные, умываться на море, где по всему берегу лежали выброшенные волнами утопленники, раздутые до огромных размеров трупы. Чтобы дойти к воде, мы перешагивали через тела или обходили их стороной – страшно вспоминать, но делать это приходилось. Состояние наше было такое, что от чувства страха и брезгливости не осталось и следа, нужно было жить и выживать, и это было главное.
Даже сегодня на остановке троллейбуса № 6, напротив кинотеатра «Россия», колеса машин топчут могилу трех солдат, закопанных в воронке от бомбы. Их закапывала моя мать, которую немцы заставили отрабатывать трудовую повинность.
Где-то в августе 1942 года немцы вывесили приказ, чтобы все население покинуло километровую зону у берега моря. В случае невыполнения этого приказа – расстрел. Не хотелось покидать дом, а надо, иначе не жить. Некоторым пришлось жить в пещерах, в окопах – кто где смог себе найти место. А делалось это, как потом выяснилось, из осторожности – немцы хотели обезопасить себя на случай высадки десанта к ним в тыл. Когда начало холодать, немцы объявили сбор всех, кто хочет переехать в другие районы Крыма. Собравшихся сажали в вагоны и вывозили к Мелитополю, вот и мы туда попали. Вначале жили в Песчаном, в школе. Затем попали в Мордвиновку, в школу, затем нас из школы выгнали, и мы попали жить к хозяевам в селе. И там мы работали, пока нас не освободили наши войска. Затем мы вернулись в свой Севастополь.
Меня звали работать в цирке, но мама не отпустила
Вобликова (Тягнибеда) Людмила Степановна, 1928 г. р
Родилась 21 сентября 1928 года в Севастополе. Жила в поселке Инкерман с мамой, папой и двумя братьями в своем доме на Зеленой горке. Училась в школе, была октябренком, пионеркой. Война началась, когда закончила пять классов.
Налеты немецких самолетов все время усиливались. На инкерманском заводе шампанских вин сокращалась работа, освобождались штольни. Там открылись школа, клуб, госпиталь, хлебопекарня. Я в тот момент уже училась в шестом классе. В школьном самодеятельном кружке мы выступали перед бойцами, пели, плясали, читали стихи.
Потом стали привозить раненых бойцов. Усилился поток беженцев из разных городов. Помню, как приехал цирк из Одессы. На уроках физкультуры присутствовал артист цирка, предложил мне выступать перед бойцами. Я с дядей Семеном выступала – делали акробатичные номера. Маму стали уговаривать, отпустить меня с цирком: «У вашей дочери Милочки природные данные: внешность, голос и исключительная гибкость, вы приедете на Кавказ и сразу наш цирк найдете». Но мама отказалась, цирк уехал. Стала я выступать с дядей Колей (он был нашим санинструктором) в клубе.
Посещала госпиталь, выводила на прогулку раненых, лежачим давала пить воду, лекарства, читала им их письма, просили спеть – пела. Днем нас с дядей Колей возили к другим бойцам. Последняя поездка на «козлике» (так машину называли бойцы) была, когда выезжали на Лабораторное шоссе. В темное время на фарах машины щитки – поэтому свет идет лишь через узкую щель. В этот момент начались взрывы снарядов, один взорвался недалеко от нас. Но в итоге мы добрались. Там нас накормили и подарили мне вазончик с цветком цикломеной.
Потом школа закрылась, я пошла работать в спецкомбинат № 2. Работали круглосуточно. Постоянные авианалеты и взрывы снарядов. Оказалась я в 13-й штольне. Пахло вином, лежали на полу раненые бойцы. Женщины снимали нижнее белое белье, отдавали его на бинты госпитальному врачу, который оказывал помощь молоденьким ребятам. Папа работал на этом заводе комендантом. Его с семьей до последних дней обещали эвакуировать.
Оказалась я в 13-й штольне. Пахло вином, лежали на полу раненые бойцы. Женщины снимали нижнее белое белье, отдавали его на бинты врачу госпитальному, который оказывал помощь молоденьким ребятам.
Потом пришли немцы. Выгнали нас из штольни. Парень из нашей толпы пытался убежать. Немец выстрелил – он упал, никто к нему даже не подошел. Нас, кто в чем был одет, с двумя часовыми немцы погнали. Привели на луг ниже Зеленой горки, велели всем сидеть. Приезжали две крытых машины, два офицера и четыре солдата. Увозили парней и девочек. Жутко, страшно смотреть и слышать крики дочерей и матерей, солдаты отбивались ногами. Когда с нами остался лишь один часовой, я и мой средний брат рискнули и убежали.
Боялись выстрела в спину, но обошлось.
Ездили к татарам в деревни менять вещи на еду. Вообще, я вспоминаю и думаю: как мы выжили?!
Помню, как приближался день освобождения. Мы прятались уже от наших самолетов. Помню, как румынские солдаты уносили с собой самовары, трюмо, узлы, свертки – забирали у населения то, что им понравилось. Немцы увозили молодежь, увезли и моего старшего брата Сергея.
А нас собрали на Куликово поле, загнали в деревянную конюшню, обнесенную колючей проволокой. Внутри помещения навоз и солома. Нас построили, выдали инструмент для уборки, мы должны были привести все в порядок. Офицер с тросточкой делает обход – к каждому подходит и смотрит. Подошел к среднему моему брату Георгию, который был хромой и ходил с палочкой. Офицер смотрел-смотрел, а потом как дернет за бинт своей тросточкой – я испугалась и смотрю на брата: он от боли скривился, и стоит бледный. Ведь у него и нога, и рука здоровые, а повязка была лишь для того, чтобы его не увезли.
Потом добрались до церкви – там, за алтарной частью, было маленькое убежище, в котором прятал священник молодежь. Там нас накормили, а позже священник сказал, что наши войска уже на подходе к Севастополю и чтобы мы расходились по одному.
Потом мы с мамой убежали из конюшни. Охраняли нас двое часовых, они встречались друг с другом и затем снова расходились в стороны. Мы с мамой пошли воды из крана набрать, часовые разошлись, и мы вышли за калитку. Потом ползли по канаве для стока воды. Проехали три машины большие открытые с немцами, но не заметили нас. Мы вышли на дорогу – там бежала лошадка, везла бричку с погонщиком навстречу нам.
Потом добрались до церкви – там, за алтарной частью, было маленькое убежище, в котором прятал священник молодежь. Там нас накормили, а позже священник сказал, что наши войска уже на подходе к Севастополю и чтобы мы расходились по одному.
Помню, как пришла наша армия – брат привел молоденького солдатика с красными матерчатыми погонами. Его мы все обнимали, целовали, от радости рыдали. Солдатик говорил: «Идите по домам, наши в Севастополе, отпустите меня – я должен своих догонять». Мы пошли домой. Наши солдаты останавливали нас время от времени для проверки документов. А на мысе Херсонес еще продолжалось сражение.
Севастопольские женщины выкупали у немцев военнопленных…
Густылева Светлана Николаевна, 1926 г. р
До войны мой папа был фотографом, кустарем-одиночкой, работал на Приморском и Историческом бульварах. Мама была учителем в школе глухонемых. Помню, что папа исправно платил налоги. Семья была небогатая, налоги были приличными. Но от сезона к сезону мы как-то держались.
Папа был глухонемым. Работал со своей сестрой, которая хорошо слышала, поэтому тандем держался «на плаву». Будочка фотографа стояла то на Приморском бульваре под мостиком, то на Историческом бульваре с правой стороны от памятника Тотлебену. Я знаю, что серьезная проблема в нашей семье была еще и потому, что с апреля по ноябрь заработок был хорошим, а в остальное время – зимой и осенью – работы не было, хотя налоги приходилось платить. Насколько я помню, финансовый инспектор сам приходил по месту работы отца. Как-то я оказалась случайным свидетелем того, как отец с сестрой распределяли доходы. Это за аренду места, это за оплату материала, это сторожу, который караулит будку. Заработок приходилось делить на две семьи, так как сестры жили отдельно. Поэтому нам жилось непросто.
Вообще же, наша семья приехала в Севастополь еще в 1911 году – отец с сестрами перебрался сюда из Сибири – из Томской или из Иркутской области. До того они объездили всю Россию. Сначала приехали на Кавказ, потом перебрались в Ялту. А там им рассказали о том, что есть замечательное место – Севастополь. И папа потом всю жизнь вспоминал, как его поразили цветущие здесь в декабре розы.
До революции семья жилье снимала, а потом нам дали квартиру, которая находилась на нынешней улице Нахимова. До войны она носила имя Фрунзе. Дом, как помню, стоял рядом с современным Институтом усовершенствования учителей. Отец вспоминал, как в Гражданскую часто менялась власть – в город входили то немцы, то англичане. Хорошо помню, как на Историческом бульваре на всех деревьях и на столбах раскачивались повешенные русские офицеры, а папа рассказывал, что висели офицеры и по кольцу города. Отец, несмотря на то что был малограмотным, очень любил книги, поэтому старался выкраивать средства, чтобы выкупать подписные издания. Так у нас появились в доме томики Тургенева, Толстого и других классиков.
Прежде чем враг вошел в Севастополь, пришлось учиться в так называемой «подземной школе», которая находилась по адресу: ул. Ленина, дом 58, рядом с памятником мужеству и стойкости героев-комсомольцев. Школа носила 13-й номер и находилась в бомбоубежище возле территории нынешнего сквера, где в скате горы был подвал.
Работа фотографа была, конечно же, сезонной. Поэтому в зимние месяцы мы жили на то, что зарабатывала мама. Она работала в школе глухонемых, которая находилась на улице Большая Морская, если смотреть на главпочтамт – здание с правой стороны. А напротив нынешнего кинотеатра «Победа» был клуб глухонемых, где находился ликбез. Мама до войны была даже членом райсовета. Она еще в детстве потеряла слух, хотя все понимала по губам и прекрасно говорила. Тем не менее я ходила с ней и помогала, когда нужно было решать какие-то проблемы.
Как только я закончила шесть классов, началась война. Прежде чем враг вошел в Севастополь, пришлось учиться в так называемой «подземной школе», которая находилась по адресу: ул. Ленина, дом 58, рядом с памятником мужеству и стойкости героев-комсомольцев. Школа носила 13-й номер и находилась в бомбоубежище возле территории нынешнего сквера, где в скате горы был подвал.
В начале июля 1942 года в Севастополь стали входить немцы. Помню, как к Хрусталке[28] ползли танки. Чужая речь зазвучала на набережной Корнилова – она тогда называлась улицей Энгельса.
Перед сдачей города мы перестали ходить в убежище, даже когда город усиленно бомбили. Наша квартира находилась на первом этаже здания, а сам дом был трехэтажным. И когда однажды немцы сбросили целую серию бомб, одна угодила в крышу третьего этажа. Последствия взрыва были ужасны. В нашей квартире оторвало массивную ставню и бросило на кровать, где я лежала. Лишь чудо тогда уберегло меня от смерти. Ставня упала на обе спинки кровати, и я очутилась под ней. Так я осталась жива, хотя выбираться пришлось из-под кусков штукатурки. Мы выбежали на улицу, дом сгорел, и никаких вещей спасти не удалось.
Началась жизнь в оккупации. Она оказалась, конечно же, несладкой. Во-первых, негде было жить. Мы с папой ходили в учебный отряд, тащили оттуда уцелевшие бревна, укрепляли их на уцелевших стенах, туда же затаскивали листья железа. Такой дом стал на первых порах нашим пристанищем. А потом наверху, в массиве, который сегодня расположен над проспектом Героев Севастополя – мы его называли «Бомборы», – я нашла пустой флигелек. И мы перебрались туда.
Другая беда – пришел голод. Я в компании со своими школьными друзьями ходила нищенствовать. Мы переезжали на Северную сторону и шли пешком аж до Николаевки. Очень хотелось есть. Мама с папой пухли от голода, поэтому приходилось просить милостыню. У кого осталось барахло, меняли его у татар на продукты. У нас не было ничего.
Хорошо помню, как севастопольские женщины выкупали у немцев военнопленных. Лагерь для них находился на Матюшенко. Отдавали кто сережки, кто кольцо, тут же придумывали истории, мол, это мой брат или это мой муж. Стояла страшная жара. Лагерь расположился на пустыре. Пленные, многие из которых были ранены, просто лежали или сидели на земле. Мы – ребята старались подносить воду в ведрах. Однажды комиссар передал записку – «воды». И мы, ребята, наполнив ведра, отправились туда. Увидели огромную площадь, заполненную людьми.
Пришел голод. Я в компании со своими школьными друзьями ходила нищенствовать. Мы переезжали на Северную сторону и шли пешком аж до Николаевки. Очень хотелось есть. Мама с папой пухли от голода, поэтому приходилось просить милостыню.
Немцы расстреливали раненых сколько хотели. Мы нашли политрука, которого знали еще по госпиталю. Было страшно, потому что мы несли воду конкретным людям, но пить хотели все. Помню, что находились и подонки. Кое-кто говорил:
«Пан офицер, вот этот „юде“». И тогда людей клали лицом вниз в воронки и расстреливали. Я запомнила, что, когда это происходило рядом, комиссар заслонял мое лицо, чтобы я не видела казни.
Оккупация – страшная вещь. Мы часто наблюдали, как угоняемые в Германию грузились в вагоны. Мы старались быть подальше от зачисток, но однажды я все-таки попала. Шли татарские каратели – они проходили и забирали всех, кто прятался. Нас отвели в здание бывшего райкома на Пушкинской, где сейчас находится суд. Там немцы устроили комендатуру. Меня туда завели в толпе подростков, я была рослая, крупная, лицо было исцарапано. Перед этим мы возвращались с Северной стороны, и на месте церкви, где потом построили 9-ю школу, я потеряла сознание и упала. Сидела комиссия – полицейский, врач, переводчик-немец. Русская врач мне говорит: «Что у вас с лицом?» Я говорю: «Упала». Она увидела, что переводчик отвлекся, и сказала: «У вас же падучая», – подсказывая мне, что нужно сказать. Поэтому меня отбраковали и не взяли в Германию. И я помню эту женщину всю свою жизнь.
Хорошо помню, как севастопольские женщины выкупали у немцев военнопленных. Лагерь для них находился на Матюшенко. Отдавали кто сережки, кто кольцо, тут же придумывали истории, мол, это мой брат или это мой муж.
Сидела комиссия – полицейский, врач, переводчик-немец.
Русская врач мне говорит:
«Что у вас с лицом?» Я говорю: «Упала». Она увидела, что переводчик отвлекся, и сказала:
«У вас же падучая», – подсказывая мне, что нужно сказать. Поэтому меня отбраковали и не взяли в Германию. И я помню эту женщину всю свою жизнь.
Потом севастопольцев начали загонять в вагоны и увозить по крымским и украинским районам. И мы с мамой попали в такой вагон, который должен был ехать на Украину. Я удрала и маму вытащила. Моя мама жила под Запорожьем, чтобы туда добраться, я нашла какой-то огромный пустой состав. Был декабрь, шел дождь, хлестал ветер. Мы с мамой залезли в вагон – стены были в нем только боковые – и так доехали до Запорожья. Там поезд остановился и нас задержала полиция. Помню, как полицейские перевели нас в каптерку – на мне был слой замерзшего льда. «Откуда?» – «Из Севастополя». Наверное, во время войны это было ключевое слово. Полицейские как-то смягчились, позвали ближе сесть к печке и дали кружку чего-то горячего. Я рассказала, что у нас родственники в Васильевске. Утром шел поезд, и они нас посадили в него, предупредив, что везде действует комендантский час. Доехав до нужной станции, мы четыре километра шли пешком. Нашли родных. Оказалось, что, когда бомбили Днепрогэс, бомба упала и на Васильевск, – тетю ранило, и она умерла. А муж остался жив. Он сказал: «Будем выживать вместе».
Людей клали лицом вниз в воронки и расстреливали.
Я запомнила, что, когда это происходило рядом, комиссар заслонял мое лицо, чтобы я не видела казни.
Почему немцы старались выслать население из Севастополя? Это понятно. Они были обозлены на ожесточенное сопротивление. Старались наказать людей, которые не покорились. Голод был страшный. Начались повальные болезни. Управа давала только по 300 граммов кукурузного хлеба, но этого не хватало. Мы зарабатывали тем, что ходили с мамой копать огороды, выполняли любую работу, лишь бы продержаться. А когда освободили Польшу, появилась возможность покупать фотоматериалы, и папа снова начал работать.
После войны, в 1948 году, я вышла замуж, у меня родилась дочь. Но родители решили, что я обязательно должна получить образование, – так я стала учителем русского языка и литературы, хотя всю жизнь мечтала получить инженерное образование. Но тем, кто оказался на оккупированной территории, дорога в эту профессию тогда была закрыта. В 1955 году мы вернулись в Севастополь. В школе я проработала 53 года. Ушла на пенсию только в феврале 2006 года, накануне своего 80-летия.
Мы выстирали пять тонн окровавленного белья
Джепарова (Бурнашева) Мастюра Валиевна, 1928 г. р
Я родилась в 1928 году в Севастополе, в семье Вене Бурнашева и Инелеевой Хадыче Шарифовны. Всего в семье было четверо детей.
Перед войной и во время обороны Севастополя мы жили в частном доме по улице Лабораторной, 67,– теперь это улица Подольцева, 89. С первых дней обороны мой отец был призван в армию и пропал без вести на передовой. Старший брат работал на Морзаводе, изготавливал втулки для «катюш». Несмотря на бронь, ушел на передовую, но был отозван как стоящий специалист и восстановлен на своем рабочем месте. Он работал в инкерманских штольнях, был на казарменном положении. Только раз в месяц на пару часов его привозили повидаться с семьей. А все наши соседи и я с первого дня обороны по призыву председателя уличного комитета Поповой Надежды Ильиничны ходили копать окопы.
Директор завода шампанских вин привез нам технический шампанский сахар, похожий на длинненькие хрусталики. Хорошо, что у нас во дворе был колодец: наберешь водички, бросишь туда сахар, и так сладко кажется. Сахару всем перепадало.
В нашем дворе был большой подвал, в него могла въехать грузовая машина. При бомбежке там прятались люди со всей округи, даже стекались жители с улиц Ленина и Карла Маркса. По соседству с нами приютилась семья директора завода шампанских вин. Директор заботился не только о своей семье, он старался оказать посильную помощь всем остро нуждающимся. Однажды привез нам технический шампанский сахар, похожий на длинненькие хрусталики. Хорошо, что у нас во дворе был колодец: наберешь водички, бросишь туда сахар, и так сладко кажется. Сахару всем перепадало. Директор погиб в инкерманских штольнях 30 июня, когда наши при отступлении взорвали штольни вместе с людьми. Его семья уцелела, а кормильца так нелепо не стало.
Когда спустишься с нашей горочки на Лабораторное шоссе, то через дорогу видно воинскую часть. Нас приглашали помогать варить пищу из концентратов для бойцов. Походную кухню на лошадях возили на передовую, даже до 25-й батареи. Бойцам мы помогали, а сами недоедали.
Из части в наш двор приезжали большие котлы для стирки белья фронтовикам. Мы таскали воду из колодца, а зимой собирали снег. Когда фугасные бомбы разрушали дома, мы бегали на развалины в поисках дров.
Когда исполнилось сорок лет обороны Севастополя, по радио выступил замечательный поэт Роберт Рождественский. Он рассказал, что во время обороны города на улице Лабораторной была создана бригада женщин, стиравших белье для раненых. И он сказал, что возглавляла эту бригаду наша мама. Как мы были счастливы услышать это.
Задрав голову, мы кричали: «Дяденька матрос! Покорми нас! Отцы и братья на фронте!»
С корабля отвечали: «Забирайтесь на палубу. Наливайте еду в свою посуду».
А еще он сказал, что молодые патриоты – то есть мы, четырнадцатилетние ребята со двора дома № 67 по улице Лабораторной, – выстирали пять тонн окровавленного белья!
Сами же мы были грязные, вшивые, голодные. Когда военные корабли заходили в Южную бухту под прикрытием дымовой завесы, мы собирались стаей по 15–20 человек и бежали под бомбежкой через железнодорожное полотно к клубу. Там к пристани подходил крейсер «Красный Крым». Задрав голову, мы кричали: «Дяденька матрос! Покорми нас! Отцы и братья на фронте!» С корабля отвечали: «Забирайтесь на палубу. Наливайте еду в свою посуду».
А потом, когда донесем до подвала харчи, они покроются песком, ведь мы преодолевали дорогу смерти от моря до горки под прицелом пикирующих немецких самолетов. И каждый раз мы теряли ребят.
Еще мы помогали выхаживать раненых. С гордостью могу сказать, что у нас не умер ни один раненый.
При оккупации города немцами мы помогали партизанам. Рвали съедобный корень барамбульки и из него варили похлебку. После войны на нашей горке уцелело только три дома, среди которых был полуразрушенный наш. В этом доме я живу до сих пор. Из всей семьи сейчас осталась я одна.
Не пойти в школу считалось трусостью
Добровольская Светлана Порфирьевна, 02.07.1927 г. р
21 июня 1941 года, в субботу, объявили конец занятий, моряки возвращались домой, весь город засиял огнями. А в ночь на воскресенье все были разбужены страшным грохотом орудий, стрелявших по самолетам. Один из них загорелся и начал падать с черным шлейфом дыма. Прогремел взрыв – это на улице Подгорной упала тонная мина, сброшенная с самолета, она попала в жилой дом, погибли люди.
Но слово «война» никто не произнес, настолько оно было чудовищно. Только утром после обращения по радио слово «война» вошло в нашу жизнь на долгих четыре года. Жуткое это было время.
Вскоре нас, школьников, собрали в Доме пионеров, он тогда находился в караимской кеннасе, в кинотеатре «Ударник» на Большой Морской (он сейчас называется «Победа»). Пришли и школьники, и дошкольники. Моя двоюродная сестра Тамара Спичак привела за руку брата Витю, я – Славика. В этом дворе стало тесно. Перед толпой с пламенной речью выступила Антонина Алексеевна Сирина – секретарь горкома партии, она объявила, что у населения необходимо собрать бутылки, которые будут заполнять специальной горючей смесью и станут использовать как противотанковые гранаты.
Определили место через дорогу на Большой Морской, куда их складывать. Мы сразу же нашли тачки, детские коляски. Распределили, кто на какую улицу и в какой район идет. Участвовали все ребята всех школ и дворов, большие и маленькие. Старшей была Лида Шахова из школы № 2. Наладили учет и всей большой командой собрали 18 000 бутылок. Потом нам привезли железные бочки с водой и чистый песок. Все вместе мы их тщательно вымыли, малышня нам в этом с удовольствием помогала. Редакция газеты «Красный черноморец» наш актив сфотографировала и этот снимок поместила в газете.
Опаздывать в школу нельзя, ведь если опоздать, то нужно пройти через три класса, как через строй, – с извинениями и разрешениями: классы были разделены фанерными перегородками. А не пойти в школу считалось трусостью. В любую бомбежку или артобстрел мы бежали в свой класс.
30 октября 1941 года береговая батарея № 54 открыла огонь по фашистским танкам, с этого дня началась оборона Севастополя.
А мы продолжали учиться в школе № 2, она тогда находилась по улице Большой Морской (тогда это была улица Карла Маркса) в подвале Дома культуры Морзавода. Вместо него теперь магазин «Черноморочка» с мемориальной доской в память о той школе осажденного Севастополя.
Началось светопреставление, которое длилось очень долго. Огнем артиллерии сметались курганы, высоты, дома. Казалось, ничто не уцелеет в этом бушующем вихре огня и железа, но черноморцы выстояли.
В школу мы ходили и в эти дни.
В тот подвал-школу мы бегали, а не ходили, так как в небе постоянно волна за волной шли вражеские самолеты и совсем неприцельно на город сбрасывали бомбы. Мы научились распознавать, в какую сторону они полетят и нужно ли бежать или нужно подождать, когда самолеты пролетят. Опаздывать в школу нельзя, ведь если опоздать, то нужно пройти через три класса, как через строй, – с извинениями и разрешениями: классы были разделены фанерными перегородками. А не пойти в школу считалось трусостью.
В любую бомбежку или артобстрел мы бежали в свой класс. Я училась в седьмом «А». Английский преподавала учительница второй школы Александра Григорьевна Рацуцкая, наша любимая «Тыча». Русский преподавала наша боевая «огненная» русачка Ворошилова. Математику нам преподавали не наши учителя, а из первой школы, историю Михаил Михайлович Шиманский из ОНО. Ученики тоже были из разных школ, но большинство – из второй.
17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя. Утром на рассвете офицеры СС отобрали у солдат шинели и объявили, что их отдадут только в Севастополе. Немцы знали, что их солдаты до ужаса боятся наших матросов, называя их «черной смертью», «черной тучей» и «черными дьяволами».
И вот началось светопреставление, которое длилось очень долго. Огнем артиллерии сметались курганы, высоты, дома. Казалось, ничто не уцелеет в этом бушующем вихре огня и железа, но черноморцы выстояли. В школу мы ходили и в эти дни.
Как-то я бежала и заскочила в соседний подъезд переждать, когда пролетят самолеты, и услышала во дворе взрыв гранаты. Пошла посмотреть, что случилось. Увидела во дворе пять убитых мальчишек без голов, среди них был Жан Миклушев из нашего класса, он собрал малышей и спешил им показать, как разрядить гранату-лимонку. Рядом лежал его портфель. Все они к моменту взрыва стояли на коленях, наклонив головы, чтобы лучше видеть, где и что нужно отсоединить. В школу я в итоге опоздала. Вошла в класс и рассказала о гибели нашего Жана. Сейчас страшно об этом вспоминать. А тогда поведала с мельчайшими подробностями.
Следующий урок был английский и немецкий в одном классе. Две колонны парт «англичан», две – «немцев». Вошли две учительницы, начался урок и одновременно налет. Из-за грохота не было слышно обеих учительниц.
Через дорогу от школы был магазин, там очередь за хлебом, и в середину толпы упала бомба. Со стороны улицы взрывной волной были выбиты щиты нашего подвала. Осколки, камни, пыль, грязь – все полетело в класс, мы сели под парты, обе учительницы упали на пол. Наша Александра Григорьевна поднялась сама. Вторая учительница продолжала лежать. Ее подняли, дали воды. Мы всем классом побежали на улицу в надежде помочь пострадавшим. Все эти месяцы мы видели много раненых, искалеченных, убитых. Но такое зрелище предстало впервые – помогать было некому. Даже рядом растущие деревья были в крови. На ветках что-то повисло, на асфальте лежало, текло. Кто-то крикнул, что и напротив почты в дом угодила такая же тонная бомба. Все помчались туда. Я рядом жила, поэтому бежала первая. Дом был не мой – 36-й. Его разнесло до основания вместе с подвалом-убежищем.
За день щиты восстановили, электроэнергию починили, в классах навели порядок. Нам тогда было по 13–15 лет, и все воспринималось по максимуму. Утром пришли в школу такие же возбужденные. В один день на детскую психику такая огромная нагрузка. Всем было не по себе. В класс первой вошла наша «Тыча». Все «англичане» встали, следом «немка», ее ученики продолжали сидеть, не ответив на приветствие. Учительница возмутилась, начала их ругать по-немецки. По всей вероятности, и у нас нервы после вчерашнего были на пределе.
Мы стоим, они сидят. Мы слышим непонятную и ненавистную немецкую речь, вдруг клич: «Бей немцев!» Все «англичане» сорвались со своих мест, ринулись бить своих же товарищей, так сказать «немцев». Что могли сделать с этой буйной ватагой две слабые женщины-учительницы? Они начали кричать: «Помогите!» Из соседнего класса прибежали старшеклассники и тоже вступили в драку, пытаясь нас разнять. Кто-то выключил свет, все сели на свои места. Включили электричество, картина была неприглядная.
Пришла директор школы Лидия Владимировна Ткаченко. Всех выгнали из здания, на второй день мы помирились с «немцами» около школы и все вместе вошли в класс. А в классе сидели фронтовики: два офицера и три матроса. Начался разговор о нашем недостойном поведении. Они говорили, что их отозвали из окопов, там их товарищи сейчас, защищая нас, гибнут, а они прибыли нас усмирять. Рассказывали, как 17 декабря, когда начался второй штурм и превосходящие силы противника прорвали нашу оборону на Мекензиевых горах, они в решающий момент надели бескозырки, сняв каски, и пошли в рукопашный бой. Немцы отступили с большими потерями. Эсэсовцам, которые у своих солдат отобрали шинели, некому было их вернуть. Наши гости были с гитарой и спели нам гимн морской пехоты – помню его до сих пор.
Мы были очень благодарны Лидии Владимировне, что она нас не выгнала никуда, как обещала вчера.
Совместных уроков английского и немецкого больше не было. Расписание изменили. На немецком мы шли на 54-й завод делать деревянные коробочки для противопехотных мин. К нашему приходу на железном столе лежали заготовки, гвоздики и молотки. Сначала больше били по пальцам, но вскорости научились и оставляли целую гору коробочек, которые отправляли в штольни, где их начиняли взрывчаткой и соединительным шнуром.
Убежища на заводе не было, поэтому при близкой бомбежке нужно было влезать под стол. Под ним пытались быть бесстрашными храбрецами, но сердце не раз уходило в пятки. Долго бегали в школу – до 1 мая. Перед ним объявили, что, согласно указу из Москвы, осажденные города экзаменов не сдают. Мы ликовали, безмерно были счастливы, что живем в осажденном городе. В дневниках за подписью директора школы № 2 Ткаченко сделали запись: «Переведена в восьмой класс». Нас отпустили на каникулы.
На наших глазах расстреляли тяжелораненых бойцов
Долгополова (Романюта) Анна Михайловна, 1935 г. р
Нашу семью война застала в Балаклаве. Отец работал водителем в водолазной школе ЭПРОН, мама инспектором в райисполкоме.
Мой папа – Михаил Михайлович, мама – Александра Николаевна, а также трехлетний брат Валентин и я жили в Балаклаве. В начале войны отец был призван в армию и первые годы служил в 61-м зенитно-артиллерийском полку, который участвовал в обороне Севастополя. Тогда же – в июне 1941 года – мы переехали в Севастополь, где жили в доме по улице Большая Морская, рядом с главпочтамтом. Дом был двухэтажный, с большой деревянной верандой и подвалом, в который мы прятались при налетах немецких самолетов. Взрослые по графику несли дежурства на крышах домов, тушили зажигательные бомбы.
Однажды при налете бомба попала в наш дом. Была разрушена веранда с лестницей и часть дома. Нас в подвале откопали, но попасть в квартиру мы уже не смогли.
Однажды при налете бомба попала в наш дом. Была разрушена веранда с лестницей и часть дома. Нас в подвале откопали, но попасть в квартиру мы уже не смогли. Жильцы где-то раздобыли пожарную лестницу, и по ней поднялись на второй этаж, забрали некоторые вещи и еду. Так мы остались без крыши над головой и начали скитаться по уцелевшим подвалам, часто находили укрытие в соборе через дорогу от нашего бывшего дома.
Участились налеты на город, самолеты роем кружили в небе. Это было что-то ужасное, одни самолеты улетали, и тут же на их место прилетали другие. Бомбы сыпались на нас беспрерывно, как листья с деревьев, а после налета на этих обгорелых деревьях висели части человеческих тел, их внутренности… Но город жил, и оставшиеся в живых люди в небольшие промежутки между бомбежками вылезали из укрытий, разбирали завалы, бродили в поисках еды, так как дети все время просили кушать.
Однажды в наш окоп попал снаряд, но он не разорвался, а на наш вопрос, что это было, мама ответила: «Зайчик».
Тогда мама приняла решение и пошла с нами – двумя детьми шести и трех лет – на передовую в окопы, где она помогала раненым. Мы там питались и жили в окопе. Однажды в наш окоп попал снаряд, но он не разорвался, а на наш вопрос, что это было, мама ответила: «Зайчик».
Осажденный город жил единой семьей, помогая друг другу в минуты горя и отчаяния. Гражданское население помогало военным, а они по мере возможностей делились с населением продуктами, оказывали помощь в похоронах, в расчистке заваленных подвалов и других укрытий.
Когда армия отступила, мы и тяжелораненые военные остались в окопе. Когда пришли немцы, они на наших глазах расстреляли тяжелораненых бойцов, а нас вместе с другими жителями города собрали на привокзальной площади, где мы жили два месяца.
Когда армия отступила, мы и тяжелораненые военные остались в окопе.
Когда пришли немцы, они на наших глазах расстреляли тяжелораненых бойцов, а нас вместе с другими жителями города собрали на привокзальной площади, где мы жили два месяца. В поисках еды мама с нами ходила по Севастополю, и мы видели, как немцы в воронки от авиабомб сбрасывали живых людей и утюжили их танками. После одного из таких походов, когда мы чудом спаслись от расстрела, мы больше по городу не ходили. От голода люди начали умирать, и тогда немцы товарными поездами стали вывозить людей из города. Вывезли и нас, опухших от голода, в Мелитополь, где мы жили в силосной яме, и, дождавшись прихода Красной армии в 1944 году, вернулись в наш Севастополь. Родители были награждены медалями за оборону Севастополя.
Все восемь месяцев осады я учила стихи
Долгушева Зоя Ильинична, 1930 г. р
22 июня 1941 года, около четырех часов утра мы с родителями (папа – Морозов Илья Александрович, мама – Вера Игнатьевна и я – одиннадцатилетняя Зоя) проснулись от звуков стрельбы зенитных пушек. Была жара, и мы спали на полу у окна, которое выходило на запад, небо было все в разрывах, много трассирующих снарядов, лучей прожекторов, которые метались по небу. И вдруг один из них поймал самолет, другой тоже. И в пересечениях лучей летел освещенный самолет, и по нему сразу все зенитки стали стрелять. Мы, конечно, решили, что это учения (их тогда проводили часто). Но при учениях самолёт тянул за собой мишень, так называемую «колбасу», и уже по ней стреляли. А тут вдруг – по самолёту. Мы очень удивились.
Утром я вышла на улицу, где мальчишки уже хвастались разными красивыми осколками снарядов. Я тоже хотела найти, бродила по Корабельной, но не нашла. А уже в двенадцать часов стали люди кричать, что по репродуктору что-то передают, надо к нему бежать. Репродуктор был на высоком столбе на улице Горького, вблизи улицы Розы Люксембург, с восточной стороны. И там я услышала, что началась война. Но как-то все это приняли спокойно, или мне показалось. Днем узнали о взрывах бомб на улице Подгорной и у Приморского бульвара.
Потом стали быстро организовывать санитарные дружины из неработающих женщин, маму тоже включили. Папа работал на авиасборочном заводе № 45 на восточной стороне Килен-балки. Стали составлять списки, решать, куда детей вывезти из города, ибо его будут бомбить. Детей нашего завода было решено отправить в село Альма (теперь Почтовое). Мне собрали сумку с бельем. И нас без родителей – человек двадцать – привезли в это село. Поселили в школе, на полу были матрацы, набитые соломой. Не помню, какие были подушки. Во дворе школы была построена плита, на которой готовили нам еду. Кормили хорошо. Во дворе был и умывальник. Но где-то через неделю стали приезжать мамы и забирать детишек. Моя мама приехала в тот день, когда после прошедшего ливня река Бельбек вышла из берегов. Мы шли к станции, я брела по колено в воде. Я была маленького роста.
Папа с утра до ночи был на заводе, я на хозяйстве была одна. Кажется, карточек ещё не было, и приходилось бегать по разным магазинам и покупать всё, что попадется. Вдруг с прилавков всё пропало. Помню лето, жара, я стояла в очереди в магазине в двухэтажном доме розового цвета, построенном Артремзаводом перед войной, на углу улицы Розы Люксембург и 25-го Октября. Купила примерно три килограмма муки. Было тяжело, и этот мешочек поставили мне на плечо. И вдруг – налет и бомбежка. Спрятаться негде. Я просто стала около одного дома, муку поставила на подоконник, чтобы удобно было взять на плечо потом, и смотрела, как летали немецкие самолеты и с них сбрасывались бомбы.
1 сентября я пошла в школу № 12, которая находилась в Ушаковой балке. Она была построена из евпаторийского ракушечника, не оштукатурена, желтые камни. Школа открылась в 1938 году, и я сразу туда пошла в первый класс. Так что 1 сентября 1941 года я пошла уже в четвертый класс. Нас было, помнится, 42 ученика. Учительница была Шкиптан Лидия Петровна. Тогда, кроме основных предметов, нам ввели урок военного дела. Нас учили, что есть газы: иприт, люизит (что я запомнила), учили надевать противогаз. Стали рассказывать (учитель – военный), с кем воюем, чтобы не было паники. Потом вернулась мама. У нас в классе было, как я помню, двое детей офицеров. Это Тарумов Эдик, его отец был врачом в военно-морском госпитале. Они эвакуировались на теплоходе «Армения», и все погибли, когда его потопили. И еще Гаянэ Дошоян (ее отец – армянин), они тоже эвакуировались. Мы проучились всего два месяца, до 30 октября. У меня сохранилось фото нашего 2 «А» класса в мае 1940 года, только с другой учительницей, ее имя я не помню. Наша же Лидия Петровна на год ушла в железнодорожную школу на вокзале. Еще у меня была фотография всех учителей нашей школы, только я ее отдала в Музей героической обороны Севастополя на Историческом бульваре, но они мне документа об этом не дали.
Мы снимали квартиру у хозяйки по улице Карла Либкнехта, № 35, это третий дом от улицы Горького. Вся улица в нашем квартале была из одноэтажных домов. И только по углам с улицей Рабочей было два двухэтажных дома. С нашей стороны в доме № 27 располагался районный отдел милиции. Там же и жили с семьями многие милиционеры, и у них был подвал. На Корабельной стороне не было оборудованного бомбоубежища для населения. Только по улице Карла Либкнехта до войны был построен один четырехэтажный дом № 101, где в подвале было бомбоубежище, но там был продовольственный магазин, где мы отоваривали карточки. Я не помню, когда ввели их, ибо этим занимались в то время родители.
В ночь с 31 октября на 1 ноября, когда начался первый штурм города, была очень сильная бомбежка. Большая бомба попала прямо на дом № 27, погибли все, кто там прятался. Было очень страшно: сильный грохот, рядом пожары, крики. Папа решил идти всем в Инкерман и прятаться там в штольнях. Мы ночью в темноте шли мимо Ушаковой балки, через Килен-балку, Троицкую и к рассвету добрались туда. Перед входом в штольню была толстая стена, которая защищала вход от прямых выстрелов. В первую и вторую штольни, если считать от моря, нас не впустили, сказали, что нет мест. В третьей сказали, чтобы заходили, места есть, и мы вошли. В штольне был полумрак. Высоко вверху горела электрическая лампочка. Вся штольня как бы состояла из комнат, то есть справа и слева были такие стенки, которые делили всю штольню на секции. И во всех этих секциях были трехэтажные деревянные нары, на которых спали люди. Везде был виден скарб, внизу стояли ведра, горшки, примусы. Мы шли и шли, а нам говорили, чтобы шли дальше, там есть места. Но ведь мы пришли со свежего воздуха, а там было очень душно и нехорошо пахло. Я была маленького роста, а папа – высокий, он стал задыхаться. И тогда сказал нам: «Пошли домой. Будем умирать дома». Мы вернулись.
Папа уже на завод работать не пошел, а перешел полностью на инвалидность. Он из деревни, мастер на все руки. Тогда всех учили, как именно надо копать во дворе такие «щели», то есть узкие окопы Г-образные. И под руководством папы, вместе с двумя хозяевами братьями Константиновыми – пенсионерами Дмитрием Васильевичем и Владимиром Васильевичем, они вырыли такую «щель». У хозяев были какие-то дрова, сделали накат, насыпали побольше земли, деревянную дверь. На дне – настил из досок. И папа (я этого не знала) в углу выкопал глубокую яму и там спрятал самые ценные вещи и швейную машинку. И в этой «щели» мы просидели до 1 июля 1942 года.
Вся штольня как бы состояла из комнат, справа и слева были стенки, которые делили штольню на секции. И во всех этих секциях были трехэтажные деревянные нары, на которых спали люди. Везде был виден скарб, внизу стояли ведра, горшки, примусы. Мы шли и шли, а нам говорили, чтобы шли дальше, там есть места.
Дело в том, что немцы бомбили ежедневно, но с перерывами. От завтрака до обеда, потом от обеда до ужина. Ночью были бомбежки только во время штурмов. Тогда бомбили все время и обстреливали из орудий. Ближе к осени по небу летали только немецкие самолеты, у них особый был гул. Мы, дети, всегда знали, когда немецкие летели, когда наши. С немецкими самолетами боролись зенитные орудия. Зенитная батарея (видимо, вся часть) находилась на улице Будищева на Воронцовой горе. Это была часть, обнесенная высоким забором, за которым были двухэтажные казармы. Там жили и рядовые, и командный состав с семьями в квартирах. Так было до войны. А потом зенитные орудия уже стреляли и из других мест.
После первого штурма начались большие перебои с водой и электричеством. Воду для готовки и питья брали от колонки, которая находилась посреди улицы Горького, между улицами Карла Либкнехта и Николая Островского. Это был маленький домик. С одной стороны (северной) окошечко с трубой, через которую лилась вода, с другой – дверь. В будочке каменной сидела женщина, у нее в будке был кран, мы клали ей в окошечко копеечку, она наливала нам ведро воды. Так как я была маленькая, то за одну копейку ходила два раза и брала всякий раз по полведра. Улица Горького была не вымощена, просто камни – известняк. Когда маме надо было белить, папа брал молоток, шел туда, отбивал кусочки известняка, клали на уголь, горящий в печке, и получалась нужная известь, которую потом гасили водой. Трамвай первые месяцы ходил к вокзалу, а в ноябре движение прекратилось. Сначала временно, а потом, когда пути были разбомблены, то насовсем.
Дело в том, что немцы бомбили ежедневно, но с перерывами. От завтрака до обеда, потом от обеда до ужина. Ночью были бомбежки только во время штурмов. Тогда бомбили все время и обстреливали из орудий. Ближе к осени по небу летали только немецкие самолеты, у них особый был гул. Мы, дети, всегда знали, когда немецкие летели, когда наши.
У нас во дворе был глубокий колодец, вода в котором была слегка солоноватая. Этой водой мылись, стирали, хозяева поливали сад, огород. После первого штурма, когда уже водопровод не работал, люди со всей Корабельной приходили за водой к нам во двор. Приезжали и из воинских частей с бочкой и лошадью. Набирали воду, им уступали без очереди, бойцы оставляли маме грязное белье на стирку и мыло. Ночью обычно бомбежек не было. Воду так выбирали, что уже шла грязная какая-то, но люди все равно вычерпывали ее. А днем, когда не было налетов (один-два часа была тишина), мама с папой набирали из колодца чистую воду, на ней мама готовила, стирала, днем сушила. А в следующий приезд бойцы забирали чистое белье и оставляли грязное. Я не помню, чтобы что-то за труд давали. Может, я просто не знала. Тогда считалось, что это вклад в оборону, в Победу. Никто не роптал, все терпели (после войны новые хозяева превратили колодец в сточную канаву, стали сливать туда все подряд).
У наших хозяев, чуть впереди нашего флигеля (а он был длинный: две однокомнатные квартиры и одна двухкомнатная, мы занимали крайнюю однокомнатную квартиру), была небольшая летняя кухня. Я не помню, пользовались ли ею когда-нибудь. Она была завалена старыми подшивками журнала «Нива» и разными небольшими книжечками в мягком переплете – это приложения к «Ниве». И вот все время, когда я не училась, я пропадала там, брала чтение и – домой. Хозяева не возражали. Мои родители тоже очень много тогда читали. И я все восемь месяцев осады, кроме чтения, учила на память стихи. Великое множество. Многие я помню и до сих пор: все сказки А. С. Пушкина, поэмы Некрасова, Майкова, Фета и др. Тогда я прочла и запомнила две книги: «При дворе Тишайшего» (о правлении Алексея Михайловича) и «Колония Росс» – это о русской колонии на Аляске (теперешняя знаменитая рок-опера «Юнона и Авось»). Я все это знала с детства. Конечно, авторов я не помню. Много других исторических и детских книг я тогда прочла. Это мне помогало в учебе в дальнейшем. Я знала все басни Крылова и так далее. Очень сильно развила тогда память.
Я все восемь месяцев осады, кроме чтения, учила на память стихи. Великое множество. Многие я помню и до сих пор: все сказки Пушкина, поэмы Некрасова, Майкова, Фета. Я знала все басни Крылова и так далее. Очень сильно развила тогда память.
Я писала, что продовольственный магазин на Корабельной стороне был по улице Карла Либкнехта, № 101,– большой четырехэтажный дом. Так вот, в то время, видимо (я точно не помню когда), прямо в середину этого дома попала немецкая бомба, говорили, что весом в 500 кг. Дом устоял, подвал цел, но вот второй и третий подъезды разрушены, а первый и четвертый целы. Магазин работу не прекращал. Я не помню, что и сколько давали по карточкам. Я ходила в магазин и отоваривала только хлебные карточки – сначала для нашей семьи, а потом и для хозяев (последние два месяца, когда были интенсивные обстрелы). Папа получал 300 граммов в день (как инвалид II группы), мама и я – по 100 граммов, а вот сколько получали хозяева – не помню, кажется, по 300 граммов. Насколько мне помнится, последние месяцы давали только хлеб.
18 июня прошел слух по соседям, что немцы высадили десант автоматчиков на Малаховом кургане. Но за хлебом надо было идти, меня послали.