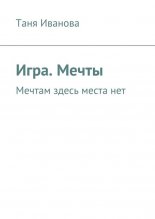Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева Беляев Иван
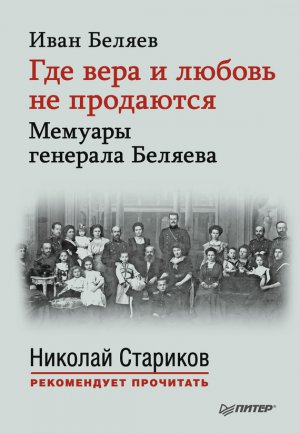
Она улыбается, и смеется, и жмурится, и сердится, и опять радуется чему-то, в чем для нее сейчас заключается счастье и радость бытия.
– Ведь теперь весна… и ты со мною! Отпросись на несколько часов, поедем вместе!
Иду просить разрешения – ведь это будет мой первый выход. Навстречу Ольга…
– Кто это? Ваша жена? Какая хорошенькая! Почему она приехала? О чем вас просила? Разве так трудно выбрать себе шляпу?
– Это только предлог. Ей просто хочется прокатиться со мной по городу. Ведь скоро год, как она скучает одна!
Разрешение получено. Мы садимся в вагон и катим в Петроград.
Быть может, это иллюзия, но мне кажется, что все с участием глядят на нас. Никто без улыбки не смотрит на оживленное личико моей спутницы. Правда, здесь уже ее все знают, она каждый вечер ездит навещать меня в лазарете.
– Вам уже свободно можно выезжать. После нескольких уси ленных массажей вы можете являться в лазарет только через день, пока не удастся хорошенько разогнуть руку. Императрица поместит вас с женою в колоннаде Большого дворца. А потом вас отправят в Евпаторию на грязи.
Номер, который нам отвели в самом конце колоннады, был тот самый, в котором в счастливые мирные дни мы останавливались, когда дивизион ходил в Царское на Высочайшие смотры. Тогда, накануне парада и торжественного обеда, мы отдыхали здесь. Молодежь балаганила, запирали друг друга в огромный платяной шкаф и выкидывали разные штуки… Теперь в комнатах помещались жены и матери опасно раненных. Мы занимали две смежных комнаты с широкой двуспальной кроватью, софой и прелестной мебелью. Напротив, в одной комнате жила жена капитана Гаскевича, в другой – милая парочка молодоженов: поручик Новороссийского драгунского полка Лепеха и его юная супруга, оба жизнерадостные и по уши влюбленные друг в друга. Все мы очень сдружились между собой. Утром, едва мы успевали протереть глаза, как уже раздавался легкий стук и в соседней комнате появлялись лакеи с огромным серебряным подносом, на котором едва помещались чашечки китайского фарфора, кофе, сливки, сахар, сухарики и булки всех сортов, сыр и масло.
– Обед в двенадцать, ужин в пять, – а вечером чай в восемь часов, – предупреждал старший лакей, – без опозданий. Но для вас мы всегда оставляем, как бы поздно ни вернулись! Для вас всегда все готово!
И действительно, даже когда нам случалось вернуться ночью, раздавался обычный стук, и на низеньком круглом столе нашего будуара появлялся роскошный поднос с его вкусным содержимым. Совсем как в сказке: «Столик, накройся!»
– Зачем?.. Зачем вы так о нас беспокоитесь?
– Для вас всегда найдется, – твердил, улыбаясь, лакей.
Однажды днем во внеурочное время раздался стук в дверь. Я вышел в другую комнату и обмер от удивления: передо мною стоял наш бессменный фуражир, которого я всегда встречал первым, подъезжая к батарее, и всегда оставлял последним, отъезжая.
– Вачейшвили!.. Какими судьбами?
Да, это был сам Вачейшвили, выдержанный и спокойный, такой, как бывал всегда – и на полях сражений, и в разъездах, и везде. В руках он держал огромный портфель со всей батарейной канцелярией.
– Извольте подписать. Вот сдаточные ведомости, батарею принимает капитан Кузнецов. Прудкий – он уже классный чиновник – просит передать, что «Инвалидный капитал» пришлось расписать по другим рубрикам, командир дивизиона все доискивается, откуда у нас такие деньги. Раненых ведь теперь совсем нет. Снарядов мало, стоим все время на пассивном участке. Вас все вспоминают. Не то было время! Тогда мы работали один за всех.
– Спасибо, родные! И я вас не забываю. Я заказал 525 маленьких фотографий в кавказской форме и с Георгием. Передай каждому на память.
– Все думали, что вы помрете. Больно уж вы себя не жалели.
– А офицеры?
– Все шлют привет. Теперь ведь и Кулакова произвели в поручики. Дзаболова представили в офицеры.
– А поручик Коркашвили?
– Уже произведен в штабс-капитаны.
– Не написал мне?
– Никак нет. Только вот господа офицеры послали вам телеграмму с получением Георгия. А орден командир дивизиона заслал в Киев, когда вы его еще получите!
Я получил его только перед самым отъездом на позицию.
Коркашвили не писал мне по понятными причинам. Когда меня унесли из боя, никто не верил в мое выздоровление. Через несколько дней, уже в лазарете, Алечка принесла мне его письмо.
– Смотри, что мне написал Петька! Да он с ума сошел!
Я давно уже видел все, что происходило в его душе. Перед выходом в поход Аля была с ним сердечнее обыкновенного.
– Милый Петя, – говорила она ему, – вы знаете нашего командира. Себя он не жалеет, он грудью стоит за своих… В нем ваше счастье, и честь, и слава вашей батареи. Ради всего святого, ради вас самих, ради меня… берегите его, не дайте ему стать жертвой своей удали.
С тех пор во всех боях я замечал, что в его душе происходила борьба. Если командир будет убит, быть может, в первом порыве отчаяния она бросится к нему в объятия… И вот всякий раз, когда мне предстоял выбор между бесславным бездействием и безумной опасностью, он являлся ко мне.
Это живо напоминало мне шотландскую балладу:
- Скакать, вперед – и смерть, и ад…
- Вернуться – преступленье. —
- Чтоб сделал ты, мой сквайр, когда б
- Стал графом на мгновенье?
Я уже заранее знал его ответ, тождественный с ответом оруженосца.
Но когда начиналось сраженье и снаряды засыпали мой наблюдательный пункт, неожиданно появлялся Коркашвили и умолял меня уступить ему свой пост. Но Бог меня хранил, подо мной убивали коней, засыпали меня осколками, но я оставался цел… до последнего случая, когда с 300 шагов расстояния я получил пулевые раны… Теперь, казалось, для него наступил желанный час. Письмо его было написано в огненных выражениях. Наконец-то судьба посылает ему награду за тысячу страданий, которые он выносил молча! Одно слово, и он прилетит к ней!
Я часто вижу его во сне и всегда в одном и том же виде. Милый Петя, сколько раз я думал о тебе, вспоминал тебя, сколько раз видел тебя во сне. Я спешу обнять его… и просыпаюсь.
Но все-таки это письмо поразило меня, как неожиданный удар кинжала…
Дни быстро сменялись днями. С фронта стали приходить более утешительные известия. Неслыханное отступление Русской армии закончилось. У власти стало деловое, патриотически настроенное министерство. Наши заводы и фабрики стали вырабатывать колоссальное количество снарядов. Кружным путем, через Владивосток, через Романовск на Белом море стали прибывать огромные запасы вооружения… Во главе армии стал сам Государь… Еще одна великая держава – Италия – присоединилась к Атланте – все, казалось, сулило желанный успех.
Но то, что не видели или не хотели видеть другие, для меня было уже ясно… Была нарушена «белая линия» – убиты, искалечены, ранены те офицеры и солдаты, в которых держался дух армии – те чувства, без которых, как тело без души, начинает разлагаться ее безжизненный организм. Последние кадры, увлеченные надеждой на близкую победу, погибнут в целом ряде бесцельных атак, и тогда…
Однажды, вскоре по прибытии в лазарет, я проснулся в слезах. Я отчетливо видел во сне смерть Гургенидзе, доблестнейшего офицера 2-го Кавказского стрелкового полка, который во всех боях после Сувалок фактически командовал своим полком. Сменялись командиры батальонов, полк переходил из рук в руки, штабные офицеры делали на нем карьеру, уходя на тыловые должности, – но пока тихий и незаметный, но твердый и хладнокровный Иван Константинович оставался в строю, полк выходил сухим из воды и творил невозможное. Последний резерв был Гургенидзе и полурота его пятой роты. «Что будем делать? – спрашивал командир полка. – Ничего не поделаешь, надо восстанавливать положение… Болигловка, давай набалдашник!» Он напяливал на свою облысевшую голову теплый колпак и шел водворять порядок и спокойствие на прорванном участке…
– Не хотите ли взглянуть на «Инвалид»? – спрашивает сестра. Я развертываю газету, и сразу же мне бросается в глаза:
«Убитый, исключается из списков 2-го Кавказского стрелкового полка, штабс-капитан Иван Гургенидзе»…
Уже поднявшийся, встретил на улице одного из бывших солдат, произведенного только что в подпоручики. А затем его простой рассказ дополнил командир полка полковник Лобачевский. Под Якобштадтом их бросили в атаку на непроходимое болото, защищенное немецкими пулеметами. Боевой частью, как всегда, командовал Гургенидзе… Он протестовал, Лобачевский горячился… Штаб настаивал.
– Меня расстреляют за неисполнение приказания, ступайте, ступайте, – настаивал Лобачевский по телефону. – И вот, – говорил мне Лобачевский, – мне приносят телефонограмму: «Доношу, что я убит и службу Его Императорского Величества нести не могу.
Штабс-капитан Гургенидзе». Я бросился на место. Пуля пробила ему голову, но он еще дышал. Мне показалось, что он еще глядит на меня с упреком. Телефонограмму он передал перед тем, как двинулся в атаку… Это я убил его!
Бесплодные усилия
Шиллер
- Что Кассандре дар вещанья?
С тех пор как я получил возможность отлучаться в столицу, я стал употреблять все силы на то, чтобы открыть глаза тем, кто мог бы принести пользу армии.
Каждый «спасал Россию» по-своему. Каждый объяснял по-своему, почему блестящие успехи на Австрийском фронте и на Кавказе привели к тому, что Германия при полном бездействии союзников обрушилась на Русскую армию, которая истратила последние боевые запасы на спасение Западного фронта.
Поглощенные пространством и самоотверженными усилиями армии, германцы остановили свой натиск. Они поняли, что с Россией не справиться, и снова бросились на Западный фронт. Поняли и союзники, что Русская армия без снарядов и патронов не может облегчить их положение, что блокада Дарданелл, открытие которых было гарантировано Англией, делает подвоз их невозможным, и что надо прийти навстречу России в ее отчаянных усилиях организовать подвоз через только что оборудованный Мурманск и через Владивосток. «Деловое» министерство добилось колоссальных успехов в заготовке снаряжения и завалило фронт боевыми припасами. Но было упущено из виду нечто, едва ли не самое главное.
Со школьной скамьи все повторяют известный афоризм Наполеона, что на войне дух дает 3/4 успеха, а остальное всего 1/4. Но почему-то считается, что дух этот со времен Бородина и Полтавы составляет неотъемлемую часть нашей армии, и заботятся лишь о материальной стороне дела.
Духом наполеоновской армии был его гений. Боевой клич «Vive I’Empreur’!»[132] являлся гарантией победы, так как он наполнял сердце каждого француза уверенностью в неизбежности победы – а вера горами двигает.
Дух армии основан на вере, что спасение заключается в победе, а победа зависит от беспрекословного исполнения распоряжений начальства. Пока начальство твердо и работоспособно, оно внушает полное доверие солдату своей стойкой моралью. Носители этой морали – это ничтожный процент лучших офицеров и старых солдат, которых каждый знает и кому каждый доверяет свою жизнь. А те, кто теряет голову, идут за ними, как бараны за вожаком.
Но когда и эти герои нелепыми распоряжениями, исходящими свыше от неосведомленных штабов и случайных карьеристов, гибнут во имя исполнения необдуманных приказов, тогда уже немыслимо восстановление боевой мощи. Оно так же невозможно, как исцеление копыта лошади после нарушения «белой линии»…
Чтоб спасти Париж, было пожертвовано четырьмя отборными корпусами. Чтоб дать время англичанам мобилизовать силы для занятия 50 километров по фронту, чтоб облегчить натиск на Верден, чтоб «выручить» Италию и Румынию – при полном бездействии «наших славных и доблестных союзников», как их называли «кадеты», отправлены были в пасть Молоху последние кадры бесценных солдат и офицеров, и лучшие полки обратились в аморфную массу, для которой уже не существовало ни долга, ни чести, ни знамени, ни веры… Артиллерия спасла свои кадры до конца войны, кавалерия, особенно казаки, сохранила их в значительной мере, но пехота к концу войны уже лишилась тех, кто составлял когда-то ее дух и сердце, и обратилась в толпу вооруженных людей, ничем не связанных между собою.
Обратиться с докладной запиской по команде, как сделал это в свое время родоначальник партизанской войны знаменитый Денис Давыдов? Не те люди стояли теперь во главе армии. За деревьями они не видели леса. Кто бы осмелился подать ее грозному главнокомандующему?.. Посылать доклад Янушкевичу? Я знал его когда-то как бывшего офицера 4-й батареи лейб-гвардии 2-й бригады, в которой я начал свою службу, я видел его в поезде Главнокомандующего, когда мы представлялись ему, выходя на войну. Но посылать ему доклад – значило получить жестокий нагоняй за прямое обращение. Идти к военному министру – еще хуже. Мой двоюродный брат Михаил Алексеевич Беляев был далеко. В Румынии… Но и здесь этот прекрасный человек, но педант и формалист, и слушать бы не захотел моего голоса. Надо было искать свежую лазейку, свежих людей.
– Что же, собственно, вы предлагаете? – обратился ко мне Шингарев, к которому я явился с рекомендацией от С. Ф. Ольденбурга, всегда отзывавшегося на все доброе.
– Я предлагаю проект, который может спасти самое драгоценное, чем обладает сейчас наша оборона: остатки кадров, которыми еще держится армия.
– Каким образом?
– Организуя в глубоком тылу ряд запасных батальонов от каждого полка, где тяжело раненные и даже искалеченные офицеры и солдаты могли бы воскресить среди зеленой молодежи те традиции, которыми жила армия, которая уже вся полегла под ударами немецкой техники ради спасения западных союзников. Эта свежая армия, явившись в последний момент, решила бы судьбу России и, в случае преждевременного заключения мира, осталась бы залогом будущего спокойствия страны.
– Но ведь на это понадобятся годы… Все идет к этому. На смену убитым и раненым мы выпускаем (он назвал какую-то астрономическую цифру) тысячи молодых студентов, образованных, культурных, вполне готовых пополнить недостатки армии и количественно и качественно. Вы можете быть спокойны: армия будет восстановлена. А вот, кстати, объясните мне: что такое миномет?
Армию могли возродить Суворов, Румянцев – можно ли было ожидать, что она вылетит из портфеля бывшего земского врача, как Минерва из головы Юпитера, в полном вооружении блестящих доспехов? В свое время нашлись люди, способные принять и осуществить простой и ясный проект Дениса Давыдова и вызвать к жизни войну, погубившую Наполеона. Но кто из нынешних людей, занятых личными или партийными интересами, стал бы теперь слушать голос рядового офицера?
Собравшись с силами, я поехал в Гатчину, где доживал последние месяцы мой старик-отец.
– Ты предлагаешь мне решиться на отчаянный шаг, – отвечал он мне. – Неужели ты думаешь, что меня допустят подать мое мнение Государю? Разве ты не слышал, что говорят при дворе? «Как можно тревожить израненое сердце Их Величеств этими тяжелыми во просами?» Ведь ты помнишь, когда я был в силе, когда Кронштадт и Петергоф были спасены нами от катастрофы, что я мог сделать, чтоб открыть глаза Царю? Помнишь, как меня вызвал к телефону Великий князь и сказал: «Не смейте тревожить Государя этими докладами! Как вы не понимаете, что этим вы терзаете человеколюбивое сердце нашего милосердного монарха». И для чего ты добиваешься всего этого? Неужели и в тебе дрогнуло сердце накануне возвращения на позицию?
– Как ты можешь так думать обо мне, милый мой папочка? – возразил я, жестоко уязвленный упреком. – То, что я делаю, я делаю для других, для армии, для России. Во всяком случае, я возвращаюсь на позицию и выпью чашу до конца. Но я иду туда, как шел Гектор на свой последний бой, зная наперед, чем он кончится.
Два года спустя, при расставании, Мария Николаевна припомнила мне этот разговор. «Как точно ты предсказал будущее, – говорила она. – Я часто вспоминала твои слова!»
Участь Трои была предрешена. Не спасли ее ни плач Кассандры, ни предостережения Лаокоона. И когда не нашлось возражений на его мудрые слова, вышли змеи и задушили его и его детей.
А жизнь протекала своим порядком. От нее не уйдет ни мудрый, ни неразумный, ни предусмотрительный, ни беспечный…
Перед отъездом на грязи в Евпаторию меня осматривал доктор Боткин, лейб-медик Царской семьи.
Не люблю, когда доктора слушают мое сердце. Он повторил все сказанное мне 20 лет назад доктором Николаевским.
– С вашим сердцем вам нельзя служить в строю. Вы можете выдержать лишь в условиях строгого режима тыловой жизни.
– Но как же, доктор, с этим самым сердцем я делал под огнем версту и две бегом, проводил дни и ночи в пылу сражения, забывая о себе!
– Чувство долга иногда может нас вынудить далеко перейти предел возможного. Но на этом нельзя строить расчеты. Покажитесь мне еще раз по возвращении из Евпатории.
Пребывание наше в Крыму было сказкой. Дуван, подаривший эту санаторию Императрице, делал все возможное, чтоб развлечь и успокоить своих гостей. После спектаклей мы ездили к нему в именье, катались под парусом по лазурным волнам Черного моря, ночью всей царскосельской компанией ездили в bau Rivage («Буриваш» по местному произношению), где нас ждали традиционные чебуреки; забывая все на свете – и настоящее и будущее. Пока, наконец, я получил неожиданную телеграмму из Питера: «Приезжайте немедленно, – писала Мария Николаевна, – папа при смерти».
Я бросил лечение – оставалось еще несколько грязевых сеансов, – и мы помчались обратно. Подвод не было, нам грозило бесполезное пребывание на почтовой станции, но в эту минуту к крыльцу подкатило роскошное ландо – Паша Богуславский, племянник Николая Аристарховича, с женою, уже инженер, начальник дистанции. Мы с восторгом приняли его предложение и поспели как раз к экспрессу.
Отца я застал уже в последние минуты, окруженного всеми близкими. Все братья, кроме Володи, находившегося в плену, и Коли, который уже занял свой пост в Лондоне, явились с фронта. Он еще узнавал нас, хотя говорил с трудом и вскоре закрыл глаза. Последние его слова были: «Мир в Петрограде, мир в Берлине»… Его похоронили в Сергиевой пустыни рядом с мамой согласно завещанию. В Царском я встретил Боткина.
– Удивительно, – говорил он, осмотрев меня, – ваше сердце неузнаваемо! Оно функционирует превосходно, вы можете ехать куда угодно!
Я пошел прощаться к Императрице. Она благословила меня маленьким серебряным образком Св. Георгия Победоносца и молитвенником, как всех своих пациентов, дала также каждому по пакету с бельем. Княжон я уже не видал. Шах-Багов снова поправился, но его устроили начальником санитарного поезда, который ходил с фронта прямо в Сибирь и обратно, не заходя в Питер. Князь Геловани уехал начальником санатории в Евпаторию, Мелик Адамов оставался еще там, на грязях, там же мы распрощались с Лепехами и Таскевичами. В лазарете Ее Величества уже осталось мало знакомых лиц.
За последние дни передо мною промелькнули почти все близкие, родные, так как все были на похоронах у папочки. Из незнакомых особенно врезались мне в память молодой моряк со старушкой-матерью: «Панаев 4-й! – произнес он, представляясь. – Последний…» Его братья, ахтырские гусары, все пали смертью храбрых. Я знал старшего: это был чудный юноша, чистый, как девица, и благородный, как лев…
Сережа уже командовал артиллерией армии, Мишуша[133] был начальником артиллерии корпуса. Семьи их и Володи жили в столице, летом – в Гатчине, все часто собирались у Марии Николаевны, где проводил отпуск Тима, уже командир батареи во 2-й бригаде. Алечку я оставил под крылышком у Махочки, там я был спокоен за нее. Накануне отъезда нам не спалось всю ночь, я все время прислушивался к ее сдержанным рыданиям и уехал на фронт с подорванными нервами.
На дебаркадере слышались крики:
– Проклятые… проклятые! За вас еду умирать, – кричал вдребезги пьяный пехотный ундер. – Оставайтесь, буржуи проклятые, еду умир-р-р-рать!..
Командовать отдельным дивизионом – это уже не то, что я пережил со своей родной горной батареей… Теперь я ехал в 4-й Отдельный полевой тяжелый дивизион, стоявший в Могилеве-Подольском. Но там меня ждало все новое: офицеры, солдаты, даже незнакомые орудия Виккерса калибра 105 морского типа на импровизированных лафетах с огромными колесами, напоминавшими колесницы фараона.
В тылу
Дивизион стоял на позиции. 3-я батарея с самого начала находилась где-то на севере. С ее командиром, старым крепостным артиллеристом, я встретился уже много позднее, в изгнании. Остальными двумя командовали совершенно юные штабс-капитаны, только что окончившие Артиллерийскую академию, братья Шафровы. Дивизионом командовал назначенный в Киевском военном округе полковник Самборский, мой товарищ по училищу.
Командир корпуса, генерал Каледин, встретил меня очень радушно, но пожелал, чтобы я принял дивизион уже после атаки Черновиц, для чего все уже было подготовлено. А пока знакомился бы с личным составом и заканчивал формирование управления.
Я остановился в огромном селении, где были расквартированы штаб корпуса и управление артиллерии, а также наша хозяйственная часть и парки батарей, и тотчас же ознакомился с внутренней жизнью дивизиона. А ранним утром пошел взглянуть на батареи.
Командиры находились на наблюдательном пункте. Они впервые попали на позицию, и молодые прапорщики, оставшиеся при орудиях, слабо отдавали себе отчет в том, что их ожидало.
Батареи, особенно первая, ввиду колоссальной настильности траектории морских орудий, стояли открыто, и с момента открытия огня неминуемо должны были стать жертвой неприятельской артиллерии. Никто даже не потрудился отрыть окопы.
Я тотчас же пояснил им все это и, еще не будучи вправе приказывать, посоветовал старшему прапорщику немедленно обеспечить людей окопами, и на случай жесткой бомбардировки отрыть вблизи глубокую узкую щель – убежище, что было немедленно исполнено. Затем прошел на наблюдательный пункт, где уже не было никого.
Там сразу же попросили меня к телефону.
– А, Иван Тимофеевич!
– Откуда? Кто говорит со мною?
– Это мы, «Фирма».
– Какая фирма?
– Фирма Кирей, Яковлев и я… Мы здесь нанимаемся для руководства целесообразным употреблением артиллерии… Это наша специальность. Предлагаем свои технические услуги… Теперь мы здесь на гастролях.
– С кем же вы собираетесь сотрудничать?
– Со всеми начальниками групп и командирами частей.
– Кто же вас сюда направил?
– Это долго объяснять. Мы с вами поговорим об этом на квартире.
– Пока что можете обратиться к полковнику Самборскому, который еще не сдал мне командования. А меня вы можете найти через начальника артиллерии, которому я подчинен и от которого я должен получить распоряжения…
Это что еще за явление? Какая-то странная «фирма», какие-то «гастролеры»… Двое – мои товарищи по гвардии, ушедшие в академию. Третий, видимо, бывший ранее в распоряжении Великого князя. В управлении генерал Неводовский попытался объяснить мне, что эти господа разъезжают по фронту, сообщая артиллеристам новинки техники ведения артиллерийского боя, которые нахватали в иностранных журналах. Я был очень рад, что от них отделался.
Неводовский в первые дни моей службы был моим командиром. Это был глубоко порядочный человек и уравновешенный, и для меня было на руку, что я остался под его непосредственным командованием.
В данную минуту мне оставалось лишь обратить внимание на внутренний быт моих подчиненных.
Артиллерийская подготовка атаки Черновиц не удалась. Чему приписать это, я не мог судить, не зная всей обстановки. Орудия Виккерса, могущие оказать услуги при демонтировании неприятельских батарей, не могли принести серьезной пользы против проволочных заграждений и по своей беззащитности сразу же открывались неприятельской артиллерии. Они могли пригодиться лишь местами, для специальных задач. Мы получили приказание отправляться в тыл, чтоб закончить формирование.
Перед уходом мы все-таки оказали услугу нашему доброму начальнику артиллерии. Ночью он вызвал меня.
– Знаете, поставленная вчера на вашей позиции шестидециметровая пушка Кане не может выполнить главной своей задачи. Каледин рвет и мечет. Ведь это зверь… Он способен расстрелять меня, требует, чтоб завтра же пушка действовала по деревне, на которую он поведет главную атаку.
– Но ведь вчера он указывал совершенно другие цели!
– Все равно, с ним не сговориться. Я не знаю, что делать, – бедный старик схватился за голову.
– Не волнуйтесь, ваше превосходительство, – вмешался Самборский. – За ночь можно срезать верхушку высоты, которая мешает обстрелу.
– Я вам пришлю всех своих людей с шанцевым инструментом, – прибавил я, – и к утру все будет в порядке.
Ранним утром, когда измученные ночной работой солдаты садились в вагоны, Неводовский с Калединым поехали наблюдать стрельбу орудия Кане. Но что могла сделать одна пушка с полусотней бомб против бетонированного и опутанного проволокой опорного пункта?
Формирование дивизиона заканчивалось в глубоком тылу, в местечке Атаки, предместье Могилева Подольского, отделенном от города рекой Днестром, через которую был переброшен понтонный мост.
За это время ко мне успели присоединиться мой неразлучный Крупский и Дзаболов, о переводе которых я хлопотал с первого дня моего назначения.
Будучи в Петербурге, мы с Алечкой часто бывали у Постовских, которые всей семьей обосновались там вскоре после начала войны. Генерал вначале был назначен начальником штаба к Самсонову и после постигшей его армию катастрофы, откуда ему удалось ускользнуть в последнюю минуту, был короткое время начальником дивизии на Карпатах и затем ушел на тыловую должность.
– У меня прекрасная лошадь, – говорил он мне, – вместе с трубачом она еще при мне. Я передам вам их обоих, по крайней мере, буду знать, что оба находятся в верных руках.
Я уже выписал себе молодую лошадь из конского запаса и теперь сразу получил обеих.
Красотку привел трубач Стежка, Кокотку – Дзаболов, командированный за нашими лошадьми. Обе кобылы были чудесные и как две капли воды подходили друг к другу.
Обоих командиров я отпустил в Петербург, снабдив их письмами домой. Веселые и беспечные, они считали, что их служба начинается и кончается на наблюдательном пункте, а в остальное время вели безалаберную жизнь и совершенно не думали о своих батареях, где царил хаос.
Я сам взялся за внутренний порядок – и меня глубоко тронуло, что весь дивизион, как один человек, отозвался на мой призыв. За несколько дней была налажена кухня, люди повеселели; за лошадьми был установлен должный уход; молодым офицерам объяснены их обязанности, и к приезду обоих гастролеров они могли уже без труда «командовать» своими частями. Вскоре нас направили на Северо-западный фронт, где дивизион распался: управление осталось в Минске, а обе батареи попали в Барановичи, откуда каждая получила назначение в различные армии.
Отпустив батареи, я остался на станции один. В эту минуту ко мне любезно обратился начальник стоявшего подле санитарного поезда и радушно пригласил к себе. До утра мне деваться было некуда; поезд возвращался в Минск лишь на другой день. Я с удовольствием отозвался на приглашение и очутился в уютной столовой. Это был поезд, оборудованный польскими аристократами, обосновавшимися в Москве, начальник был единственный русский, персонал состоял из сестер католического центра! Меня приняли как старого друга.
– Мы вас уже хорошо знаем, – наперебой говорили мне все. – Когда подошли ваши батареи, мы стали расспрашивать ваших людей, кто командует, все, все в один голос восторженно отзывались о вас. Ничего подобного мы еще никогда не слыхали… Вот мы и решили командировать нашего шефа, чтоб познакомиться с вами поближе. Как это вам удалось добиться такого обожания от ваших людей?
Впоследствии, в разгаре революции, ночью, при отступлении из Тернополя мои разведчики встретились с батареями 4-го дивизиона. «Видим, катят какие-то чудные пушки на восьмерках лошадей с саженными колесами. – Вы, – говорят, – 13-го дивизиона? Так это у вас наш дорогой командир полковник Беляев? Ох, как же мы за ним тужили! Вот был командир! Теперь бы нам его, мы бы его на руках носили!»
В Минске я нашел своего старшего брата Сережу, который был назначен Эвертом в качестве начальника артиллерии фронта. При нем для распоряжений состоял Н. М. Энден, наш дальний родственник, бывший офицер лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Брат мой был полон надежд, ехал на фронт и должен был через несколько дней вернуться. Он посоветовал мне подождать немного до приезда Великого князя Сергея Михайловича, чтоб хлопотать о новом назначении.
Через несколько дней явился и Великий князь. Но он был уже не тот, каким я видел его, когда посетил его в Михайловской дворце: больной, загнанный преследованиями «Прогрессивного блока», который в те дни обрушился на безответственных министров и Великих князей. Теперь его окружала целая свита любимцев и, когда он появился в зале в походной форме и сапогах на высоких каблуках, то казался титаном среди пигмеев, которых он душил облаками своей колоссальной сигары и которым безапелляционно подносил готовые решения.
Брата моего, с его самостоятельными взглядами на все, он, видимо, уже не переносил.
– Ступай переговорить о себе с Барсуковым, – шепнул мне брат на ходу. У него самого, видимо, порвались связи с Великим князем.
Я знал Барсукова, сейчас он был его правой рукой. Тот принял меня сердечно.
– Первый открывающийся отдельный дивизион будет ваш, – отвечал он мне. – А покамест отдыхайте!
Я воспользовался этими днями, чтоб съездить еще раз в милый Питер. Явившийся на смену брата Али-Ага Шихлинский со своим окружением не произвел на меня приятного впечатления, а Сережа уехал обратно в свою армию.
У своих я нашел полное успокоение и умиротворение душевное. Моя Алечка, казалось, в мое отсутствие расцвела еще более.
Когда мы очутились одни в уютной, чистенькой гостиной сестры и, сидя рядом с нею, я изливал ей все, что накопилось в душе, она, казалось, и не слышала моих слов. Глядя на меня своими лучезарными глазами, с радостной улыбкой на устах она повторяла только:
– Ах, как я рада, как я счастлива!
Теперь все родные объединились вокруг Марии Николаевны, которая в своем одиночестве стала как бы центром всей семьи. Там читались письма от Коли о его жизни в Лондоне, туда приезжал с фронта Тима, ставший любимцем племянник, туда приходила Елизавета Николаевна со всей Сережиной семьей. Лиля приносила письма от Володи из плена. Мария Николаевна хотела перетянуть к себе и Алю, предлагая ей отдельную комнату в опустелом доме. Но Махочка с Ангелиночкой не хотели отпускать ее от себя, она стала для них очагом домашнего уюта, источником тихих интимных радостей. От меня с фронта к ней приезжали всегда молодые офицеры, к ней прибегали барышни Постовские и другие знакомые, и кругом нее всегда била живая струя, она озаряла всех лучами радости и счастья – пели романсы, даже танцевали и скрашивали тихую, почти монастырскую жизнь Махочки и ее дочери.
А для бедной «Анжель» жизнь складывалась печально. Ее мечты о преподавании рухнули благодаря тому, что она все еще продолжала заикаться. Она искала успокоения, сбиваясь с ног работой с ранеными солдатами, которые потом писали ей трогательные письма. Но с детства она затаила любовь к сыну соседнего помещика Кошкарова. Он приезжал к нам еще кадетом. Когда оба подросли, их соединяла тысяча деревенских воспоминаний… А теперь выяснилось, что он и не мечтал соединиться с нею, и все ее иллюзии пошли прахом… Знала обо всем одна только «Мамти»… Мне он никогда не нравился.
Его отец был безнравственный человек, сестра унаследовала от матери-грузинки красоту и темперамент; она была близкой подругой Энденов, но ее жизнь была разбита негодяем-отцом. Офицеры 24-й бригады сообщили мне данные против их товарища. Так оно и оказалось впоследствии, когда он стал красным комиссаром.
Но сердце бедной Ангелиночки было разбито. Эту любовь она лелеяла в груди и намеренно закрывала глаза на все окружающее. Только иногда безобидное веселье молодежи вызывало на ее исхудалом личике сочувственную улыбку…
Короткие минуты отпуска я использовал, чтоб посетить последнюю оставшуюся в живых тетю Лелю.
После смерти мужа и старшей дочери она переехала на другую квартиру, но в том же доме, где и поселилась со своей любимицей Любой и ее детьми, подрастающей красавицей Зюзей и ее братом, маленьким Колей. Нередко к ним ездила Наташа, жившая в командирской квартире в Гатчине, куда она переехала с начала войны.
Тетя Леля сообщила мне адрес молодого барона А. П. Штакельберга, который еще студентом бывал завсегдатаем на их вечерах и к которому, хотя издали, я всегда чувствовал искреннюю симпатию. Он также часто справлялся обо мне, под конец я не выдержал и поехал к нему. Но это было почти накануне большевистского переворота, полтора года спустя.
Он принадлежал к стариннейшей остзейской фамилии, о которой говорили; обе семьи славились безукоризненно чистой моралью всех своих представителей. Их имя стоило титула.
Сам Саша Штакельберг едва кончил университет, как женился на дочери адмирала Пилкина, однако вскоре после свадьбы бедняжка лишилась ног, и он семь лет возил ее в колясочке. Но когда она скончалась, я нашел его уже женатым на цветущей молодой женщине, счастливым отцом двух прелестных малюток, таких же здоровеньких, как мамаша, и с таким же дивным румянцем, каким всегда поражал он сам. За чаем зашел разговор о грядущих событиях.
– Я не поклонник толстовских идей, – говорил я, – но мне кажется верным одно из его замечаний.
– Какое?
– У сверхинтеллигентов дети слишком истощены физически. Они развиваются махровым цветом, но засыхают прежде времени. Я согласен с мнением Толстого, что лучшего расцвета достигают дети сыновей простого крестьянина. В них уже нет отцовской грубости, но здоровая кровь дает им возможность работать так, как мы уже не в состоянии.
– Милочка! Благодари Ивана Тимофеевича за невольный комплимент, – подхватил милый хозяин, – наши дети как раз подходят под это определение! Родители моей жены простые крестьяне…
Удивительный человек! Потомок древнейшего рыцарского рода, с детства увлекавшийся геральдикой, аристократ без малейшей тени снобизма. Светский человек, чистый, как ангел, прекрасный, как херувим. Потомок меченосцев, православный до мозга костей. Безукоризненный супруг, в течение семи лет прикованный к страдалице-жене. Сверхджентльмен, нашедший, наконец, себе тихую пристань в объятиях скромной крестьяночки. Непременный секретарь Академии наук и либеральнейший председатель, сам убежденный монархист и консерватор. И со всеми этими противоречивыми данными, человек недосягаемого благородства и кристальной души…
Таких людей могла взрастить только Россия!
Назначение мое командиром 13-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона вызвало мой спешный отъезд на фронт. Я уехал счастливым. Дивизион был прекрасный, я получил его из рук полковника Драке, бывшего ранее адъютантом Великого князя. Он находился уже на боевой позиции, в районе Луцка.
Ударный дивизион
Шекспир. «Генрих V»
- – В пролом, еще раз в пролом,
- Друзья дорогие!..
Дивизион, куда я ехал, принадлежал к серии только что выпущенных артиллерийских частей, снабженных новейшей материальной частью и прекрасно технически обученным персоналом. Во главе стояли молодые, но опытные командиры батарей, молодежь большей частью была только что выпущена из лучших учеников Сергиевского артиллерийского училища. Все поголовно были серьезные и работящие. Нижние чины прекрасно справлялись со сложной материальной частью, так как дивизион был сформирован в Петербурге, главным образом из бывших рабочих технических мастерских и заводов. Это, впрочем, не могло, к сожалению, не отразиться на их морали.
Драке сдал мне дивизион, его позиции близ колонии Мариановки, и на другой же день уехал. Блестящей наружности, храбрый и знающий артиллерист, он обладал замкнутым и тяжелым характером, выработанным в давящей атмосфере канцелярии Великого князя, не переносившего чужих мнений, и наводил панику своим грозным «Надо соображать!». Его неудачное столкновение с академиками во 2-й бригаде сделало его недоверчивым к людям и оставило в нем глубокий след раздраженного самолюбия. Поэтому, несмотря на все его достоинства, мое появление в дивизионе вызвало общую радость и внесло успокоение. Я сразу же заметил это. Все мои указания схватывались на лету и исполнялись от чистого сердца.
Через несколько дней я получил ясное доказательство, что и солдатская масса почувствовала ко мне безграничное доверие, одна из батарей, 2-я, с самого начала находилась в отделе, и Драке, торопясь с отъездом, сдал мне ее заочно. Но едва он уехал, как я получил от нескольких солдат этой батареи письма, которые показали мне, что не все там ладно.
Если нижний чин решается принести жалобу на своего начальника, это показывает уже не только безысходность положения, но и глубокое доверие к высшему начальству, так как я не знаю случая, чтоб подавший жалобу в конце концов не пострадал от этого еще более.
Я немедленно явился на батарею, приказал командиру выстроить всех чинов на инспекторский опрос, обратился к солдатам с официальным вопросом, положенным по уставу, не имеют ли они за прошлое время законных жалоб и претензий.
Впервые увидал я нечто подобное. На мой вопрос из рядов выступило 20 человек.
Я тотчас же удалился в отдельное помещение и снял с каждого его заявление. Они были чудовищны.
Подполковник Сикорский с садизмом, далеко превосходящим обычное третирование и уставные строгости, терзал каждого из них, ставя их днем и ночью в сырую хату, по колено залитую водой, которая служила ему арестантской, и прибегал к всевозможным ухищрениям пытки, совершенно игнорировал устав о наказаниях.
– Чем объясняете вы все эти противозаконные меры?
– Но, господин полковник, вы не знаете этих людей… Никакие человеческие меры не дают с ними результата!
– Хорошо! Я донесу обо всем по начальству!
– Но, господин полковник, это погубит всю мою карьеру! Ради Бога, умоляю вас! Даю вам слово…
– Пусть будет по-вашему! При малейшем повторении чего-либо подобного я отрешу вас от командования и отдам под суд. А этих 20 человек я перевожу сейчас же к себе в управление, где они своей службой докажут мне правдивость своих слов.
– Но этим вы подорвете дисциплину в моей батарее!
– Наоборот. Именно теперь ваша батарея увидит воочию, что дисциплина существует для всех!
…Как мог суровый, строгий службист Драке не заметить истязаний, совершавшихся у него за спиной?
Нужно ли прибавить, что этого было достаточно. Все как рукой сняло. И те люди, которых я перевел к себе, не оставили на своей службе ни единого пятнышка.
Бои, последовавшие за Луцким прорывом, закончились новым параличом на всем фронте. Наша артиллерия уже была в состоянии состязаться с германской, но для прорыва бетонированных и окутанных морем проволоки позиций этого было недостаточно. Последующие сражения ясно доказали, что ни самоотвержение пехоты, ни налаженная связь между всеми родами оружия не приводили к иному результату, кроме самоистребления. И делалось это в угоду «благородным союзникам», которые проводили свою мировую политику за счет неисчерпаемого запаса «пушечного мяса» в России.
Недостаточность тяжелой артиллерии вынуждала то и дело перебрасывать ее, и наш дивизион после каждой попытки прорыва перекочевывал в соседние корпуса армии. В этой переброске противник имел огромное преимущество внутренних сообщений, пренебрежение которым в новой войне погубило Гитлера. Но теперь, в угоду Европе, мы сделали роковую ошибку и вместо стратегического отступления, сопровождаемого рядом тактических контрударов, безрасчетно погубили сотни тысяч людей, бросая их на верную гибель под огнем пулеметов и минометов на проволочных заграждениях.
Первое крупное дело, в котором участвовал дивизион под моей командой, была атака спешно укрепленных германцами позиций между деревней Ворончиным и урочищем Жука, где немцы для упорной обороны использовали кладбище, расположенное на высоком кургане в нескольких сотнях шагов от выступа огромного леса, находившегося в наших руках… После интенсивной, но короткой подготовки, в которой участвовали, кроме моих, несколько батарей 39-го корпуса, гвардейцы двинулись на главный оборонительный пункт, пользуясь заранее подготовленными подступами. Наша 1-я батарея удивительно удачными попаданиями переворачивала все вверх дном на кладбище, но на главном командном пункте все время работало семь пулеметов, видимо, находившихся под бетонированными укрытиями.
– Прекратите стрельбу, мы не можем продвигаться далее, – передавали из головного батальона. Но мы сами видели с помощью двурогой трубы, укрытой в расщелине между двумя стволами гигантского дуба, что как только прекращали огонь, уже после демонтирования всех пулеметов, на бруствере появлялось несколько солдат под командой блестящего храбреца в серебряных галунах, в упор расстреливающих укрывшихся в подступах гвардейцев.
– Дайте огня! – раздавался крик из головного батальона. Но упорные защитники, скрываясь на минуту, вновь появлялись после каждого разрыва.
Наконец, я посоветовал Калиновскому бить шрапнелью на удар. Непрерывное гудение снарядов, падавших один за другим, не давало уже возможности защитникам высунуться, а между тем шрапнель, зарываясь, была не опасна своим. Видимо, это подействовало. Сопротивление рухнуло, и внезапно по змеившейся в тылу врага дороге мы увидели целую колонну бегущих, бросивших всю линию обороны.
– Кавалерию, кавалерию! – раздались крики по всей нашей линии. Мой Дзаболов скрежетал зубами.
– Был бы в головном эскадроне полка, который стоит там, в складке за лесом, человек с сердцем, изрубил бы всех бегущих, – говорил он с отчаянием.
Но кавалерия не двигалась. Только лишь наши шрапнели подгоняли беглецов, которые быстро скрылись за перелесками.
Не теряя времени, я поскакал к начальнику артиллерии корпуса, чтоб получить его разрешение прийти на помощь 125-й дивизии, бравшей Ворончин. Он устроил себе наблюдательный пункт на вершине огромного дуба в глубоком тылу, но когда я несся открытой поляной, отделявшей лес от селения, где возвышался этот дуб, послышалось зловещее гудение, в воздухе что-то закружилось и грянул страшный взрыв. Моя Красотка круто повернула влево и отчаянным прыжком взяла глубокий ров. Казалось, бомба разорвалась за ее крупом. Но Господь миловал, все мы остались целы. Другой «чемодан» лег уже гораздо дальше, и мы спокойно подъехали к дубу.
– Какого черта вы навлекаете на мой пункт этот адский огонь? – налетел на меня генерал. – Ведь как раз на этом месте на днях убили полковника Бассова, командира тяжелого дивизиона!
– Будьте уверены, ваше превосходительство, они до вас не добросят, видите, они бьют на пределе досягаемости.
Мой тон подействовал на генерала успокоительно. Несколько дней спустя, при расставанье, он сунул мне в руку боевую аттестацию, в которой горячо отзывался о моей блестящей храбрости.
Когда я прискакал в Ворончин, дело уже было кончено. Вслед за падением кладбища немцы очистили и правый фланг: задача была исполнена, и мы получили приказание переходить левее, где 125-я и 101-я дивизии должны были брать деревню Киселин.
Под Ворончиным я познакомился с боевыми качествами командиров. Оба находившиеся при мне оставили по себе самое лучшее впечатление. И тот и другой были очень храбрые люди, но каждый по-своему. Ковальский, спокойный и выдержанный, заботливый и внимательный к нуждам подчиненных, любимец окружавшей его молодежи, встречал опасность ясным взором своих небесно-голубых глаз и с легкой благодушной улыбкой, которая едва шевелила его длинные светлые усы. Калиновский, дрожа, как породистый охотничий пойнтер, лез в самые опасные места с увлечением охотника, преследующего загнанную дичь, все более и более входя в азарт, хотя отлично сознавал, что каждое новое движение грозит ему гибелью. Едва выйдя из боя, он уже забывал все переживания и с неподражаемым юмором в голосе и в каждой черточке лица увлекал собеседников рассказами о своих юношеских проказах.
– Нет, нет, я с самого начала не мог привиться в обществе, – говорил он с легкой улыбкой, которая не сходила с его тонких губ. – Я споткнулся с первого шага. Многочисленное общество сидело за роскошным ужином, перед которым наш слух услаждала известная певица, воспроизводившая романсы Вяльцевой. Хозяйка во главе стола, закатывая глаза, повторяла слова романса:
- И в душу вошел ей чужой, —
- Ему безотчетно она отдалась…
Какие чудные слова – «И в душу вошел к ней!..» Я не выдержал:
– Интересно знать, – шепнул я соседу, – через какую щелку пролез к ней в душу этот негодяй?
Этого было довольно. Все разом ополчились на меня, я был изгнан общим взрывом негодования, и более уже меня не приглашали.
Ковалевский с утра выпивал одну рюмочку и закусывал, гостеприимно угощая своих спутников чудным малороссийским салом, которое молоденькая женка присылала ему из родных мест. Потом оставлял старшего офицера на батарее, а сам, в сопровождении обожавшей его молодежи, скакал на наблюдательный пункт, не обращая большого внимания на обстрел. Но вот однажды оба его спутника явились ко мне глубоко потрясенные.
– Он убит!
– Каким образом?
– Когда мы подъезжали к наблюдательному пункту, над его головой пролетел тяжелый снаряд. Он сделал безнадежный жест рукой и свалился с коня, как подкошенный. Его подняли уже без малейших признаков жизни.
– Последствия сердечного шока, господин полковник, – докладывал старший врач, кровный еврей, как все его окружение, опытный и деловой человек. – Несомненно, причиной был пролетевший снаряд, но он не причинил ему ни ранения, ни контузии. Шок, типичный шок! Но вы не беспокойтесь: мы выдадим покойному свидетельство о смерти от контузии, и жена его получит всю пенсию, положенную после убитого мужа.
Иначе она не получила бы ни копейки.
Один из вольноопределяющихся поехал в Нежин с гробом и документами, а место убитого заступил молодой капитан Безчастнов. Увы, также ненадолго!
В последовавших случайных боях 3-я батарея оказалась в отделе неподалеку от нас. Сражения носили нерешительный характер, позиции переходили из рук в руки.
Неожиданно оба молодые офицера 3-й батареи ворвались ко мне.
– Господин полковник, капитан Безчастнов пропал без вести!
– Как так?
– Сегодня наши позиции переходили три раза из рук в руки. Все мы стояли на наблюдательном пункте, то поддерживая атаку, то задерживая противника. Безчастнов заметил, что наши рассыпались под натиском австрийцев, и, видя, что у них нет офицеров, бросился сам и увлек бежавших в атаку. Разгоряченный преследованием, уже в темноте он остался где-то во взятых им окопах.
– А вы? Как же вы бросили своего командира одного, не зная даже, наверное, убили ли его?
– Но ведь он сам… С ним невозможно было спорить, у него невыносимый характер…
Вот вам свежеиспеченная мораль ускоренного выпуска…
– Телефонисты! Немедленно передать всем соседним частям: «Сто рублей и георгиевский крест тому, кто доставит сюда живым или мертвым капитана Безчастнова, павшего при взятии 3-й линии австрийских окопов несколько часов тому назад».