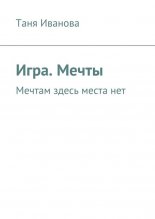Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева Беляев Иван
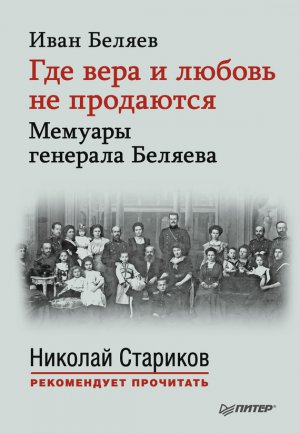
Только в 12 часов ночи, бесконечно счастливые, хотя и утомленные хлопотами и треволнениями, мы, наконец, очутились в нашей крошечной, но чрезвычайно уютной спальне… Вдруг стук в дверь и голос вестового:
– Ваше высокоблагородие. Телеграмма!
– Что такое?
«Желаю самого безоблачного счастья – Огоновский – Подать в 12 часов ночи 20 мая».
Милые, невозвратимые дни, часы, минуты… «Я вижу, – говорил мне мой добрый старый дядя Николай Михайлович[89], – что вам самим Провидением предназначен особый путь. Не волнуйтесь ни о чем: “Les marriages font dans les alerte[90]”». «Твое счастье за дверя ми», – твердила мне тетя Адя.
Бабушка, прожившая 55 лет с мужем и вскормившая 12 детей, повторяла: «Как может Толстой хулить брак, когда это самое лучшее в нашей жизни!»
Милые светочи, освещавшие первые шаги мои на тернистом жизненном пути! Как глубоко безошибочны оказались ваши святые слова…
Какое неизъяснимое блаженство чувствовать, что ты не один, что есть кто-то, для кого ты дороже всего в мире, кто, просыпаясь, встречает твой взор полными любви глазами и повторяет: «Как я счастлива… А мне приснилось, что это всего лишь волшебный сон!» И, засыпая в моих объятиях, шепчет: «Нет между нами никаких преград! Сам Господь соединил нас воедино – такое счастье возможно лишь только в раю…»
Утром, любуясь чудной панорамой Дудергофского озера, мы переходили от одного воспоминания к другому и сделали целый ряд открытий.
– Вы жили на Вороньей горе? Наверное, ты ходила за водой к Дудергофским ключам? Так я тебя видел тогда еще девочкой-подростком.
– Конечно! Я заплетала тогда две косы и была очень худенькая.
– Так это ты и была! Когда я увидел твое прелестное личико с большими темными глазами и густыми бровями, я сразу подумал: «Если б я только мог знать, что ты будешь моей, я не искал бы другой!»
– Да, а потом мы жили на Кавелахтах…
– И там я помню тебя! Ты бежала вверх по улице и звала бывшего с тобой мальчика: «Коля, Коля, не отставай от меня!»
– Ну, конечно, это были мы с братом.
– Так значит, вы жили в Кавелахтах? Поздней осенью мы проходили как-то там на проездку. Дачи уже пустовали, лишь в садике перед маленькой дачкой сидела совсем юная барышня с книжкой на коленях, поглядывая на нас своими большими темными глазами… Вдруг порыв ветра, ее розовенькое платьице облаком поднялось кверху, и она, закрывая руками пылающее личико, помчалась на дачу.
– Это была я! Ах, как мне было стыдно тогда, ведь все меня видели! А вот по этой дороге, кругом озера, мы ходили на Фабриканку в торговые бани. Как-то раз, как только мы собирались свернуть в улицу, мимо нас на красивом коне пронесся молодой офицер: «Алька, Алька, – закричала моя сестренка Катя – она всегда все видела и замечала, – смотри, смотри, что он делает!.. Сумасшедший, он разобьется…»
Катя побледнела, и ей стало дурно: «Перескочил, перескочил через этот страшный ров… Вот он уже несется по дороге на Военное поле…»
– Это был я! Я садился на коня перед собранием и едва занес ногу в стремя, как мимо пронесся элегантный кабриолет с двумя шикарными дамами. Скакать за ними по дуговой дороге было бы неудобно, перегонять еще хуже. Я пошел напрямик.
Два дня назад по тому же пути проскакал начальник кавалерийской школы полковник Кайгородов, тренировавший своего кровного коня. Вообще, я избегал брать барьеры, желая всеми силами сохранить идеальные ноги моего скакуна. Но тут меня захватило, и я широким галопом понесся на препятствие. В темп галопа он взвился на невероятную высоту и махом перенесся через ров… Прыжок был так размерен, спуск так эластичен, что я не почувствовал толчка. Поравнявшись с кабриолетом, я отсалютовал в ответ на восторженные улыбки дам и помчался далее на Военное поле.
– Так вот я и не догадывалась тогда, что мимо меня пронес лось мое счастье! Потом на Дудергофском вокзале, где мы провожали Гугочку Бере перед отъездом в Маньчжурию, Катя подозвала меня: «Вот, смотри, тот офицер, который сделал такой сумасшедший прыжок». Но пока я оглядывалась во все стороны, ты уже исчез.
– Глаза большие, а ничего не видит, – говорила потом Катя. Однажды утром она проснулась какая-то совсем особенная. Глаза ее сияли каким-то чудным светом. Сидя на постели в своем матине и легких туфельках, она удерживала меня за рукав мундира:
– Не уходи, Дуська мой, я хочу рассказать тебе, что я видела во сне. Я видела, что сижу на той скамеечке, что ближе всех к домику Петра Великого, на вершине Дудергофа. Вдруг ко мне подходит твоя Маруся, такая светлая и радостная, обнимает меня и говорит: «Ну вот, я отдаю тебе моего Заиньку!.. Береги его…» И я проснулась.
– Но как же ты узнала ее? Ведь ты ее никогда не видела!
– Нет, нет, мы были знакомы; когда я гуляла с Гугочкой перед его отъездом на войну, я часто встречала ее. Она жила на шоссе на даче Иголкина и, когда я проходила, всегда говорила мне что-то приятное. Однажды она сказала мне, что она безумно счастлива, что у нее такой чудный жених офицер.
Шел дождь, и я дала ей зонтик, чтоб добраться к себе.
– Так это про тебя она все мне рассказывала? Ведь она мне показывала твой зонтик и сказала, что ей одолжила это «одна чудная дамочка» и что она желала бы, чтоб я представил тебя ей… Но почему же ты раньше ничего не говорила мне об этом?
– Я видела, что с переездом в Дудергоф на тебя вновь нахлынули воспоминания, и не хотела волновать тебя. Но теперь ты должен успокоиться. Она сама соединила нас своей любовью.
Скамейка под домом Петра Великого была та самая, на которой впервые сидели мы с Марусей в наше первое свидание.
– Видишь, как все чудесно! Мы самим Богом предназначены друг для друга… Ну, а теперь ступайте, – добавила она, улыбаясь, – можете ехать в Петербург, но помните: на ходу с трамваев не прыгать, на барышень не засматриваться и не забывать вашей Альки!
Так вот что значат товарищи и дружба! Вот к чему приводит незапятнанная, безукоризненная служба, покрывшая блеском родную часть, ставшую недосягаемым образцом для других: без минутного колебания бросавшуюся на спасение попавшего в мышеловку монарха, на выручку охваченной пугачевщиной крепости, щита столицы!
Среди недавно попавших к нам офицеров нашелся один, который, болтаясь среди гуляющей по Дудергофу толпы, наткнулся на сведения о семье, в которой провела детство моя Аля.
Его не затронуло то, что Долгорукие и Татищевы доискивались ее руки, что ее сердце не тронулось ни блеском короны наследника сиамского престола, ни бриллиантами, ни золотом и что она отдала его простому офицеру, которого полюбила с первого взгляда, которого ждала, как обещанного ей Богом спутника всей жизни.
Ему нужно было докопаться, что когда-то, в минуту полного отчаяния, потеряв все нажитое богатство вследствие временного банкротства отечества, вызванного войной, проигранной малодушием выродившейся интеллигенции, глава этой семьи был вынужден схватиться за первое, что попалось ему под руку, и стоять за прилавком своего буфета…
Когда мне бросили это в лицо те самые, которые годами жили в обществе случайных подруг, отдавались за деньги, не брезгали чужими женами, я предложил поединок неизвестному доносчику. И когда мне было отказано в его имени, снял мундир, предпочитая любовь верной жены фальшивой дружбе.
Когда я сошел с крыльца и сел на коня, в соседнем полку раздались звуки марша – это было мне прощальным приветствием.
– Прощай, мой верный товарищ, – говорил я, в последний раз трепля по шее моего неразлучного друга. – Прощайте и вы, дорогие! Передай им, – сказал я ординарцу, – мой последний горячий привет. Они уже не увидят меня более!
– Мы давно знали все, – отвечал мой вестовой, – это все из-за нас!
– Алечка! Под нашими ногами раскрылась пропасть!.. Но Господь нас не оставит. Мое имя блеснет еще раз среди тех, кто никогда более не удостоится моего рукопожатия!
Узнав от Сережи о происшедшем, Великий князь Сергей Михайлович вызвал меня к себе.
– Я беру вас в свое управление. Но не волнуйтесь. Вы будете командированы в Артиллерийскую школу, и затем я дам вам лю бую батарею. Я знаю, вы отличный работник, вы везде найдете себе будущее!
Перелом
По возвращении с Кавказа мы сняли прелестную квартиру в пять комнат на Заротной улице, в самом центре моих родных. Обставили ее очень уютно и радовались на свое счастье. Так как у нас оставалась еще одна, совершенно лишняя комната, в ней поселилась, по особой рекомендации, мадемуазель Мачинская, серьезная девушка, кончавшая инженерные курсы. Она нам нисколько не мешала, работала целый день дома или на курсах и придавала семейный уют. Достали хорошую прислугу и завели чудного породистого фокса, оживлявшего квартиру в мое отсутствие. Когда я возвращался домой, я всегда приходил в восторг при виде моей Али, в своем легком платье сидевшей на низком диванчике зеленого гарнитура с беленькой собачкой у ног. Вечера мы почти постоянно проводили у Мишуши, в доме Гарновского, где, кроме его семьи, жила сестра Махочка с дочерью. Иногда ездили к тете Аде, к другим братьям или к папе. Но насколько папа очаровал мою Алю, настолько мачеха сразу же заставила ее насторожиться.
В первое же свидание она задержала Алю у себя в спальне и долго с ней разговаривала. От нее Аля вышла расстроенная, сразу собралась домой и, когда мы очутились на улице, резко обернулась ко мне:
– Может быть, и вы такого же мнения?
– Какого?
– Как ваша мачеха?
– Не думаю! Ведь ты уже давно могла заметить, что все мы относимся к ней более чем сдержанно. В семье нашей мамы всегда господствовали особые взгляды.
– Ну хорошо… Знаешь, о чем она мне говорила? Она начала внушать мне, что жена бедного офицера и сама должна уметь подработать себе на тряпки и на другие вещички, а не висеть на шее мужа и его родных. И, если понадобится, посодействовать его карьере, суметь завести отношения с его начальством и обеспечить ему будущее.
– Какая низость! Аля моя, неужели ты могла думать, что я придерживаюсь подобных воззрений?
– Я и не думала… Но меня взорвали ее слова. Разве в вашем доме говорилось что-либо подобное?
– Никогда! Но и все мы, дети нашей мамы, глубоко презираем эти взгляды и держим себя корректно с мачехой только ради папы.
– Ну, тогда я уже тебе во всем признаюсь: я была в Перинной линии, разглядывала новости, вдруг слышу за спиной мою фамилию. Я насторожилась.
– Вы говорите, младший сын Тимофея Михайловича? Этого не может быть! И сам он, и все его сыновья – краса и гордость гвардейской артиллерии, а младший – я знаю его кадетом – это эмблема чести. Я не знаю, кто с ним сравнится в благородстве души.
– Но все говорят об этом браке… Он только что женился в самой романтической обстановке, и у нее нет никаких средств. Вот они и придумали эту лотерею.
– Но я ручаюсь вам, что он не такой человек. Ни сам не пойдет на аферы и не допустит, чтоб его жена подпадала под чье-либо влияние. Это – принц. У Тимофея Михайловича есть дети от второго брака, быть может, кто-нибудь из них и пошел по следам матери».
Я обернулась на говоривших и встретилась глазами с мужчиной. Его лицо было мне знакомо, по-видимому, и он узнал меня.
– Во всяком случае, я против благотворительной лотереи с коммерческим интересом», – сказала дама, прощаясь.
Мужчина обернулся ко мне:
– Простите меня, но я уверен, что мы знакомы, – сказал он, снимая шляпу. – Я – Иван Николаевич Калачов, управляющий делами Великого князя Михаила Николаевича. Не могу только догадаться, где я вас видел.
– И я вас узнала, – отвечала я. – Но незачем далеко ходить, мы познакомились в доме Беляевых, я ведь жена Ивана Тимофеевича.
– Ну, в таком случае от души и вдвойне поздравляю вас обоих. Вы можете гордиться своим мужем, а он – своей прелестной женой!
Как я была счастлива услышать это про моего принца!
Канцелярская работа была совершенно неутомительна. Я приходил на службу к девяти, уходил в три и еще уделял 20 минут на завтрак. Я познакомился с состоянием нашего вооружения до японской войны, с ходом перевооружения, с отчетами военных агентов и резолюциями министров, но ответственности я не нес никакой. Бывал с поручениями в других министерствах и вошел в курс государственной машины со всеми ее недостатками. Но лично меня это не затрагивало, не ставило в постоянный конфликт с начальством или товарищами.
В три часа я ехал домой, как школьник, вырвавшийся на свободу, к моей милой, которая уже ждала меня в уютной гостиной зеленого бархата, с беленьким фоксиком на коленях, всегда с каким-нибудь сюрпризом.
– От Богуславских приглашение на «Снегурочку». Сегодня в Мариинском театре они сняли ложу и приглашают нас и своих племянников, Балюков.
Николай Аристархович Богуславский был заслуженный профессор во всех высших технических заведениях. Жена его очень любила меня с детства. Балюк был мой товарищ по скамейке. Он женился на очень милой, красивой барышне, бросил службу и достал себе место в Институте путей сообщения. Его маленькая дочка была идеалом дяди. А нас стали все время приглашать к старикам, которые жили в своем роскошном доме на Каменноостровском, или к Балюкам, где собирались их друзья.
Я никогда не бывал в балете. Даже в балетных интермеццо я не смотрел на сцену, так как отлично понимал, куда все это гнет. Но теперь, рядом с моей «Снегурочкой», ничто уже не могло меня смутить.
И вот мы сидим все вместе, рядом с литерной ложей, молодые дамы спереди, старики за ними, а мы с Балюком позади, в глубине. Впереди нашей ложи, в переднем ряду, – три александрийских гусара. Они стоят, пока поднимут занавес, и один из них все время поглядывает в нашу ложу.
В антракте дамы выходят в фойе. Исчезают и гусары. Все являются как раз к поднятию занавеса. Во втором антракте – та же картина. Дамы появляются уже в темноту.
– Зайка, Зайка, – шепчет Аля. – Обрати внимание на этих троих в первом ряду, – ее голос дрожит от волнения, щеки пылают.
– Да, у этого – посередине – удивительно знакомое лицо. Он странно напоминает портрет твоего первого жениха, Гуго Бере.
– Правда. Но это невозможно. Я ему отказала. Он уехал на вой ну, там был убит… Я плакала о нем, ездила на Стеклянный завод молиться за него… А теперь… но, Боже сохрани, не думай заговаривать с ним.
Спектакль кончился. Все мы двинулись к выходу. Но ведь надо же узнать, он ли это?
– Нет, нет, ради Бога…
Перед выходом – все трое выстроились в шеренгу. Я оставил дам и прямо подошел к старшему из них.
– Скажите, ротмистр, не вы ли павлогвардеец Гуго Бере, про которого мы слыхали, что он убит японцами?
– Я самый! Но, слава Богу, я был только ранен…
– В таком случае, разрешите представить вас вашей старой знакомой.
– Маленькая Шурочка, вы совсем не изменились!
– Так уж позвольте просить вас завтра на обед, чтоб не стоять здесь на сквозняке. Наверное, у вас найдется, что вспомнить.
…После обеда я удалился к себе в кабинет и оставил Алю со своим гостем. Через полтора часа он откланялся, чтоб возвратиться к себе в Ломжу. Он говорил, что при выходе из театра они решили взять лихачей, чтоб во что бы то ни стало узнать, что и как с Алечкой и где мы живем.
– Гугочка уже не такой, как был, стал застенчивый и деликатный. Он сознался, что после моего отказа он стал другим… А теперь все прежнее вспыхнуло в нем: «Я знаю, что я негодяй, – говорил он мне, – что я плачу подлостью за благородство вашего мужа. Но… скажите мне одно слово, и я увезу вас с собой навсегда!»
– Для меня нет другого, кроме тебя… Мы сделали ошибку, что пригласили его. Он не заслужил этого.
Через несколько дней мы опять получили от Богуславских билеты на концерт в пользу 2-го Кадетского корпуса в зале Армии и Флота. Алечке заметно недоставало обычных в ее прежней жизни балов и концертов, и она радостно торопила меня. Приходим к самому началу и занимаем места. Ал. Ив. Богуславская уже сидит в третьем ряду, слегка покачивая головою в такт музыке. Заметив нас, она пробирается к Але, садится около нее на пустое место и делится с нею своими впечатлениями.
– Как вам нравится этот квартет? Не правда ли, какие они изящные!
– Правда, все как на подбор.
– А которая вам нравится больше других?
– Та, в розовом… Она, по-моему, самая красивая и симпатичная.
– А вы не знаете, кто это?
В эту минуту я от души пожелал и ей, и мандолинисткам со всем концертом провалиться сквозь землю.
– …Разве Иван Тимофеевич никогда не рассказывал вам, что в нашем доме он познакомился с мадемуазель Медем, и, видимо, они очень понравились друг другу – но потом, не знаю почему, все разошлось. Вы не знаете, почему?
– Нет… я ничего не слыхала об этом!
В сущности, дело было очень просто. Мадам Богуславская искренно желала видеть меня супругом своей молоденькой гостьи, на которую я произвел впечатление. Мне нравился ее восточный тип, она только что кончила институт в Полтаве с первым шифром и была полна самых розовых надежд. Но я совершенно не знал жизни, кровь бурлила, и все толкало на решительный шаг. И в то же время что-то отталкивало меня… Иногда я чувствовал, что не буду в силах приковать себя к ней…
Я бывал у ее дяди, приглашал ее с подругой и тетей кататься верхом у нас в манеже. Провожал их на железную дорогу с цветами… До поцелуев у нас не доходило; я тогда считал, что первый поцелуй принадлежит мужу. Оставалось познакомиться с ее родителями.
– Мой папа немец, мама русская, а сама я хохлушка, – часто говорила она мне.
Но выяснилось, что отец ее был еврей, старый врач Полтавского кадетского корпуса, добрый и прекрасный человек, но кровный еврей.
Впоследствии, во время Гражданской войны, я заметил, что еврейские девушки находили во мне что-то, что вызывало в них искреннее и притом вполне бескорыстное влечение ко мне. Несмотря на всю разницу в положении и воспитании, я глубоко ценил эти искренние порывы и, со своей стороны, платил им искренним признанием их достоинств. Не раз выручал я их и их семейства от возмутительного отношения со стороны разнузданных негодяев, вызванного расовой ненавистью, подогретой корыстолюбием. Но все это – лишь в границах рыцарского обета защиты невинности от гнусного насилия. Я отдавал себе отчет, что вальтерскоттовская Ревекка стояла несравненно выше его бесцветной леди Роэны, но, подобно Айвенго, готовый на все ради ее жизни и чести, я никогда не мог бы назвать ее своею. Что же я мог бы ответить на вопросы ее близких? Передо мною она была святая, я открыто признавал это. В свое оправдание я мог привести лишь, что во всем виновата моя опрометчивость, что я глубоко преклоняюсь перед ее совершенствами и готов понести любое наказание.
– Смотрите, как я вас проучила, – говорила моя Аля, спускаясь по лестнице по окончании бала. – Я ни минуты не сидела, и вот мои трофеи… Ее руки были полны цветов.
Я глубоко чувствовал себя виноватым, но не перед нею… Когда мы вернулись домой, все недоразумения уже были забыты.
– Она действительно очень хорошенькая, – говорила Аля, – мы там с ней познакомились. Не сердись на меня, Заинька, я вспылила, меня уж очень подзудила Богуславская. Я ведь все это слыхала от тебя, не хотела только говорить с ней об этом… Но мне было очень весело. Вокруг меня все крутились, не хотели отходить. Поднесли массу цветов, а Николай Аристархович – самый большой букет – было чудесно!
Николай Аристархович вскоре еще раз отличился. Он вообще был большой чудак: раз, по капризу внучки, снял для нее целый трамвай, «чтоб покататься вдвоем». Другой раз мы ужинали у Балюков. Вдруг он подходит и шепчет на ухо Алечке: «У вас теплая шубка? Да? Ну, я пригласил несколько троек, поедем на острова».
Головокружительная быстрота коней, мчавшихся вихрем под голубой сеткой, под звон бубенцов, шикарный кучер в шапке с павлиньими перьями, сверкавшие бриллиантовой пылью деревья и берега, – все это промелькнуло перед очарованными взорами наших дам. И когда, наконец, мы очутились в нашей теплой уютной спальне, с Джилькой, радостно прыгавшей перед нами, чтоб лизнуть в лицо свою хозяйку, мы еще сильнее почувствовали уют домашнего очага и невыразимое счастье остаться вдвоем.
– Ах, Зайка, как хорошо! Джилька, дай мне раздеться! Какой он славный, Николай Аристархович! Джилька, не сумасшествуй! Зайка, ведь он все сделал только для меня, он знает, чем меня побаловать!
Но на Пасху старик превзошел самого себя. Я делал визиты, а Аля нежилась в кровати. Вдруг звонок… – визит! Она едва успела накинуть матине… «Скажите, что еще спят!» Но любопытство толкнуло ее к окну; внизу, подле швейцарской, стоял Николай Аристархович в шубе и с шоколадным яйцом невероятной величины в руках, тоскливо поглядывая на наш балкон…
– Заставили меня подняться второй раз на шестой этаж, – бор мотал он, христосуясь, – правда, я к вам первой!
Пасха была ранняя; с заиндевевшей бородой и усами и с колоссальным яйцом в руках, он казался точным воплощением Деда Мороза.
В Петербурге весна приходит быстро. В начале апреля уже все говорит о ее приближении. Снежная пелена, широким саваном прикрывающая величественную Неву с ее бесчисленными разветвлениями, начинает терять свою белизну; лед синеет, местами дает трещины и, наконец, приходит в движение, ломая и унося с собою временные мостки. Нева тронулась. Река оживляется, на ней появляются ялики и мелкие пароходы. По улицам слышится смолистый аромат тополей.
В более пустынных кварталах, там, где начинает пригревать солнышко, из-под снега уже журчат ручейки; приходится выбирать дорогу в тех местах, где дворники уже успели отгрести снег своими деревянными лопатами. Звонко поют петухи. Временами становится жарко.
С удивленьем видит бард: Этакое чудо – Шубы движутся в ломбард, А пальто – оттуда…
Но весна капризна. Снова дует суровый ветер, настают холода… правда, уже ненадолго.
Неожиданно на бирюзово-синей Неве появляются белоснежные обломки льда, целые ледяные поля. Это двинулся ладожский лед.
Одна за другою, огромные льдины перегоняют друг друга, лезут одна на другую и заполняют всю реку белоснежными обломками. Все снова кутаются в меха – но уже чуется победа весны: река свободна, ее плотно ослепляет яркой синевою.
И, наконец, выставляются зимние рамы. В квартиру врывается струя свежего воздуха, шум и стук городских экипажей, отдаленный звон церквей… Дрожки уже везде сменили санки, и пешеходы спешат во всех направлениях в легких пальто и весенних костюмах. Вот она, наша северная весна!
- Sun is shining, ice is broken,
- Bright’s the sky and melts the snow,
- And in human heart’s awoken
- Love of life and you and hope.[91]
– Зайка! Куда мы поедем? Ведь тянет в поле!
– Мне рекомендовали хорошенькую дачку на берегу, в Финляндии.
– Где именно? Я там бывала с тетей.
– В Оллиле. Там, говорят, скромно, тихо и недорого. У самого берега.
– И Джильку заберем?
– Разумеется!
Сказано – сделано. Вот мы уже на даче. Каждый день в четыре часа я уже дома, как истый дачный муж, до небес нагруженный пакетами. К поезду выходит Аля с собачкой на цепочке.
– А здесь очень мило! Все такие любезные! Тут рядом живет твой товарищ, высокий, красивый, с женою. Представь себе, у него такой же фоксик на цепочке. Он мне прямо навстречу, наши собачонки сцепились, начали играть, перепутали цепочки… Едва их разняли. Он покраснел, и я – тоже. Пришлось познакомиться, его фамилия Энден[92], жена его Боткина. Он даже твой родственник…
– Ну, вот тебе и знакомство… А это что за девочки?
– Ах, это мои маленькие поклонницы, Муся и Рита. Как только я выгляну, они уже начинают: «Дуська из голубой дачи, Дуська из голубой дачи!» Все время меня встречают и провожают. Уже на бегу кричат: «Моя ручка правая, моя ручка левая». Их папа бельгиец, а мама итальянка. Они перезнакомились со мною, обе такие славные и красивые. Но пойдем на пляж; очень холодно, мало кто купается, но теперь все гуляют, любуются на закат. Рядом Сестрорецкий курорт, многие заходят сюда.
На пляже разгуливали тепло закутанные дамы и мужчины в пальто. Только, видимо, чтобы не забывали, что это курорт, появилась дамочка в трико без малейших признаков платья. Ее окружала толпа поклонников. Подбежали Муся и Рита:
– Дуська, а ваш муж тоже привез конфет? Папа по субботам всегда привозит маме огромную коробку шоколада, мы уже знаем, что это значит. Дуська, когда мы будем уходить, выгляните из окошка!
– Ах, Зайка, в другой раз не забудь привезти масла. Я всюду спрашиваю чухонского масла, а они в ответ: «Тут нет чухон, тут только благородные финны». А напиваются хуже русских, вечером все ходят пьяные.
В августе мы уже были дома. «В гостях хорошо, а дома лучше». Это сейчас же почувствовали мы, когда, возвратясь в милый Питер, на нашу уютную квартирку, снова повидали всех родных и знакомых.
У Богуславских на званых обедах все было поразительно вкусно и прекрасно сервировано, и в то же время просто и патриархально. Собирались молоденькие племянники, которые потом «совещались» с тетей о своих нуждах, и два-три юных супружества – непременно Балюки с их маленькой дочкой, любимицей старика, садившейся рядом с «дедуськой» и поглощавшей все его внимание. Вначале Александра Ивановна наливала до краев полную тарелку борща и, поднимаясь, подносила ее мужу. Потом уже разносили гостям, и начинался общий шумный разговор.
В доме Марии Николаевны все было совершенно иначе. Впоследствии, уже на войне, я встречал ее гостей, которые удивлялись ее умению вести салон и едва заметно ставить каждого на свое место. «Мы прямо поражались, как ваша bellemere[93] умела держать себя с гостями – совершенно как Екатерина Великая».
На вечерах, перед ужином, нередко появлялись артисты, исполняющие под рояль красивые сольные номера и потом садившиеся за стол вместе с гостями. На больших обедах все было строго по этикету. Высочайшие гости (герцог Макленбург-Стрелицкий) помещались во главе стола. Вся столовая и салон были переполнены, и «свои» уже оставались в запасных комнатах. Там было непринужденно, были все близкие и родные. Когда все вставали, гости перемешивались между собою, и можно было встретиться с интересными людьми.
– Очень, очень рад познакомиться с супругой Ивана Тимофеевича, – говорил мой двоюродный брат Михаил Алексеевич Беляев[94], подходя к ручке моей Али. – Вы знаете, ведь вы как две капли воды походите на первую жену Тимофея Михайловича. Какое сходство! Ведь я ее отлично помню, я был тогда уже почти взрослым. Всегда буду рад вас видеть у себя.
Это очень пригодилось впоследствии, когда он был назначен на высокие должности и в конце войны – военным министром. Обыкновенно сухой и черствый, он всегда отлично принимал мою Алю и при случае всегда находил для меня слова привета.
Вторая зима пролетела еще скорее первой. Как часто мы теряем время, а когда оно уже пробежало, зовем его назад!
К постоянным свиданиям с родными, вечерам у Богуславских и Балюков присоединились и еще новые друзья. Между ними первое место заняли наши милые соседи по Оллиле: супруги Гендрике и их прелестная дочурка. Родители были горячими патриотами России: «Если б вы знали, с какой радостью мы вернулись из-за границы после долгих лет, проведенных там, – говорила мадам Гендрике. – Я готова была броситься на шею к жандарму, когда он звякнул шпорами и потребовал наши документы. Здесь все открыто, все нараспашку. А там мы задыхались, как замурованные в душной комнате…»
Появились и товарищи по артиллерийской офицерской школе, каждый уникум в своем роде: пожилой подполковник Дмитриевский, живой портрет армянского католикоса, женившийся в Риге на красивой толстой немке, которая не давала ему дышать своей ревностью; барон Таубе – по наружности точный слепок с императора Александра II, раб своего режима, которым он вызывал постоянные шутки товарищей; моложавый Бекеша, попытавшийся приволокнуться за нашей голубоглазой Анелей, которая потом не давала ему покоя, бросая на него негодующие взоры, пока не заставила покинуть поле сражения.
С переездом в Лугу, где мне надо было участвовать в стрельбах; мы сняли хорошенькую дачку в сосновом лесу неподалеку от брата Сережи, с которым поселились и Махочка с дочерью, так что Аля все утро гуляла с ними вместе. А напротив остановились офицеры 5-й конной батареи, которые, как только возвращались с поля, подходили поболтать к окошку нашей дачи.
Подъезжаем и мы с нашим веселым руководителем тактических поездок капитаном Савченко-Маценко:
– Петушок, петушок, золотой гребешок, – провозглашает он, – масляна головка! Выгляни в окошко, дам тебе горошка!
– Вы посмотрите только на Соловьева, – вторит Кологривов, толкая в бок своего товарища, – за какие-нибудь полчаса ожидания он уже вот какую дыру прогрыз в заборе.
Как-то Аля проговорилась, что хотелось бы сварить земляничного варенья, а она городская и не знает, как приступить.
– Я знаю, – говорит Соловьев.
– Вы только посмотрите, какие он наливки изготовляет, – подтверждает Кологривов. – Вчера заезжал князь Масальский, он только повел носом, сразу догадался: «Эх, Соловьев, это вы!»
А у него под столом стоит пять огромных бутылей, и одна лопнула. Соловьев на самом деле взялся за варенье.
– Вот когда кончу, скажу вам один фокус.
– Ах, скажите сразу.
– Ну как, вам нравится?
– Превосходно! А в чем же загвоздка?
– Да я ведь и сам-то в первый раз варю варенье… Это я по наитию!
Как-то раз я немного опоздал. Аля – вся в слезах – бросилась ко мне навстречу. В руках письмо.
– Так вот вы какие! Вся Луга знает об этом, а я узнаю последняя!
– Что такое? Дай письмо!
Действительно: «Негодяй муж вам изменяет каждый день, вся Луга знает об этом!..» – без подписи. – А конверт? «25-я Конная батарея, получить жене повара такой-то…»
– Покажи, покажи. Не может быть!
– Ну, читай сама – при чем же я тут?
– Ах, Зайка, Зайка, я ведь проплакала все утро…
Другой раз наши вернулись с прогулки по городу под сильным впечатлением от инвалида, сидевшего за прилавком. Его покусала моровая муха, и ему отняли обе кисти.
Вдруг слышу: «Ах, смотри, меня укусила сюда желтая муха. Что ж я буду теперь делать?»
Мы тотчас приняли все меры. Продезинфицировали палец нашатырем, приложили спиртовой компресс. Послали за доктором, а он не едет. Побежала прислуга, а его все нет. На помощь пришли соседи, послали конных вестовых… Наконец появляется врач: «Пустяки, барынька, не плачьте, опухоль уже спадает на глазах… Постойте, я переменю компресс, и будьте спокойны. Ведь вы уже не чувствуете боли, не правда ли?»
Доктор получает гонорар и садится на извозчика: «Ну, успокойтесь, все фальшивая тревога».
Подъезжает еще извозчик: «Спасибо, доктор, уже все. – Слава Богу. – Позвольте внести вам гонорар».
На горизонте виднеется еще извозчик, который наводит справки о больной; я как сумасшедший бросаюсь к нему навстречу.
– Ну и денек!.. Перезнакомились со всей Лугой!
В субботу едем провожать своих на вокзал. Слышу за спиной: «Ах, это моя симпатия, я полюбила ее с первого взгляда. Смотри, какая хорошенькая! – Это которая? – Ах, это та дамочка, которую муха укусила!»
Кавказ издавна привлекал мое воображение. Когда, больной и замученный постоянными треволнениями в моих отношениях с Басковым – я вынужден был искать спасения в перемене обстановки, я нашел его на Кавказе.
С тех пор Кавказ стал мне второй Родиной. Когда, подъезжая к Минеральным Водам, на горизонте замечаешь едва заметные очертания горных вершин и перевалов, легких, как вечерние облака, прозрачных, как мираж, душу охватывает чувство глубокое и загадочное, которому и сейчас я не могу найти объяснения.
Меня не страшили его заоблачные перевалы – с больным сердцем я пересек их семь раз… Меня не пугали его дикие тропинки, висевшие над бездной; ни засады абреков; ни ледяной ветер; ни снежные бури, настигавшие нас в горах; ни величественные грозы, бившие камни вокруг меня и охватывавшие весь открывшийся с них горизонт. Мою душу очаровывали эти ночи в лунном сиянии; и скалы, и снега, и ледники казались волшебным краем, куда уносилось мое воображение под немолчный рокот тысячи ручьев и водопадов, сливавшийся в какую-то дикую мелодию. Играла ли тут роль наследственность – капля гурийской крови, полученной от матери моего отца, Софии Захаровны Кадьян[95], предки которой под турецким владычеством были наследственными ханами Гурии, – и Хевсуры при первом знакомстве качали головами, повторяя: «Картвели, картвели – он наш по крови». А черкесские старики, видя меня впоследствии в черкеске и папахе, уверяли, что я воскрешаю в их памяти живые образы убыхских князей[96] черноморского побережья, целиком ушедших в Турцию…
– Ваше высочество! Раз приходится оставить родной дивизион, разрешите просить вас заменить его название «гвардейский» именем, которым я могу не менее гордиться: «кавказский».
– Выбирайте любую батарею любого дивизиона, какая будет только свободна. Скажите это от меня Романовскому.
И вот на моих погонах уже блестят литеры: 1. К. С. А. Д.[97] Но в час разлуки с милым Петербургом, с близким сердцу Севером, с родными, дорогими лицами, которые окружали меня с детства, увозя с собою оторванную от всего, что любила, мою преданную и доверчивую жену, готовую на все неизвестное ради меня, невольно сжималось сердце и хотелось отдалить роковую минуту отъезда… И все-таки она настала.
Все родные сидят за столом. Папочка рядом с моей Алей, мы посередине, неразлучные, как всегда: несмотря на этикет, мы всегда ютились друг к другу, вызывая улыбки окружающих, иногда – шутливые замечания нашего милого хозяина, дорогого моего Мишуши.
– Тусенька, – обращается он к жене, – ты бы поставила что-нибудь между Зайками, ну хотя бы букет или какой-нибудь большой графин. А то, видишь, Ванечка мешает Шурочке кушать суп.
– Чудо Алька, – спрашивает племянница, – вам еще не успел надоесть дядя Ваня?
Алечка бросает на меня один из тех взглядов, про которые говорили наши солдаты: «Как взглянет, то рублем подарит».
– Мой Заинька все время ютится ко мне… а к кому же другому?.. Ведь теперь нас только двое. Ему грустно расставаться со своими.
– А вам?
– Я ведь так привыкла ко всем его родным. Но с Заинькой мне не будет так жутко. Вдвоем с ним мы не скучали ни минуты. Вчера он прочел мне свое прощальное стихотворение. Хотите послушать?
- …Громко засвистали птицы,
- Зазвенело все вокруг;
- Соловьи, щеглы, синицы.
- Собираются на юг…
- За деревней, у дороги,
- Что-то много журавлей,
- Важно выпрямляя ноги,
- Маршируют средь полей.
- Вдруг поднялись, закричали
- И помчались к облакам…
- Вон мелькнули и пропали —
- Милый друг, пора и нам!
- В добрый час! Друзья, прощайте!
- Мы собрались в дальний путь.
- Лихом нас не поминайте,
- Пожелайте что-нибудь.
- Будет время – воротится
- Лучезарная весна;
- И пернатых вереницы
- Приведет сюда она.
- Закричат под небесами
- Журавли, как в этот час…
- Нас тогда не будет с вами —
- Вспоминайте же о нас…
– Ну, а теперь присядем перед дорогой, – говорит папа. – В добрый час, счастливого пути! – На его глазах блестят слезы…
На Кавказе
Сбор узденей
- Милые горы, снова я с вами,
- Радуйся, славный Кавказ!
- Будешь гордиться своими сынами,
- Снова услышишь о нас.
«…Река Волга, река Волга, река Волга», – выстукивают колеса поезда по длинному мосту, под которым внизу, в полумраке северной ночи блестит широкая полоса реки. Алечка просыпается… Утром мы уже будем в Москве. А вчера ее отуманенные глазки прощались с исчезавшими одна за другою вершинами Пулкова и других дорогих и знакомых с детства высот. Вспоминаются слова «Майской Королевы» Теннисона[98]:
- Я с лучами заката простилась, я глядела, как гаснут они,
- Унося мои детские годы, унося мои лучшие дни…
Бывало, Кавказ казался мне символом свободы и радости. Я ехал туда с жаждой чудных, незабываемых впечатлений – теперь, казалось, нас ждала там ссылка, неволя.
Но вот мы уже в купе владикавказской железной дороги, проскочили Вязьму с ее пряниками, проходим Воронеж и Лыски на Дону с их белыми мазанками. Кругом степи, бурые, пожелтевшие; уже виднеются сторожевые курганы… и, наконец, знакомые силуэты Бештау и Машука… Гор еще не видно, но вот перед закатом на горизонте вырисовываются их легкие воздушные очертания, так удивительно похожие на гряды низких облаков.
Там, у подножия, скрывается мой любимый Владикавказ, но мы сворачиваем на восток и несемся к берегам Каспия.
Утром вагон переполняется новой публикой. Армяне, татары, дагестанцы.
– Барышня, зачем такой скучный? – обращается к моей жене веселый молодой армянин. – Куда ты едешь? В Тифлис? У нас в Тифлисе нет скучный! Каждый веселый, каждый довольна… Стал скучна – ходи на мой лавка, ходи на наш Кура. Будем шашлык кушать, чахохбили, возьми чурек, вина.
Аля невольно улыбается милой болтовне радушного тифлисца, который, еще более одушевленный этим, продолжает рассыпаться в описаниях прелестной своей столицы.
– Смотри, уж фуникулер видно. Ва! Не знаешь, что такое фуникулер? Не видал гора Св. Давид?! Вот завтра пойдешь, увидим.
После этого всякий раз, когда случалось снова подъезжать к Тифлису, Аля уже сама одушевлялась, как и все пассажиры, у которых глаза начинали блестеть и лица расплывались в радостную улыбку. Казалось, струя воздуха, тянувшая с гор, вносила с собою какое-то особое чувство беспечного счастья, теплоты душевной и уюта.
Воспользоваться этим радушным приглашением так и не удалось. Переночевав в гостинице Ветцеля, лучшей в Тифлисе, но сильно смахивавшей на караван-сарай с его широким двором, обнесенным двумя ярусами номеров, мы уже мчались по Кахетинскому тракту, оставляя за собой еще чужой нам город, только что просыпавшийся при первых лучах восходящего солнца.
Это был один из последних дней чудной кавказской осени. Не пели жаворонки, которые так заливаются весной над широкой долиной красавицы Иоры, не встречались группы горцев, обычно спешивших на тифлисский майдан[99]. Но вот уже показались косогоры, на которых раскинулись немногочисленные домики Мухровани, слева поднялись гребни лесов, где на темной зелени чинар уже мелькали золотистые листья ореха, красные листы клена и других деревьев, своей осенней окраской вносящих в душу чувство неизъяснимой меланхолии. Вот мы уже в ущелье, а солнце стоит еще высоко, заливая высокоствольные леса замыкающих его вершин и коническую вершину Вараны вблизи Кахетинского перевала – мы уже в Гомборах.
Вот и она, наша Белгородская крепость, эпилог нашей юности… Я подзываю случайного солдатика, который тупо смотрит на новоприбывших, и посылаю его за фельдфебелем.
– Здравия желаем, – говорит сей последний, – так точно, есть одна свободная, доктора Бейера. Она сдается, можете прямо направляться туда. Я сейчас же вызову людей помочь сложить вещи.
Фельдфебель далеко не производил впечатления «первого из равных». Не было в нем ни отчетливости, ни умения угодить начальству, которое так характеризует эту касту, а лишь какая-то боязнь, что нарушат его летаргическое спокойствие.
– Есть у нас пролетка, а коней подходящих нетути. Да и кучер ушел в запас. А господа офицеры повсегда ходят пешки, бо недале че, – докладывал фельдфебель, вернувшись с парою солдат, фигурой и выправкой напоминавших своего начальника.
Каков поп, таков и приход.
Мы вошли в дачу, довольно живописно и затейливо расположенную в большом саду, с хорошенькой верандой, но в состоянии полного разрушения. На куче чемоданов грустно уселась моя Алечка, непрошенные слезы струились по ее щекам.
Солдаты развернули чемоданы, я быстро переоделся и пошел являться по начальству и делать визиты. Все это надо было закончить сразу. Командиром оказался полковник Кожин, тип старого холостяка, скорее напоминавший захолустного помещика. Командиром 1-й батареи – несколько более культурного вида – был полковник Шауман, дядя убийцы Бобрикова[100].
– Что ж тут делать-то, – говорила его жена, еще молодая жен щина, дочь курского лавочника, – водимся с командиром дивизиона да с двумя-тремя семейными, а больше никого. Все индюшки да индюшки, хоть бы козой угостили. Только что разве Оат достанет через батарейную лавочку, коли не протухнет по дороге.
В Петербурге мы ликвидировали всю нашу мебель. Тащить ее сюда было бессмысленно: на деньги рассчитывали приобрести новую. Когда я вернулся, оба вестовые «раздостали» кое-что на первое время, и с закатом солнца, при керосиновой лампе, стало немного уютнее. Вечером подошел Оат, хорошенький молодой человек, пришедший первым отдавать мне визит. Он только что вернулся из Питера, куда был командирован для ознакомления с новой горной пушкой и где познакомился с моим братом Тимой.
– Если что надо, прикажите, мы живо все достанем, посуду и вещи. А потом сами добудете.