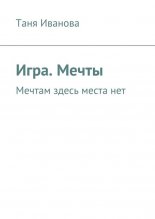Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева Беляев Иван
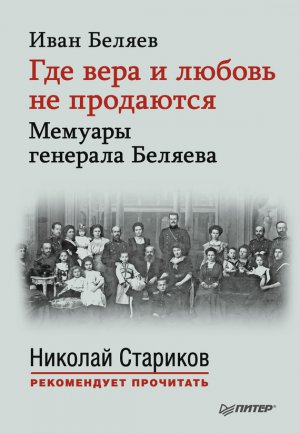
Потянулись и мы по дороге в Карс, где общий сбор оканчивался штурмом крепости на высотах Ибрагим-табии, откуда открывался вид на все исторические места, взятые приступом в турецкую войну. В ушах звучали слова солдатской песни:
- По фронту наш полковник отважный проскакал. —
- Ребята, не робейте, – он ласково сказал.
- Кавказские вершины, увижу ли вас вновь?
- Вы, горные долины, кладбище удальцов.
Разбор маневра кончился забавным эпизодом. Молодой корпусной командир, генерал Клюев, по окончании его обратился к собравшимся:
– Между нами я вижу несколько героев Порт-Артура. Быть может, теперь, на этих высотах, они припомнят какие-либо слу чаи или легенды, драгоценные для тех, кто еще не был на войне, и поделятся с нами этими, так сказать, перлами своего боевого опыта.
На лице Махмандарова, к которому, в сущности, был обращен этот вопрос, промелькнуло озлобленное выражение.
– Мы применяли на войне все то, чему нас учили существующие инструкции, – сухо отвечал он, – своего мы не вводили ничего.
– Быть может, вы поделитесь с нами чем-нибудь? – обратился Клюев к седому выслужившемуся из юнкеров командиру 4-го полка, на простодушном лице которого было написано искреннее желание сказать что-то.
– Так, ничего особенного, ваше превосходительство, а была-таки у нас своя сноровочка…
– Ну вот, вот, расскажите, пожалуйста.
– А вот, ваше превосходительство, брали шпагат (он выговорил «Г» по-хохляцки).
– Шпагат? Что это такое?
– Шпагат, ваше превосходительство, – тоненькую веревочку.
– Ну, и что же?
– Вперед полез разведчик со шпагатом в кулаке. А за ним связь, держась за шпагат… другой, третий… Опасно, нужно придержать, разведчик дернет за шпагат – и все стоят. А можно вперед – разведчик дерг-дерг два раза – и все опять идут. А за связью ротный, держится за шпагат, а за ним взводный 1-го взвода, а за ними…
– Экой чудак, – произнес громким шепотом только что выпущенный из Академии капитан Морозов, – ведь этак он, пожалуй, целую дивизию нанижет на шпагат.
Полузадушенный смех окружающих помешал мне расслышать заключение этого доклада и резолюцию начальства.
Вторая зима в провинции прошла для нас еще оживленнее первой. Кроме прибытия целой пачки молодежи, облегчившей мне работу, а для Али создавшей атмосферу большой семьи, со всех сторон появились новые друзья. Кроме милой, скромной семьи Кузнецовых и Постовских то и дело мы заезжали к Каджарам, где Рохсара-ханум с Фирузой, а когда бывали дома, и принц с сыном-кадетом встречали нас, как родные. Алечка ходила с Фирузой в театр или «кружок» с Постовскими. Там они познакомились с родственниками Фирузы, дочерьми старого генерала Каджара, приятеля Махмандарова, с семьей доктора Габаева, где встречались с его сыном и его неразлучным товарищем Шервашидзе, прославившимися своими шалостями и беспрерывно сидевшими на гауптвахте за свои «подвиги». В Тифлисе она обшивалась, освежалась и отдыхала от своей роли хозяйки и потом возвращалась с целым ворохом забавных рассказов.
Первый артиллерийский сбор выяснил превосходную подготовку батареи, вышедшей почти без офицеров, кроме лишь Кузнецова, медлительность и страх перед начальством которого сильно отражались на работе батареи, особенно тогда, когда требовались быстрота соображения и команды. И тем не менее батарея стала сразу же во главе прочих, и начальник батареи, бывший пугалом для невежественных и ленивых, тотчас же оценил это. Но второй артиллерийский сбор уже был для нас рядом триумфов. Великолепно выдрессированная прислуга, где каждый номер был сознательным наводчиком, где каждый фейерверкер готовым взводным командиром, каждый строевой солдат – прекрасным наездником, при двух отличных молодых офицерах, вполне подготовленных и быстрых в исполнении, – это служило гарантией непрерывных успехов.
По окончании общей программы все показанные стрельбы поручались только нам. Апофеозом была ночная стрельба при свете прожектора по движущейся цели, для которой давалось всего 2–3 минуты при самых тяжелых условиях наблюдения. Я выставил боковых наблюдателей и скоростью стрельбы (не говоря об идеальной меткости) побил все рекорды.
Махмандаров был поражен. Но когда ему доложили о предельной скорости огня – он пришел в ярость. Прочие командиры уверили его, что это невероятно.
– Слушайте, – возмущался он, – вы можете втирать очки пехоте, но я ведь старый артиллерист… 19 секунд выстрел – никогда не поверю.
– Извольте сравнить с записями наблюдавших контролеров. Они показывают еще большую быстроту стрельбы.
– Хорошо. Я сделаю вам проверку, и если вы дадите скорость огня хоть немного меньшую, объявлю в приказе, что считаю это невероятным рекордом.
Проверки делать не пришлось. На другой день получена была телеграмма, что генерал-инспектор артиллерии Великий князь Сергей Михайлович через три дня прибудет на полигон для смотра боевой стрельбы 39-й артиллерийской бригады, Кавказского горного дивизиона и 1-го Кавказского стрелкового дивизиона. Это уже был экзамен самому Махмандарову.
– Ну, дорогие, – говорил я солдатам, – настал час, к которому я готовил вас все эти два года. Я знаю, чего хочет Великий князь, и думаю, он останется нами доволен. – Не извольте сумлеваться, ваше высокоблагородие, – дружно отвечали мои молодцы. – Не подкачаем. Мы уже не те, что были год назад…
Наша стрельба была назначена на семь часов утра. Накануне Великий князь присутствовал на стрельбе 39-й бригады и конно-горного дивизиона и остался ими крайне недоволен. Когда наши батареи выезжали на позицию, я получил приказ открыть огонь по дальней артиллерии и немедленно сообщить данные пристрелки. Свита Великого князя и высших генералов провела лошадей через мои телефонные линии и порвала связь с батареей. Но у меня были превосходные сигналисты. Не теряя ни секунды, я повторил приказания флагами, и загремели выстрелы. Низкими разрывами все восемь орудий задымили всю цель. Новая очередь – небольшой перелет… Вилка взята и передана соседям. Я переношу огонь по поднявшейся пехоте – та же картина; по перебежкам – видно, как вылетают дреки и падают мишени подвижной цели.
– Видите, как стреляет мое управление? – говорит Великий князь. – Полковник Бородаевский! Видали, горные шрапнели рвутся как по ниточке. А ваши? – он показал рукой зигзаг. – Нет, это не материальная часть виновата.
Секрет был в том, чтоб внушить солдату, как справляться с мертвым ходом. Мы устранили его, подводя все механизмы с одной стороны, а понимания этого достигали стрельбой пулею из орудия.
– А вы поедете в Петербург в комиссию по перевооружению представителем от горной артиллерии, – продолжал Великий князь, обернувшись ко мне. – Уверяю вас, господа: ни во Франции, которая гордится своей стрельбой, ни в одной батарее нашей артиллерии я не видел ничего подобного. Спасибо, молодцы, за отличную службу.
– Рады стараться, Ваше Императорское высочество! – загремели мои герои. Я вскочил на коня и повел их домой, по пути осыпая всех и каждого ласковыми словами и поздравлениями.
– Сейчас нам осталось только одно испытание, – говорил я им, – это – война.
Война была уже не за горами – и мы были готовы.
Много позднее я получил приказ по артиллерии, повторивший лестный отзыв Великого князя, распространенный на все три батареи нашего дивизиона.
Под окнами Собрания нас ждала музыка. Под звуки артиллерийского марша я поднимал бокал за бокалом за батарею, офицеров, за каждого солдата, за нашу славу в мире и на войне. И в заключение тигровым прыжком вылетел из окна и, подхваченный в воздухе руками трубачей, еще и еще взлетал в небеса по всему пути в наш барак.
– Ура, ура! – раздавалось со всех сторон. – Ура! – отдавалось из столовой, где наши молодцы получили по чарке водки и праздничный обед.
Отуманенный шампанским и опьяненный головокружительным успехом, делился я радостью с моей Алечкой, которая, не отдавая себе отчета во всем происшедшем, радовалась моей радостью. Она была вне себя от счастья, когда поняла, что на несколько месяцев мы уедем в Питер, увидим всех близких, родные очаги, милый, милый Петербург… Уедем с триумфом, достигнутым на глазах всего лагеря, и появимся среди родных, окруженные ореолом громкой похвалы от скупого на слова генерал-инспектора всей русской артиллерии.
Грустно было одно. Великий князь резко обошелся с Махмандаровым, с которым мы так успели сродниться, но которого он недолюбливал. Обиженный старик подал рапорт по общему командованию вместе со своим старым другом генералом Ирмановым; оба они получили пехотные дивизии, с которыми впоследствии прославились на войне. Больно было также оставлять, хотя и на время, родную батарею, солдат, дорогих офицеров, милые Гомборы и ставший таким близким и родным Кавказ с его дремучими лесами, альпийскими лугами, снеговыми вершинами и хребтами, нависшими ледниками – и все, и все…
Петя Коркашвили провожал нас до Тифлиса. Ночь мы провели у Ветцелей, и я слышал, как он рыдал, как дитя, думая о предстоящей разлуке… Промелькнула Военно-Грузинская дорога, скрылся из глаз Владикавказ. Экспресс уносил нас на Север, а солнечные лучи догорали на исчезавших вдали линиях Кавказских гор… Со слезами радости, со слезами грусти глядели мы друг на друга, опять одни, опять вдвоем, тесно сплетясь руками на пороге этого нового этапа нашей жизни.
Накануне
- «Еще раз, братья, обернемся
- К местам, где прожили года.
- Мы не вернемся, не вернемся,
- Мы не вернемся никогда»[111].
Этот год, пожалуй, счастливейший в истории России, был последним счастливым годом и в нашей жизни. Мало думалось о том, что ожидало нас впереди…
По мере приближения к Петербургу мы стряхивали грустные мысли, и перед нами вставало радостное «завтра». Чем далее, тем веселее становилось наше путешествие. Осень завалила своими дарами все на нашем пути. На каждой станции виднелись пирамиды абрикосов, винограда, яблок и груш, стояли возы с арбузами и дынями. На платформах суетились бабы с крынками топленого молока, зажаренными курами и поросятами. На станциях нас ждали накрытые столы с дымящимся борщом, жарким… Все дышало довольствием и изобилием.
Солнце сияло всю дорогу до Москвы. Под Питером нас пора зили чащи тонкоствольных берез, осины, пустыри, занятые городом, и дым тысячи фабрик, сливавшийся с серыми тучами пасмурного неба. Но «и дым Отечества нам сладок и приятен»… Вот мы уже мчимся по знакомым улицам, влетаем по парадной лестнице дома Гарновского; звонок – двери отворяются, и мы бросаемся в объятия родных…
– Тетя Аля! Зайка! Как вы загорели у вас там на юге!
– А это кто же? Дети? Боже, как они выросли! Какая чудная у вас квартира! А где же Махочка и Ангелиночка? Живут подле папы на Сергиевской? Получили наследство?
– Вы, конечно, у нас – вот ваша комната, подле нашей спальни. Тут дети не будут мешать вам. Идите к себе, раздевайтесь, помойтесь, и сразу же будем обедать. А ты надолго? На два месяца! Ну, будет время потолковать обо всем.
Ночью мы кувыркались на большой городской постели, прыгали по паркету, гоняясь друг за другом, как дети, пока не раздался голос из соседней комнаты:
– Может быть, у вас что-нибудь случилось, что вы так распрыгались?
Сбылось предчувствие нашей милой тети Ади. Она скончалась, не дождавшись нашего возвращения. Умер в Варшаве и профессор А. Л. Блок, муж моей сестры[112].
Первая жена его, восемнадцатилетняя дочь профессора Бекетова[113], известного ботаника, покинула мужа сразу же после замужества и вернулась к родным с ребенком. Через несколько лет после этого А. Л. стал ухаживать за моей сестрой, которая жила в доме отца, тогда командовавшего 4-й батареей 3-й бригады. Положение ее в доме мачехи было тяжелое, она преподавала в гимназиях… Будучи религиозной, как вся наша семья, она постоянно бывала в церкви. Блок все время являлся туда же, становился за нею, опускался вместе с ней на колени и производил впечатление кающегося грешника, обожающего свой идеал.
Летом сестра уехала к нам в деревню, где находился и я с родными. Мне было всего 14 лет, я ничего не понимал в ее разговорах с тетей Туней, которая была, видимо, против брака. Осенью другая моя тетя потихоньку от сестры пошла к Бекетовым и просила профессора сказать ей чистосердечно свое мнение о Блоке. «Человек он порядочный, – отвечал старик, – но ваша племянница не уживется с ним и года. Его обуревают такие страсти, что при всем желании она не останется с ним».
Так и случилось: первый ребенок родился у нее мертвый, вторая, девочка, рисковала погибнуть, и сестра решилась бежать. Тетя Туня прислала ей телеграмму от имени отца, которой он звал ее проститься перед смертью.
– Я предчувствую, что ты ко мне не вернешься, – сказал Блок, – но Тимофей Михайлович не позволит себе солгать. Поезжай.
Отец не мог простить тете ее обмана, но сестра спаслась от верной гибели. Ее приютил брат мой Михаил и, когда муж приехал требовать ее обратно, твердо настоял на отказе. Блок клялся, что в корне переменит свое поведение, сестра волновалась между горькой правдой и иллюзиями, но брат настоял на своем.
Девочка была в ужасном состоянии. Она заикалась, и это осталось у нее даже до окончания педагогического института, где она получила золотую медаль, и это же помешало ей следовать своему призванию: быть учительницей.
Умирая, Блок оставил все сыну. Его пенсию профессора выхлопотали сестре, которая тогда служила в гимназии, где воспитывалась ее дочь, и обе ютились под кровом самоотверженного брата.
Александр Александрович Блок познакомился с сестрою уже после смерти своего отца, который оставил ему все. С редким великодушием он принес ей половину наследства (75 тысяч), представился со своею женой, эффектной дамой, дочерью профессора Менделеева, и затем стал часто бывать в нашей семье. Все время он проводил с сестрою, сидя на диванчике в темном углу зала. Ангелина[114], прелестная, чистая, даже святая девушка с привлекательной наружностью, с нежным сердцем, сильно реагировала на все, что могло коснуться ее брата, который, со своей стороны, почувствовал к ней неотразимое влечение. О чем они беседовали, посторонние могли только догадываться. Думаю, что одна лишь «мамти», с которой Ангелиночка делилась всем, могла знать происходившее.
К чаю все собирались в столовую. Общий разговор завязывался.
– Скажите, Александр Александрович, – говорил простодушно мой брат, – отчего я никак не могу понять ваших стихов? – Ангелиночка бросала на него взгляд, полный упрека.
– Чтоб понять стихи, – скромно отвечал поэт, – нужно особое настроение.
Впоследствии, в конце 16-го года, Ангелиночка, как всегда застенчивая, робко подошла ко мне.
– Дядя Ваня, у меня к тебе большая просьба!
– Прикажи.
– Александра Александровича призывают. Он хотел бы узнать, не возьмешь ли ты его к себе вольноопределяющимся.
– С радостью! Будь спокойна, я сделаю для него все.
Она бросила на меня благодарный взгляд: «Ты знаешь, он очень изнежен… Утром он не может встать с постели, не напившись чаю. Он боится всех этих суровых испытаний, которым он будет подвергаться у вас».
– Пусть не боится, мы его побережем. Я буду держать его у себя в штабе; он помаленьку втянется в нашу жизнь, сам не замечая. Без чая мы его не выпустим, – прибавил я смеясь, – если я сам не буду иметь чего-либо, он всегда получит желаемое.
Несколько месяцев спустя Блок устроился в «земгусары». Теперь сестра моя устроилась в скромной квартирке на Сергиевской улице, на втором дворе, на четвертом этаже, но со всеми удобствами. Она завела себе нашу деревенскую Феклушу в качестве кухарки, с племянницей Сашей[115] вместо горничной. Одну комнату отдала старшей дочери дяди Феди, который скончался после японской войны, а маленьких его детей брала в отпуск из института и корпуса. Сама с Ангелиночкой постоянно ходила в церковь и держала себя как святая.
Это, впрочем, не мешало ей принимать молодежь, старших Эллиотов, служивших в Преображенском полку[116]. Алечка, ее подруги, а также заезжие офицеры вносили в их жизнь живую струю, играли на рояле, пели, хотя сами хозяева держались как-то в стороне.
Как-то за обедом, после визита одного молодого человека с еврейской фамилией Фишер[117], всегда молчаливая и сдержанная, Ангелиночка обратилась к моей жене:
– Чудо Алька! Скажите мне, пожалуйста, какого вы мнения вообще о евреях?
– Что же я могу вам сказать? – отвечала Аля. – Я ведь не знаю их как народ. Но между ними я встречала, и не раз, прекрасных, достойных людей, которые превосходно относились ко мне.
– Чудо Алька, – сказала задумчиво Ангелиночка, – вы действительно чудо, Алька! – Это название, которое как-то сорвалось с моих губ, так и осталось за нею.
Отец мой, уже генерал от артиллерии и почетный опекун нескольких институтов, доживал последние годы. Мачеха увезла его на дачу где-то за Нарвой, по Балтийской железной дороге, и я поехал к нему туда. Он уже заметно сдал и относился ко всему пассивно, но мое прибытие оживило его. Вскоре он вернулся в Питер и поселился на Греческом пр. № 6, где она (мачеха) устроила ему небольшую, но вполне аристократическую квартиру.
Как ни странно, но на старости лет он начал писать масляными красками прекрасные портреты.
Прочие братья были уже на зимних квартирах. Дети их подросли, но жены, все еще цветущие и моложавые, придавали уют и прелесть их вполне налаженному и счастливому очагу.
Заседание Комиссии по перевооружению артиллерии открыл мой двоюродный брат Михаил Алексеевич Беляев, впоследствии последний военный министр Российской империи. Выказав большую заботливость о прибывших артиллеристах и их личных нуждах, он сказал несколько общих фраз и передал председательство своему помощнику генералу Каменскому, моему товарищу по артиллерийскому училищу.
– Надо знать, господа, – начал Каменский, – что мы делаем все усилия, чтоб догнать рост вооружений Германии… К 1 января 1916 года мы надеемся достичь этого. Времени мало, и, чтоб не задержать хода вооружений, мы должны ускорить свои работы. Сейчас распределим их и назначим сроки. От времени до времени будем собираться для обмена мнений. Благоволите оставить свои адреса и, по возможности, телефоны.
Казалось невероятным, чтоб в Европе нашлись сумасшедшие, которые пожелали бы разрушить все успехи мирового прогресса, достигшего, казалось, апогея. Мы приписывали это безумие Кайзеру. Это была грубая ошибка. Это безумие охватило весь германский народ, и начало болезни надо искать еще сто лет назад.
«Если правительство твердо, а народ верен своему правительству, то нет силы в мире, которая могла бы сокрушить его», – эти слова Клаузевица, сказанные им после наполеоновских войн, вошли в плоть и кровь тевтонского племени. С присущей им методикой немцы ковали оружие, испытывая его на слабых соседях – Дании, Австрии, Франции, но это была лишь подготовка к мировому владычеству. «Все или ничего» – стало девизом Германии.
В 1910 году Кайзер сделал попытку вовлечь Англию в Мексиканскую авантюру, надеясь столкнуть две величайшие мировые державы, С. Ш. и Англию, и завладеть морями. С Россией можно было подождать. Японская война низвела ее на степень второстепенной державы, и она и так была под ферулой могущественной немецкой партии. Немецкая фамилия была дворянским титулом, купленная в Берлине за 8000 рублей частица «фон» делала аристократом. Чтоб сделать карьеру, надо было жениться на немке или закончить образование в Германии. «Умлаут»[118] давал доступ ко двору – Рейн становился Рейном. Можно было быть сыном простого мужика, но германофилом – и доверие высших сфер открывало карьеру.
Первым прозрел император Александр II[119], он женился на природной русской княжне и уже дал новый курс политике, но он погиб. Преждевременная кончина русского душой императора, Александра III вновь оживила германофилов. Все это сулило Германии паралич русского фронта. Кайзер решил довершить его трактатом в Биорке, необдуманно подписанным Царем.
Но обстоятельства еще раз изменились. Победа славян над Турцией вызвала новое вмешательство центральных держав на Балканах. Необычный рост России, вооружившейся с помощью Франции, назревавший союз с Англией вызвали необходимость немедленного решения.
Но все еще не верилось в неизбежность мировой катастрофы…
С зажмуренными глазами встретили мы 1914 год.
Счастливые и отдохнувшие, возвращались мы из Питера… Нас уже не пугали чуждые небеса, чужие лица. Все казалось родным. Тотчас по приезде ген. Абациев сообщил мне о новой попытке со стороны моего ближайшего начальства. Полковник Кожин дал мне возмутительную аттестацию, могшую погубить всю мою карьеру. Когда ее открыли, представитель аттестационной комиссии заявил Кожину, что если он немедленно не переменит ее на соответствующую, то комиссия единогласно подпишет ему волчий паспорт и он уйдет в отставку ошельмованным. Угроза подействовала.
Когда мы приехали в Гомборы, все было тихо и спокойно. Батарея была в великолепном состоянии, служба доведена до идеала. Молодые и женатые, все с восторгом встретили наше возвращение, один только Коркашвили первое время пытался держаться в стороне, но тотчас же и он не выдержал и снова занял обычное место у нашего очага.
По инициативе Расторгуева меня выбрали председателем офицерского собрания, прося организовать его в хорошеньком домике, который мы сняли подле церкви, где проходило шоссе. Мы тотчас же оборудовали его по образцу прежних наших работ, все было обставлено чрезвычайно уютно, и он сразу же послужил нам не только для приема проходивших пластунских батальонов, но и для более редкой цели.
Молоденький офицер, только что назначенный ко мне в батарею, уже женился на прелестной княжне Амираджиби, которая с матерью и сестрами явилась умолять выхлопотать ему разрешение раньше положенного срока. Переговорив с командиром дивизиона, мы нашли выход. Жених подал мне рапорт о вступлении в брак, не дождавшись разрешения, за что я арестовал его на две недели – но за неимением гауптвахты – в офицерском собрании, где молодые и провели счастливо свой медовый месяц. Молодежь все время посещала их, родные безотлучно находились подле них, словом, все были в восторге, и слепая Фемида зажмурилась еще более.
Занятия наши шли своим чередом; чтоб увеличить интерес, мы приняли участие в зимней стрельбе с пехотой, и в одно прекрасное утро на вьюках поднялись на вершину Вераны, откуда дали пушечный выстрел, прокатившийся по всем горам. Герой Дзюба внес на плече главную часть орудия туда, куда уже никто не мог пробраться со вьюком.
– Это оставил его прадед, – говорили солдаты, убиравшие мой кабинет, указывая на олеографии, изображавшие долину Рейсы и знаменитый Чертов мост – память швейцарского похода, – тот ходил с Суворовым, да и этот не отстанет.
В этом году наши весенние смотры закончились блестящим праздником в честь начальника бригады.
…Молчаливая долина под окнами нашей резиденции, прорезанная белыми зигзагами шоссе, сегодня полна народа. Все жители и многие горцы из соседних селений уже здесь, даже раньше, чем первые лучи солнца озолотили скалистую вершину Вераны, замыкающую амфитеатр. По зеленым откосам боковых косогоров виднеются группы солдат, заканчивающих дорожку, трассированную для пробега в конной запряжке. Другие расставляют машины для рубки с коня – высокие прутья, соломенные жгуты, натянутые на машины, конусы свежей глины, набитые травой чучела в рост всадника и пехотинца, которые наездники будут колоть и рубить под всякими углами.
Начальник бригады подъезжает в коляске и под звуки артиллерийского марша здоровается с конным строем и со взводом всадников под командой Коркашвили, героя праздника.
Подается сигнал «Рысь». Под звуки карусельной польки «Говорят, что я кокетка» орудия, каждое со своим фейерверкером во главе, выходят, одно за другим, проходят под разукрашенной флагами аркой и идут на препятствия. Они спускаются с крутого ската, проходят опасный мостик, подымаются на крутой берег, змеей извиваются по «восьмеркам» и поворотам и, наконец, стрелой летят к триумфальной арке, где наблюдающие офицеры собирают данные о скорости пробега, о числе сбитых колышков. А между тем машины для рубки уже на местах, подле них рабочие, готовые заменить их новыми прутьями и жгутами. Появляется соломенный барьер и «корзина» из двух рядов ощетинившегося хвороста.
– Шашки вон! – командует Коркашвили. – Справа по одному, на десять лошадей дистанции… Галопом, марш!
Петрос сегодня в ударе. Откуда у него такая верность глаз, такая львиная хватка? Впереди всех, на своем вороном коне, он рубит и колет во всех направлениях – сверкая своим острым булатом, и от него во все стороны летят срубленные колья, прутья и куски глины, срезанные, словно бритвой. За ним – лихой Кулаков… фейерверкеры… разведчики, трубачи – все как один. Вот они берут соломенный барьер, рубят направо… корзину… колют налево и, один за другим, становятся снова в линию, сдерживая разгоряченных и взмыленных коней, которые нетерпеливо грызут удила и рвутся на новое препятствие – это линия стрелков с колена, изображенная рядом шапок на низких колышках.
– Марш – марш… – шашки сверкают молнией, шапки летят в воздух, и вся линия всадников, как вкопанная, останавливается перед зрителями под громом аплодисментов. Начальник бригады горячо пожимает руку Коркашвили, но тот едва слышит, что ему говорят.
– Довольны вы мной сегодня? – шепчет он командирше.
– Ах, милый Петя! Сегодня вы превзошли самого себя… Начинается выдача призов: серебряных часов, портсигаров, кружек. Все присутствовавшие офицеры и дамы идут к нам в дом, где неутомимый и невозмутимый «Ватель и К» уже разносит чашки с горячим бульоном и роскошную кулебяку. Сико приходит в волнение: «Грицко, трубочки? – Никак нет, пломбир с вафлями, а потом кофе и ликеры».
– Вы нам готовите еще что-то? – спрашивает Постовский.
– В программе уже нет более ничего, ваше превосходительство… Но я хотел предложить вам и всем желающим прокатиться в Цинандали, где заведующий давно приглашал меня провести с ним одну ночь.
– В Цинандали? Едем! Едем все!
Нечего задерживаться: дорога далека, а солнце уже за полдень. Кавалькада поднимается на перевалы и, любуясь чудной панорамой всей Кахетинской долины и окружающих ее лесных шапок, спускается по излучистому пути в долину, уже подернутую предзакатной дымкой.
– Боже ты мой! Вот неожиданный визит! – встречает нас про стодушный хозяин. – Да сколько же вас всех-то? У меня ничего не заготовлено. Придется посылать в Телав. Ну, не беда, не беда. Не останетесь голодными. А пока пойдем в библиотеку.
Ужин действительно немного запоздал. Его подали только в десять часов. Но жалеть об этом не приходилось. Дамы пошли отдыхать в царские приемные комнаты, где несколько лет назад останавливался Император Александр III с супругою, а мужчины в «библиотеку», огромный погреб, уставленный винами, хранившимися от начала организации имения за 30 с лишком лет.
Перепробовав марки всех сроков, мы решили двинуться на соединение с дамами. Но так как большинство едва могли двигаться на своих двоих, решили встать на четвереньки, чтобы всем караваном явиться пред их ясные очи и сперва испросить себе прощения за долгую отлучку, а потом уже идти к ужину.
Ужин простой, но удивительно вкусный, прошел быстро, и милый хозяин указал каждому свою кровать. Аля устроилась на постели Императрицы Марии Федоровны, а мне отвели покой Императора Александра III. Где положили генерала Постовского и всех прочих гостей, я не помню, так как остаток вечера я уже провел в тумане и заснул как убитый.
А утром, тем же порядком, от души поблагодарив радушного хозяина, мы двинулись на перевал.
С выходом в лагерь пошли прежние интриги. Кожин остался в Гомборах, доживая там последние дни до приезда нового командира. Заместивший его подполковник Шауман вместе со старыми командирами окружили нового начальника артиллерии, генерала Менайлова, который сразу поддался влиянию моих завистников. Но им не повезло: Менайлов объявил тревогу, моя батарея только-что сменилась, и лошади пошли было на водопой. Тем не менее она все-таки пришла во втором номере.
– Что же это такое? – говорил возмущенный Кулаков. – Изволь те взглянуть на приказ. Наша батарея пришла почитай что первой, после дежурной, а они нам клеют выговор!
Действительно, выговор за то, что, будучи дежурной, батарея вышла по тревоге второю.
Я бросился к начальнику артиллерии. Тот сначала не поверил, напялил очки и стал читать по складам.
– Ведь после 12 часов на дежурство вступила батарея 39-й бригады.
– Да ведь я же приказал им играть тревогу до 12 часов!
– А трубач исполнил ваше приказание на несколько минут позднее.
– Ну, тогда извините меня! Я исправлю свою ошибку в приказе. Но это хорошая примета: раз сразу у нас начались шероховатости, потом все пойдет как по маслу.
Но дальнейшего уже не предвиделось: неожиданно ко мне в барак вошел Шауман с телеграммой в руках.
«Австрия объявила войну Сербии, – читал он голосом, прерывающимся от волнения, – Россия объявила войну Австрии, Германия – России…»
– Ура! – отвечал я. – Да здравствует Россия – смерть врагам!
– Сумасшедший, – прохрипел Шауман и как ужаленный выскочил из барака.
Лагерь опустел с самого утра. Я подъехал к батарее, стоявшей в резервной колонне на сомкнутых интервалах, и прочел солдатам телеграмму, прибавив:
– Вы знаете, мы исполнили долг наш перед Царем и Родиной в мирное время… Теперь смело можем тягаться с любым врагом и не посрамим русского имени. За нашу будущую славу – ура!
Солдаты встретили войну сдержанно. Они отдавали себе отчет в ее последствиях.
Мобилизация – дело трудное и спешное – для нас не представляла затруднений. Во-первых, мы только что проделали ее в условиях мирного времени, во-вторых, за одиннадцатидневной мобилизацией оставался еще полуторамесячный срок до посадки на станции железной дороги.
Но встретились два крупных затруднения: работа на совесть при керосиновых коптилках была задачей; я решил пожертвовать запасным капиталом, оставленным Гахом, – деньги все равно быстро теряли ценность. За дело взялся неистощимый Володя Сокольский и его «Лейба-телефонисты». Сам он полетел в Тифлис за установками, а его люди занялись проводами, и через несколько дней машины застучали, а казарма вспыхнула огнями, как жар-птица.
С водой дело грозило худшим. Горный ручей, бежавший с перевала, летом превращался в жидкую струйку воды, едва достаточную для питания сотни-другой лошадей. Колодцами с трудом пробавлялось население. Пришлось снова, как в сказке, прибегнуть к «Коньку-Горбунку».
– Братцы, – говорил я перед фронтом, – через две недели пригонят тысячу коней. Инженерное ведомство составляет смету уже третий год, и лошадей придется гонять за десять верст на реку Иору. Надо задержать здесь воду водоемами. Может, кто из вас знаком с этим делом?
– Я знаю, – бодро отозвался один из молодцев. – Мы работали на цемент. Пожалуйте две бочки портланду и людей с инструментом, и через три дня наладим водопой.
Любо-дорого было смотреть на их работу. Они вырубили в известняке три квадратные цистерны – одну для водопоя, другую пониже, – для купанья и третью для стирки белья. За одну ночь вода накапливалась до краев, и когда утомленные дорогой и путевыми лишениями кони прибыли в Гомборы, они могли вдоволь пить и фыркать, полоща ноздри в кристальной влаге.
– Вы прямо как Моисей в пустыне, – говорил мне почтенный столетний батюшка, настоятель церкви. – Каково? Воду из камня высекли?
И он, и его сестра, как и он – столетняя грузинка, очень полюбили нас и всю нашу батарею. Он журил нас только за празднества во время поста, связанные с неожиданным прибытием гостей. Он был прав – это был пир Валтасара[120]. Спешившие в Тифлис запасные, тянувшиеся всю ночь с перевала, главным образом туземцы, тушины и пшавы, оставались погреться подле разложенных для них костров; мы их подкармливали остатками из котла, так как свиней и поросят жалеть уже не приходилось. Музыка гремела почти всю ночь, костры пылали, и все принимало вид какого-то туземного праздника.
– Этак и умирать легко, – говорили горцы, прощаясь. – Спасибо вам за все!
Подходили и наши пополнения. Орудийного расчета комплектовать не приходилось: он был великолепен. Но с ним прибыло несколько прекрасных конных разведчиков: взводный унтер-офицер Хаджи-Мурза Дзаболов, которого мы сразу же назначили старшим в команду разведчиков, кавалерийский унтер-офицер Алавердов, тихонький и скромный на вид; бывший конный разведчик 22-го Сибирского стрелкового полка унтер-офицер Кириленко, георгиевский кавалер, идеал русского солдата. Всегда исправный, всегда на сытой, вычищенной лошадке, без рисовки готовый на любой подвиг, незаметный, но безукоризненный всегда и везде. Остальные пошли к зарядным ящикам и в парк. Бывшие пехотинцы были вооружены карабинами и кинжалами: в трудные минуты эти «чукчуры» или «килипучуры», как мы их прозвали, рассыпались впереди батареи или патрулировали ее фланги, заменяя прикрытие, рыли окопы и производили все вспомогательные работы.
Но вот настал назначенный день. Нас отправляли не на турецкий фронт, а на западную границу, куда – неизвестно. Но к посадке мы должны были прибыть на станцию Закаспийской железной дороги в Тифлис.
Батареи выстроились на церковной площади. После молебна батюшка обошел конный строй, кропя коней и всадников святой водою. Все население высыпало на площадь, теснясь между запряжками. Многие плакали. Плакал и сам престарелый священник. Вот точное описание нашего выступления:
- Помню я, как выступали мы в этот последний поход…
- Радостно трубы звучали, кони рвалися вперед.
- Вышел с крестом седовласый батюшка наш полковой,
- Благословил нас, заплакав, на подвиг наш боевой.
- – Добрые люди, прощайте, – был командирский ответ.
- – Со славою нас ожидайте – или возврата нам нет.
- От командирского слова дрогнули наши сердца;
- Музыка грянула снова и прокатилось «Ура!»
- Много годов пронеслося, многих в живых уже нет.
- Только буквально сбылося то, что пророчил ответ.
- Страха не зная, мы дрались, наш трепетал супостат…
- Жертвой измены мы пали и не вернулись назад!
Во главе уходила наша батарея с командиром и конными разведчиками впереди. За ними трубачи на белых конях, далее, одно за другим, орудия с прислугой, за батареями – парки. Позади всех мчался только что приобретенный щегольской экипаж с неизменным Шеффером на козлах, в белых перчатках и щегольском кафтане. В нем – закутанная вуалью и улыбаясь, словно не отдавая себе отчета в будущем, с верой во все лучшее, – верная подруга моей жизни, а рядом с ней – молоденькая Тася, сестра мм. Кузнецовой.
Вот и мост на Иоре, за Мухрованью… Копыта тысячи коней посылают ей наше последнее «прости»…
- Шуми волнами, Иора!
- Красавица, прощай!
- Вернемся мы не скоро,
- Так нас не забывай…
Два дня в Тифлисе прошли под угаром. Улыбки, слезы, поцелуи, объятия… Один за другим грузятся и уходят пехотные эталоны… Раздирающие сцены…
Свистит поезд, старушка мать на фаэтоне увозит молодую даму, раскинувшуюся в полном обмороке… Кому было нужно все это?
Только что приехавший совершенно юный офицерик, князь Сосико Церетели (брат веселого Самсона), забился под койку, откуда его вытащили лишь в момент отъезда. «Не могу видеть, как плачет мама», – говорил бедняжка. Его мама, модель грузинской красавицы, вне себя от горя, спрашивала мою молодую жену, можно ли надеяться, что сберегут жизнь ее сына…
– Когда объявили войну, – говорила Але Фируза, – я увидала, что соседка-немка бросилась в церковь ставить свечку… Я за ней… Она поставила налево, за Кайзера; а я за нашу Россию…
Аля все время держалась бодро. Только когда трубач дал сигнал к отходу, она разразилась рыданиями у меня на груди.
Она оставалась среди друзей… Но… когда и где нам суждено было встретиться опять?
Часть вторая
Сквозь дым и пламя
Верным сынам России
За Родину!
Закавказье уже спалено летними жарами, мы ползем с медленностью классического Bummelzug – «Осетинской молнии». Уже миновали Дербент, «Железные ворота», уже повернули на Ростов. Пожелтелые поля, повыжженные степи… Простились с вами, милые горы, ставшие мне родными – надолго, навсегда… Кто знает?
В Ростове присоединился к нам красавец Иванов, повар экстра-класса, прослуживший у меня всю службу и уволенный в запас как раз накануне войны. Я запомнил его просьбу вызвать его и его адрес: Луговая, 7. И вот он теперь опять принялся за привычное ремесло… Всегда вспоминаю его последние слова: «Поедете по железной дороге, будете на вокзале и захотите рыбы – не соблазняйтесь на осетрину или стерлядь – это верная смерть: берите только “naturelle”[121]».
Эти мудрые правила, по-моему, применимы и не только к рыбе… Я старался внушить их офицерам под Варшавой.
Сворачиваем на Киев. Степь, снятая жнива… зелень садов, из которых выглядывают купола церквей… При виде их какое-то затаенное чувство охватывает душу. В ушах звенит:
- Снова мы, как в дни былые
- Собралися на врагов.
- Поминай же, мать Россия,
- Своих преданных сынов.
- Пусть раскинутся весною
- Твои нивы и поля,
- Изумрудной муравою
- Пусть покроется земля;
- Пусть потонут твои села
- В дивной зелени садов.
- Будь счастливой, будь веселой
- До скончания веков!
- За предел твоей державы
- Нас теперь ведут вожди…
- Мы воротимся со славой,
- А иначе нас не жди!
Оглушительный гудок прерывает эти мысли. Поезд описывает кривую и подходит к большой станции. Уже на ходу раздаются крики:
– Осишвили, лезгинка!
Но музыкантов не приходится уговаривать. Все они комфортабельно расположились в теплушке и при первом сигнале хватаются за свои инструменты, и раздаются опьяняющие звуки, которые в душе каждого азиата будят все, что только радовало его душу с раннего детства. Выбившихся из сил музыкантов сменяют зурначи, потом наурская, потом все те мелодии, которые воскрешают последние минуты перед отходом: «На сопках Маньчжурии», «Бабочка», «Испанка». Двухтысячная толпа подростков и детей (взрослых почти не видно) с восторгом глядит на воинственный Кавказ, который идет умирать за Россию, как на бранный пир…
Подбегают к офицерам: «Как зовется ваш полк? Какие славные у вас люди! Первый раз мы видим таких отчаянных ребят, какой порыв! Можно проехаться с вами до следующей станции?»
Полтора часа проходят как одна минута. Но поезд еще не закончил свою погрузку… Мы остаемся еще, но каждую минуту слышится:
– Осишвили, лезгинку! Осишвили, гопака!
Офицеры стоят в стороне от кипящего водоворота. О чем они задумались? У каждого своя кручина. У молоденького Сосико слезы навертываются на глаза: он вспоминает свою маму. Ишхнели тоскует по своей красавице «юной, от которой и ласк не принял, но дарами осыпал». Старший офицер, Петя Коркашвили, затаил глубокую сердечную рану – ему даже не остается надежд «умереть в ее глазах»…
Мне вспоминаются слова моего верного проводника хевсура, сказанные им в момент выезда в погоню за абреками: «Слюшай, Ванучки! Теперь уже не время загадывать вперед! Не надо, чтоб люди сказали, что ты сдрейфил…»
Я подхожу к кольцу: «Теперь, родные, в честь этого доброго города и его милых обитателей – ура!..» Поезд трогается под оглушительным криком и безумящими звуками азиатской лезгинки.
Та же картина повторялась и далее, в Ромнах, в Дубнах. Киев мы обошли стороною. Далее все уже пахло войной. Навстречу шли поезда с ранеными и пленными. Временами получались короткие телеграммы об изменении маршрута. Колоссальные победы на австрийском фронте подавали большие надежды.
– Этак, пожалуй, война кончится в четыре месяца, как проро чили оптимисты!
Один Коркашвили упорно твердил свое:
– Как не так! Как бы эта война не оказалась семилетней, а не то и тридцатилетней!
Стали получаться известия, которые давали понять, что что-то неладно в Восточной Пруссии, что два наших корпуса подвернулись под удары тяжелой артиллерии, вышедшей из крепостей Торна и Грауденца, и два другие отрезаны… Вспоминается «Бронберга не миновать» Александра Финогенова…
Высшее командование, видимо, что-то скрывало, недоговаривало. Нас повернули на север – пропали наши надежды на Карпаты!
В Слониме нас ждала огромная толпа жителей, сбежавшихся при первых звуках лезгинки… Поезд еще не остановился, как наши «калипучары» уже горохом сыпались со всех вагонов, перегоняя паровоз в своей дикой пляске. Барышни со своими маменьками и подругами заняли все свободные места в поезде. И те, и другие с восторгом смотрели на разудалых кавказцев. Но в их глазах уже виднелась грусть, предчувствие. Всех давила мысль, что эти беспечные, жизнерадостные лица уже не встретятся больше на их жизненном пути…
– Господин начальник! Мы уже задержали ваш поезд на полтора часа сверх расписания. Жалко расставаться с вами! Но уж позвольте давать сигнал.
Резкий звук трубы: «Ездовые, на коней!.. По вагонам садись!» Оглушительный свисток и гостеприимный Слоним, его пестрая толпа, веселые домики – все уже скрылось за полосой густого соснового леса.
Мы подходим к Гродно. Стрелки свернули в сторону, мы остались одни. В вагонах душно, слышится запах гари…
Раздается тревожный гудок… Другой, третий… Поезд останавливается. Торопливо пробегает начальник поезда: «Лесной пожар – по обе стороны пути загорелись леса. Прикажите вашим людям помочь остановить его».
– Трубач! Сигнал: огонь! Слезай, калипучары, вперед!
На зареве лесного пожара все в дыму и огне, дикие фигуры с кинжалами наголо рубят заросли, валят толстые стволы смолистых сосен, которые мгновенно вспыхивают, образуя огненную завесу. Одна огненная стена идет на другую… Но вот все проясняется, кругом остаются лишь тлеющие остатки стволов… Пожар стихает. Путь свободен.
– Садитесь скорее! В нескольких минутах за нами следует экс пресс Великого князя Николая Николаевича.
Мы подкатываем к последней станции, поезд убирают на запасной путь, батарея выстраивается для встречи, и в ту же минуту, плавно скользя по рельсам, бесшумно подходит поезд Главнокомандующего. Великий князь принимает мой рапорт и проходит по фронту под звуки встречного марша, вглядываясь в бравые лица расчета, в почернелые от пожарного дыма рожи «калипучаров». За ним следует Янушкевич, начальник штаба, – бывший офицер 4-й батареи 2-й бригады, с которым когда-то мы снимались на прощальной группе уходившего командира, полковника Неводовского.
– Наша артиллерия завоевала себе место царицы сражений, – говорит он мне тихонько, – пехота на нее молится…
Гигантская фигура Главнокомандующего вновь появляется в окне купе. Раздаются звуки «Боже, царя храни». Он берет под козырек, и с последними аккордами поезд трогается так же плавно и бесшумно, как прибыл.
Маэстро Осишвили замирает перед своим хором… Он вне себя от прощального экстаза. Трубачи опускают трубы…
Кто из нас думал, что мы слышим эти звуки в последний раз?
Комендант Гродненской крепости ген. Кайгородов встретил нас с величайшей радостью. Он жестоко волновался, крепость была в совершенно беззащитном положении, лишь кое-где виднелись саперные команды, укреплявшие промежутки между фортами. Но, по счастью, немцы прекратили наступление и начали перегруппировку; а между тем подошла вся бригада. Нас направили на Сувалки.
– Куда вы? – удивленно спрашивал меня ген. Головачев, попавшийся навстречу. Он был начальником артиллерии корпуса, и его финляндцы двигались как раз в противоположном направлении. – А, понимаю, chassee croisee[122]. – Когда-то, в дни молодости, он дирижировал на балах Зимнего дворца и теперь вспомнил старинную кадриль…
Нас перегнала 22-я бригада, вместе с нею встретился и мой кузен доктор Стефанович, догонявший своих верхом и в воинственном облачении. Он успел сообщить мне кое-что о всех наших… Почта с начала войны пришла в плачевное состояние, и мы питались только газетами.
Неожиданно мы врезались в другую колонну. Во главе батареи ехал подполковник Барский, они уже были в бою, и его люди производили хорошее впечатление. От него я получил краткие, но ясные сведения о том, что нас ожидало.
В сжатой форме он дал мне картину полной пустоты полей современного боя, сообщил, что немецкая легкая артиллерия несравненно ниже нашей, но что при каждой дивизии имеются 10-сантиметровые гаубицы, а при корпусе – 15-сантиметровые, против которых надо обеспечивать себя глубокими окопами. Те, кому снесло голову, уже не протестуют, но раны осколками в ноги и в нижнюю часть тела производят ужасное впечатление.
Немцы отходили по всему фронту, прикрываясь легкими арьергардами. Первые дни наступления походили скорей на маневры. Шедшие в голове полка ежедневно сменялись, но артиллерия все время оставалась в авангарде. Первое столкновение произошло под Войнюмцами. С фронта наступали финляндцы, против них, на опушке, действовала моторизованная батарея 10-сантиметровых гаубиц. Мы тотчас же заставили ее замолчать, одно орудие осталось на месте. Полк развернулся и двинулся во фланг, обходя противника справа. Я поскакал вперед, чтобы выбрать новую позицию. Довольно было бы нескольких выстрелов, чтоб сбить сопротивляющихся. Я тотчас послал приказание старшему офицеру прислать мне скрытым путем одно орудие, так как батарея осталась далеко и нельзя было терять драгоценного времени.
Минуты тянулися часами… Неприятельское расположение было все как на ладони… Наконец немцы бросились наутек, все-таки это стоило нам десятков двух убитыми. «Почему вы немедленно не прислали мне орудие?» – спросил я своего старшего офицера. Его ответ дал мне понять, что вперед в таких случаях я могу рассчитывать только на себя.
Но в следующем бою предусмотрительность и осторожность Коркашвили спасла положение. Батарея, далеко в голове, попала под жестокий огонь немецкой легкой артиллерии, засевшей между озерами, прикрывавшими дер. Тартак. Заметив это, Коркашвили по собственной инициативе вывел на ближайшую позицию свою полубатарею и метким огнем подавил неприятеля, дав нам возможность выскочить из западни.
Сувалки
Изо всей Великой войны стоянка под Сувалками оставила во мне самое тяжелое воспоминание.
Уже на подходах к городу нас охватило мрачное предчувствие: это была полная картина разрушения. Город мы проходили под вечер. Улицы были пусты, дома разграблены. Прекрасное собрание александрийских гусар опустошено, обломки дорогой мебели сложены на топливо. Деревни, разбросанные там и сям вокруг города, стояли пустыми. От многих оставались лишь печные трубы. Жуткая картина. Переночевав кое-как, с утра мы выехали на рекогносцировку позиций, которые лично указывал нам командир 52-й артиллерийской бригады генерал Мартынов, совершенно не считаясь с видимостью. Как только он ускакал, на нас посыпались тяжелые снаряды. К счастью, я задержал батарею за укрытием, передки ускакали в одно мгновение, и в то же время люди, отлично предупрежденные, с невероятной быстротой отрыли глубокие ровики с отвесными стенками.
Лично меня постигло большое горе: осколком был смертельно ранен мой конь. Ветеринарный врач прикончил его выстрелом из револьвера.
52-я бригада поплатилась дорого за открытый выезд своих батарей. Было видно, как они шли развернутым фронтом на указанные места и как среди орудий рвались шестидюймовые снаряды, поднимая целые смерчи черной земли и дыма. Командиру одного из дивизионов, подполковнику Склифосовскому, оторвало голову, сын Мартынова и много людей и лошадей поплатились за этот опасный выезд.
Почти одновременно на противоположной опушке, за открытыми полями и болотами, можно было видеть, как подошла и развернулась целая германская дивизия. Она повернула фронт на нас и мгновенно исчезла, рассыпавшись по линии. Невозможно было обстрелять ее, так как она маневрировала вне нашей досягаемости.
В районе наших цепей стали рваться тяжелые снаряды, казалось, что это фугасы. Но вскоре немцы перенесли огонь в глубину, а к ночи стали обстреливать тыловые деревни, которые запылали, бросая яркое зарево во все стороны. Наши атаки по болоту под убийственным пулеметным огнем не привели ни к чему. Связи между пехотой и артиллерией не существовало, батареи противника оставались невидимыми.
На другое утро командир дивизиона отправился к командиру бригады, при которой и оставался все время. Меня он вызвал к себе и приказал немедленно соединиться с ним телефоном. Расстояние было почти в восемь верст, и у меня оставалось всего две катушки для связи с наблюдательным пунктом и батареей. Около нас стояло прикрытие: штабс-капитан Гургенидзе с полуротой от 2-го полка, но и у него не было контакта со своими. От времени до времени приходили приказания от ком. дивизиона, который посадил своего конюха в пехотные окопы и от него получал указания цели.
Возвращаясь из штаба бригады, я набрел на нашу третью батарею, которую поставили на открытое место. Отдельным попаданием там было выведено из строя целое орудие, убит офицер и немного спустя ранен в живот капитан Шихлинский. Его спасла тучность; так как осколок в три дюйма длины остановился в жировой подушке и не коснулся жизненных частей. Командир третьей батареи все время оставался в хате при дивизионе для «передачи технических указаний».
Не знаю, кому мы могли принести пользу своим огнем, но этим навлекли на себя жестокий обстрел неприятеля. Считая, что мы за полчаса выпустили до 400 снарядов, можно сказать с уверенностью, что мы получили не менее 1500 – шести-, четырех– и трехдюймовых. Вся наша позиция была изрыта воронками. Но окопы были вырыты так искусно, что только один человек получил легкую рану в мягкую часть зада, и то высунувшись из окопа.
Чем дальше, тем больше затягивались мы в технику дела. Негодяй Тумский – другого имени ему не придумаю – по совету другого опытного мерзавца, Харкевича, пытался, как он шутил, «заработать себе лампасики» и представил себя и его к Георгиевскому кресту, основываясь на колоссальных потерях батарей, которые выставил под обстрел и заставил стрелять напропалую. Но ни того, ни другого он не получил. Убедившись в полной неспособности артиллерийского начальства руководить огнем, батареи направили в наиболее угрожаемые места. Но общий план не удался. Пехота понесла жестокие потери, и наше наступление выродилось в пассивную оборону.
Возвращаясь ночью от командира дивизиона в полной темноте, я сбился с пути и попал на место атаки 4-го полка, откуда с большим трудом добрался до соседнего финляндского полка, где мне дали проводника. Спотыкаясь о трупы, засыпанные снегом, я нашел разорванную и окровавленную тетрадь полкового дневника. Последние строчки гласили: «Смертельно раненный поручик Габаев всю дорогу до перевязочного пункта осведомлялся, взята ли третья линия неприятельских окопов…»
Мир праху твоему, веселый, беспечный сотоварищ всех тифлисских похождений!
Дня через три нас перевели на другой участок боя, где, стоя рядом с батареей Барского и пользуясь его связью с пехотой, мы сразу заработали благодарность в приказе по корпусу за действительную помощь своей пехоте. Все восемь верст провода оставались у командира дивизиона, но нам удалось добыть до 20 верст провода, и мы стали действовать самостоятельно.