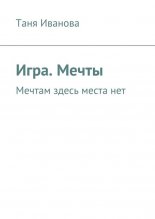Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева Беляев Иван
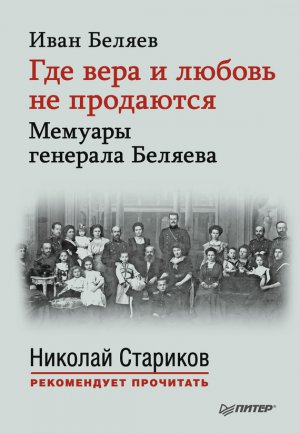
Ровно 30 дней стояли мы под Сувалками, в грязи, среди разлагающихся трупов, временами переходя с одного участка на другой, пока в одно прекрасное утро не были поражены наставшим спокойствием…
«Вдруг затрещали барабаны – и отступили басурманы…» Но без барабанного боя, без шума, противник ночью очистил позицию… Высланные в 10 часов утра разведчики обнаружили отступление врага по всему фронту. Казалось, произошло нечто невероятное… казалось, что кончилась война…
Но неприятель не был разбит. Опираясь на укрепления Летцена на Мазурских озерах[123], он начал переброску главных сил на Варшаву. На фронте остались лишь ничтожные арьергарды, и мы без усилий дошли до реки Ангерап и снова ворвались в Восточную Пруссию.
Эти арьергардные бои – Бакаларжево, Запален – напоминали скорее маневры, а самый поход был отдыхом.
Под Бакаларжевым мы блестяще форсировали реку, сопровождая огненным валом атаку 16-го и 17-го стрелковых полков. Под Запаленом произошел интересный случай. 4-й Кавказский полк, при котором мы находились, остановился на самой околице деревни. Было уже поздно, и все спешно бросились по халупам.
Рано утром на дальнем конце деревни послышались выстрелы. Мы быстро заамуничили лошадей, стрелки двинулись вперед. Оказывается, на другой окраине деревни заночевали немцы, и теперь они заняли опушку ближайшего леса. Не разговаривая долго, я сам схватил первый взвод, вылетел с ним на ближайшую позицию и открыл беглый огонь по опушке. Этого было достаточно, стрелки бросились на «ура» и прогнали противника без сопротивления. Немецкие наблюдатели попали в плен, не успев слезть с деревьев, куда их посадили…
Жители бежали, оставив готовую пищу на столе. Путь победителей был усеян перьями и пухом ощипываемой птицы… Но ненависть, пробужденная бессмысленным уничтожением наших деревень и безобразиями немцев в захваченных ими краях, вызвала ответное отношение. Тогда как раньше свято сберегалось имущество бежавших жителей, теперь уже невозможно было удержать солдат от уничтожения всего, что попадалось им на глаза. Крестьяне тоже бросились грабить немецкие хаты, в оправдание они приводили бессмысленное разорение и пожары своих очагов.
Наступило затишье. Пользуясь густой сетью железных дорог, немцы предупредили нас под Варшавой, их наступление было остановлено только что прибывшими из Сибири полками всего в 15 верстах от Варшавы. Неожиданно и мы получили приказ о переброске туда.
Под Варшавой
Мы прибыли уже поздно и сразу же остановились в районе предместья «Воля», где нам указали высланные вперед квартирьеры. Распорядившись оцепить наше расположение цепью парных часовых и строго запретив людям отлучаться, я поскакал через мост в Варшаву в штаб Главнокомандующего, который находился в Лазенках. Штаб занимал громадный зал, в котором за множеством письменных столов стучали на машинках и переговаривались между собой несколько десятков штабных. Мне указали стол в оперативном отделении, где сейчас же изготовили и подали мне подписанный приказ: не задерживаясь в Варшаве, немедленно явиться в штаб фронта. В эту минуту подошел только что приехавший с фронта подполковник в форме генерального штаба.
– Ну, как у вас там, все благополучно? Нет прорыва? – я не услышал ответа, но понял, что на фронте держались на честном слове, то и дело ликвидируя немецкие попытки прорваться. О наступлении не было и речи. Не теряя времени, я поскакал обратно.
На биваке меня ожидал сюрприз.
– Так что, ваше высокоблагородие, все благополучно, – говорил Кулаков, – только извольте видеть, – глаза его заблестели веселым юмором, – мы-то от них отгородились парными часовыми, а оне-то туто, в самой середке, по одной в каждой комнате.
Оказывается, мы попали в лупанарий.
– Так что же теперь делать?
– Не беда. Я их всех посунул вон в тот домишко, поодаль, и к воротам часового приставил. А помещение все вымыли и вычистили.
Вот она Воля, которую штурмовал мой дед. Вот она Прага, которую брал Суворов… Мы прошли мост на Висле и потянулись по всем главным улицам, а потом свернули к выходу на прямое шоссе, еще со времен Екатерины обсаженное раскидистыми деревьями, в направлении на Блоне, оставляя позади грязные жидовские кварталы с извилистыми переулками и покосившимися домами, которых, наверное, не ремонтировали, не чистили со времен «Круля Саса», курфюрста Августа Саксонского, который женился на еврейке и наводнил Польшу вывезенными из Германии евреями.
Из штаба фронта нас двинули в штаб армии, где мы расположились на квартирах в огромном фольварке[124], в стороне от шоссе. Хозяин встретил нас с распростертыми объятиями, отпустил фуража, сколько в душу влезет, угостил прекрасным обедом офицеров и накормил до отвала солдат. И много дней спустя, уже стоя на позиции, мы посылали к нему за овсом и сеном.
Названия его фольварка я не помню, ни имени владельца, так как оно сразу же заменилось другим, навсегда врезавшимся в память всех нас, до последнего солдата именем «доброго пана», при упоминании которого даже лошади ржали от радости и благодарности.
– Для вас ничего не пожалею, – говорил он, отпуская припасы, – пусть достается вам, а не проклятым германам. А вы нам дайте крулем вашего Великого князя Николая, и заживем по-старому.
Вообще по всему шоссе поляки встречали и провожали нас с благословениями. Особенно отличился один придорожный помещик. Стоя на дороге против своего фольварка, он обнимал офицеров, приговаривая: «Ступайте, ступайте бить проклятого германа. Мы все теперь с вами… Ну, когда кончится война, будут и у нас свои счеты, а пока…»
– Это все они так думают, – ворчал доктор Бронн, – я-то их знаю, у меня здесь, в Варшаве, родня… Только не все говорят это так откровенно.
Чем далее, тем пустыннее становилась местность. Великолепные деревья по сторонам дороги были срублены. Кругом по деревням жизнь замерла, не пели петухи, застыли в воздухе крылья огромных мельниц. После Блона, где сибирякам удалось остановить германский натиск на Варшаву, мы передвигались только ночью – во избежание воздушной бомбардировки. Из штаба армии нас направили в корпусной резерв, оттуда – в резерв дивизии…
Пушечная канонада, все время напоминавшая нам наше будущее, стала усиливаться, становиться слышнее. Орудия всех калибров гремели сильнее и сильнее, среди них стали ясно различаться отдельные выстрелы сверхтяжелых пушек, залпы скорострельных батарей. Разрывы стали приближаться все ближе и ближе, временами ветер доносил до нашего слуха треск пулеметов. Все сливалось в какую-то мрачную вагнеровскую мелодию, пахло уже не только гибелью старых богов, но и концом всего человечества.
В полночь нашу батарею вместе со вторым полком вызвали на позицию. Мы должны были сменить одну из гренадерских батарей, уже ранее находившихся в деле. От нее мы получили данные о целях и, что было особенно приятно, уцелевшую комнатку подле самой позиции.
В уголку ее еще оставалась икона Остробрамской Божьей Матери, которая придавала необычный уют этой бедной лачуге. Казалось, вместе с мерцающим сиянием ночника она посылает нам свое благословение среди тысячи опасностей…
Устроившись, я пошел к командиру полка, находившемуся по соседству. Полковник Томилин лежал на соломе, накинутой на пустую кровать, – обычная поза командира пехотного полка на выжидательной позиции. Рядом, на стуле, сидел офицер Эриванского полка, смуглый и коренастый, с энергичными чертами лица.
– Так это вы капитан-кромобой, про которого написано в приказе по корпусу, что он не спит ни днем, ни ночью?
– Не время теперь спать, господин полковник! Как бы всем нам не заснуть вечным сном… Вот вам записка от князя. Он просит немедленно занять указанные в ней позиции на линии огня. Каждая минута промедления может вызвать катастрофу.
Томилин обернулся ко мне.
– А ваша батарея?
– Стоит на отличной позиции со всеми настрелянными данными, полученными от предшественников. С вами двинутся телефонисты и ночные наблюдатели. Как только осмотритесь, укажите цели, и мы образуем перед вами огненную завесу.
…Полк исчезает во мраке. Но через 15 минут раздается бешеный треск пулеметов, и, почти одновременно, появились отдельные бегущие солдаты.
– Стойте! Куда вы?
– Вай медедау, пулемэти!.. Весь полк погиб, командир убит… мы одни остались!
– Ну ладно, оставайтесь с нами! Чукчуры на линию, в прикрытие батареи!
Проходит несколько минут тягостного ожидания. Наконец трещит телефон.
– Ваше высокоблагородие! Мы здесь, рядом с командиром полка, во рву. Деревня, что впереди, занята противником. Мы попали под пулеметы, но здесь проходит глубокая трещина, и весь полк с нами во рву. Полковник просит открыть заградительный огонь.
– Открываю огонь! Давайте наблюдения!
…Мрак начинает редеть. Уже забрезжил свет, но все равно ничего не видать: туман густой, как молоко, окутал все кругом. Уже восемь, девять… Наконец, туман как будто начинает подниматься… Правее нас в сотне шагов вырисовывается фигура всадника. Это личный ординарец генерала Мищенко, старого артиллериста, отдававшего себе отчет, что в момент катастрофы пехоте будет не до них и они будут брошены на произвол судьбы.
Но, по-видимому, и немцы понесли тяжелые потери. Иначе трудно объяснить их неумение использовать минуту, когда остатки корпуса, смененные несколькими батальонами кавказских стрелков, были вынуждены к полному бездействию и пополнялись запасными по ту сторону Бзуры.
Наш полк сразу же занял позицию впереди фольварка. Батарею поставили в парке, по обе стороны Божьей Матери, а наблюдательный пункт я выбрал на крыше господского дома. Так провели мы спокойно два дня, пользуясь гостеприимством управляющего, у которого нашлось помещение и для нас, и командиру полка со штабом; он просил только в случае отступления захватить обеих дочерей хозяина, так как тот застрял по делам в Варшаве.
Так мы и сделали. Когда ночью полковник Томилин разбудил меня спешным приказом о выступлении, первое, что я сделал, это было отправить обеих паненок в телефонной двуколке под защитой моего верного Крупского, который благополучно доставил их к «доброму пану» и, вернувшись, привез нам тысячу благодарностей и благословений уже на пути к Сухачеву, где мы должны были занять активную позицию впереди Сухачевского моста в составе отряда, сведенного из остатков наших трех полков. Четвертый, пострадавший менее прочих, должен был прикрывать Бзуру левее моста.
Положение нашего арьергарда было тяжелое. Прижатые к глубокой реке, мы должны были выиграть время, необходимое для восстановления гренадерских полков, в некоторых из них уцелело не более 30 человек.
Под моей командой остались две наши батареи, 3-я находилась уже за Бзурой при 4-м полку. Позади, в нескольких сотнях шагов за мостом, теснились каменные постройки Сухачева: несколько халуп и сараев было разбросано впереди реки, маскируя нашу позицию. Обойдя боевые линии и сговорившись с командирами рот, я пристрелял несколько целей по фронту и вернулся к начальнику отряда, который помещался недалеко в крошечной халупе.
Первые два дня прошли спокойно. Методические, как всегда, немцы поджидали, пока устроится их тяжелая артиллерия, подвезут припасы и перегруппируются войска. Постепенно местами начала загораться перестрелка, везде встречавшая твердый отпор от наших, к которым мы тотчас же приходили на помощь несколькими выстрелами. На третью ночь, с наступлением темноты, огонь стал интенсивнее, натиск назойливее.
Сукачев и Боржимов. Роковая ночь
Никто не спит в эту ночь. После каждого ураганного огня я иду к командиру полка выяснять положение.
Полковник Томилин лежит на соломе. Перед ним сидит Гургенидзе. Позади их в полумраке теснятся телефонисты и вестовые.
– Противник все время наседает, – говорит Томилин, – то и дело неустойка на фронте, то там, то сям. Резервы растаяли, осталась только полурота 5-й роты. Иван Константинович то и дело ходит восстанавливать положение. Пока что, благодаря этому и с вашей своевременной поддержкой, мы держимся. Но завтра с утра немцы, наверное, обрушатся на нас своей артиллерией и пойдут в атаку.
Трещит телефон…
– А, это вам, – он подает мне телефон.
«С получением сего обеим батареям перейти через Бзуру и выбрать там новые позиции для поддержания пехоты – Тумский».
– Смотрите, господин полковник! Что же вы будете здесь делать без артиллерии? Слушайте, я отправлю 1-ю батарею, а вы поддержите мое ходатайство об оставлении нас при полку, так как без нас вы не продержитесь ни минуты.
Ухожу распорядиться. Наши ждут меня у первого орудия.
– Первая батарея переходит на ту сторону, – сообщаю я им, – наша, вторая, останется при нашем втором полку. Положение тяжелое… С рассветом немцы бросаются в атаку… по ним мы выпустим все оставшиеся снаряды, а потом… Через мост мы уже не перейдем, они засыплют его бомбами. Но Дзаболов нашел брод, и мы спустим в реку все орудия, станем на позицию на другом берегу у того белого столба. Батарею поведет поручик Коркашвили, я останусь последним у этого колеса. И не тужите ни о чем. Вспомните Кольно, Барково – всюду спасал нас Господь. Он и здесь нас не оставит… А теперь спите спокойно.
Возвращаюсь в штаб полка.
– Опять неустойка, – встречает меня Томилин, – сводная рота 1-го полка бросила позицию… Что будем делать, Иван Константинович?
– Ничего не поделаешь. Пойду восстанавливать положение…
– Болигловка, давай набалдашник. А вашу артиллерию прошу по первому зову дать завесу оградительного огня.
Опять телеграмма… Отказано… Артиллерии уходить. Передать снаряды в 3-ю, которая уже стоит на новой позиции.
Снова возвращаюсь в штаб. Иван Константинович уже опять сидит на своем стуле.
– Ерунда все это, паника… Люди изнервничались… Вернул их в окопы и снова здесь, – говорит он, протягивая свою вязанку вестовому и отирая струящиеся капли пота. – А у вас?
– А вот, смотрите!
– Что же вы будете делать?
– Задержусь до рассвета… Ведь сейчас уже три часа. Расстреляю по наступающим все патроны, а потом буду уходить…
Третья телеграмма:
«Немедленно исполнить приказание. В случае промедления будете расстреляны – Тумский». Ну, прощай, наш второй полк!..
Уже светает… Бесшумно, как тени, с обмотанными соломой колесами скользим мы по мосту, переходим на ту сторону и идем на указанное место. Едва пройдя Сухачев, слышим бешеный рев тяжелых и легких орудий, треск пулеметов и ружейную пальбу. Слезы градом льются из глаз… Там погибают последние, лучшие бойцы, с которыми мы сроднились в стольких боях… А мы, а мы…
В четвертом полку осталось всего тридцать человек. Я посетил его командира. Бедный старик – это был тот самый, который «нанизал целую дивизию на шпагат», – обезумел от горя: «Наша третья батарея бросила нас сразу, противник раздавил нас без сопротивления».
Правая колонна отошла почти без потерь. Под разумным руководством Томилина и благодаря геройству Гургенидзе отряд выскользнул из железного кольца между фланкировавшими его пулеметами и огненной завесой тяжелой артиллерии.
– Когда мы увидели густые массы немецкой пехоты, – говори ли мне потом, – вот была бы цель для нашей батареи!.. Но тут же получили приказ об отходе и, прежде чем немцы пошли на штурм, уже очистили позиции.
Ни 1-я, ни 3-я батарея не выпустили ни одного снаряда. У них не было ни связи с пехотой, ни надежного наблюдения.
После перехода Бзуры Гургенидзе засел в Сухачеве с остатками полка. Я нашел его там в подвале большого каменного дома, который он обратил в опорный пункт. Стимулируя атаку, немцы открыли по нему бешеный огонь чемоданами[125]; под его защиту понабилась детвора, неизвестно почему застрявшая в городе. Больно было глядеть на эти искаженные ужасом личики.
– Перестаньте реветь понапрасну, – успокаивал их Гургенидзе, пряча их под фалдами своей шинели. – Ну, убьют, так убьют… Тут слезами не поможешь…
Эта картина навсегда врезалась в мою душу.
Разочарование
То, что было далее, не поддается описанию. Неожиданно остатки бригады были вызваны на ближайшую станцию железной дороги для отправки на Кавказ, где Энвер-бей[126] угрожал Тифлису. Простояв три часа в ожидании посадки, мы получили телеграмму об отмене. Разом рухнули все надежды на свидание с милыми, мечты о родных горах, на короткий отдых в вагонах… Пехоту бросили под Боржимов, где, по слухам, полки атаковали семью волнами траншеи, забитые пулеметами, под градом снарядов всех калибров до 12 дециметров включительно, которые одним выстрелом погребали взводы артиллерии, где пехота висла на проволочных заграждениях, тщетно пытаясь разрезать их ножницами или взорвать ручными гранатами.
После этого я уже не видел знакомых лиц среди офицеров, кроме 2-го полка, который уцелел каким-то чудом от поголовной гибели.
Когда остатки полков отвели на исполнение, мне удалось найти одного солдата 1-го полка, который рассказал мне грустную повесть о гибели его товарищей. Не привожу ее здесь по причинам, которые поймет читатель.
Артиллерию впервые отвели на отдых; причина заключалась в том, что еще не начали прибывать горные снаряды, а боевые комплекты были совершенно истощены.
Я воспользовался этой стоянкой, чтобы съездить на батарею брата Коли, которая стояла тут на позиции. Это было глубокой ночью, она вела непрерывный огонь, в то время как он вместе с командиром дивизиона полковником Кулацким находились на наблюдательном пункте, куда я уже не мог пробраться. Мы перекинулись лишь парой слов по телефону. Его батарея, только что сформированная, производила впечатление налаженной сбитой части. Два молоденьких прапорщика, один из коих был «старшим офицером», ясно и отчетливо подавали команды. Дисциплина огня была превосходная.
Я не мог оставаться долее нескольких минут, каждый час мы ждали переброски.
Это было на Рождество… В Рождественскую ночь в соседнем храме служили вечерню… Последнюю Рождественскую службу, которую я слышал в России.
Так же неожиданно батарея получила приказание возвращаться под Сухачев, где мы заняли пассивную позицию с единой задачей: парой сотен остававшихся еще снарядов гарантировать мост на Бзуре.
Позиция была идеальная во всех отношениях. Наблюдательный пункт я выбрал в верхнем этаже механической мельницы, откуда все было видно как на ладони. Обыкновенно я пробирался туда до рассвета и возвращался в сумерки, так как неприятельская артиллерия стреляла по отдельным всадникам. Все-таки один раз я попался. Меня спешно вызвали днем, и тотчас же два взвода стали охотиться за мной с двух сторон. Обыкновенно я выворачивался, постоянно меняя направление, но тут над моей головой сразу лопнуло два бризанта[127]; раскаленный осколок скользнул по руке, державшей поводья, и струя горячей крови хлынула в сапог выше стремени. Мой конь зашатался и, проскакав несколько шагов, грохнулся мертвый – я едва успел соскочить на землю.
– Вы ранены, ваше высокоблагородие… – трубач подвел мне своего коня.
– Нет, нет, забирай седло и езжай за другим конем, а я добегу пешком.
Трубач недоверчиво покачал головой: кровь бежит ключом из сапога.
Но нет, это была кровь моего бедного Казачка, которому большой осколок открыл аорту.
Добежав до наблюдательного пункта, я открыл огонь по сменявшейся пехоте и выместил на ней смерть моего коня.
Уже в темноту, на новой кобыле, я подъехал к нашей позиции. Меня ожидала вся батарея и с криком «ура!» внесла на руках в мою землянку.
В тот вечер нас ожидали письма с Родины… от моей Али, от всех близких… Наш посланец привез от них кучу посылок для всех и, главное, чистое белье. Переодеваясь, мы бегали – как русалки при свете луны – по усыпанному снегом полю.
На родине Шопена
– Ваше высокоблагородие, вас просит к телефону доктор Брон!
– Доктор! Уже вернулись из Варшавы? Достали все, что нужно? Что? Как? Что вы говорите! Кого привезли? Кто приехал из Тифлиса? Александра Александровна? В Варшаве? Здесь, у вас? Не может быть! Еду сейчас… Трубач! Коня! Крупский, все чистое! Барыня приехала из Тифлиса, она в обозе, ждет меня!
Темно, как в подземелье… Ни месяца, ни звезд. Только по сторонам догорают спаленные немцами деревни. Я давно уже никуда не отлучался из батареи и, если б не трубач, не нашел бы дороги. Наконец, при отблеске вспыхнувшего пламени замечаю силуэты халуп и очертания обозных повозок.
В ближайшей хате мелькает слабый огонек… У порога кто-то стоит.
– Доктор! Где?
– А вот здесь, я очистил для вас эту халупу. Заходите!
При свете коптилки я вижу мою Алю в легком ночном капотике. Чтоб согреться, она прыгает кругом раскаленной докрасна железной печурки.
– Алечка моя!
– Зайка! Я к тебе прямо из Тифлиса! В Варшаве меня разыскал доктор и сразу же привез сюда.
– Малютка моя, залезай скорее в кровать, я укутаю тебя всеми одеялами – ведь этак ты можешь простудиться!
– И ты со мной?
– Хорошо, вместе будет теплее… Как-нибудь проведем часа три-четыре, а потом я тебя сразу отправлю в Варшаву, а сам полечу на позицию. Ты должна уехать непременно в полную темноту; ты видишь, что здесь делается!
– Ну, Зайка, а ты?
– Я отпрошусь на несколько дней, благо так близко. Уж раз ты здесь, пока Варшава под нашей защитой, – оставайся, а чуть что – уезжай в Питер к Махочке, там ты будешь в полной безопасности. А где ты остановилась?
– На улице Соколова, 2, у пани Ковецкой. Постой, я расскажу тебе все по порядку… Но какой ты смешной… загорел, весь оброс бородой! Как чудесно, что я так скоро тебя разыскала… А как я тебе нравлюсь? Много я изменилась? Я ведь приехала сюда в папахе, черкеске и в бурочных валенках, я думала, что вы карабкаетесь где-нибудь по горам. Ну, я тебе все это оставлю. Теперь слушай все по порядку. В Тифлисе я остановилась у Кузнецовых. Город не такой уж большой – две главных улицы – Воронцовская и Михайловская, только и всего. Скоро все перезнакомились. Мы всегда собирались вместе: Фируза, я, Тася и Таточка Федорова. Стали заходить знакомые, Молостовы и другие. Их сестра уговаривала меня помогать ей с ранеными. А тут приехал знакомый инженер из Баку, который несколько лет назад мне делал предложение. Тот самый, которого я смертельно боялась, что он убьет тебя в день свадьбы: «Как вы меня разыскали? – Но я все разузнал о вас, и где ваш муж, и куда он ушел с батареей». Через день он должен был возвратиться в Баку и перед отъездом еще и еще раз уговаривал меня бросить тебя и ехать с ним. Я прямо сказала ему, что безумно счастлива с тобой. Так он и уехал… А тут Отрежко… Ты помнишь этого казака, который встречал нас с песнями в лагере под Алексадрополем? Он был летчиком на кавказском фронте. Заболел нервной лихорадкой с температурой до 40 с лишним и прислал мне письмо, умоляя зайти хотя на минуту. Мне было его страшно жалко, но я опасалась какого-нибудь необузданного поступка с его стороны и звала его к нам. Когда температура упала, он вернулся на фронт и написал мне письмо, полное упреков: «Ведь я боялся дышать подле вас, чтоб не оскорбить вас своим дыханием… – писал он. – За вас я готов был на все… Как вы не могли подарить мне на пороге смерти хотя бы минуты счастья, чтобы я мог сказать вам все, как я пламенно люблю вас, сказать, что самый этот припадок – это следствие моей безумной страсти».
Мне больно думать, что я так жестоко его обидела. Но я смертельно боялась этого свидания, которое могло кончиться безумием с его стороны. Он уехал на фронт, не повидавшись со мной, и вскоре погиб.
И вот мы с Таточкой решили пробиваться на фронт. Все наше имущество я оставила на квартире у ее мамы, мы взяли только легкие чемоданчики и сели в вагон. Поезд шел при нормальных условиях, и, когда мы очутились в Варшаве, наши спутники указали нам комнату – во всех домах сдавались свободные помещения. Не обошлось без забавных инцидентов.
Ночью Варшава тонет во мраке ради возможного налета цеппелинов[128]. Вечером возвращаемся из театра. Все разом погасло. С трудом нашли нашу лестницу, отворяем дверь в квартиру, нащупываем вход в свою комнату. Открываем свет – что за превращение! Мебели нет, стоит одна кровать, стол и ширма. «Ах, – думаю, – это опять хозяйка “заняла” нашу мебель, чтоб сдать свободную комнату жильцу». Делать нечего. Залезаем обе вместе под одеяло… Вдруг кто-то отворяет дверь и открывает электричество…
– Прошу, пани… – оказывается, мы залезли этажом ниже в чужую спальню, благо расположение во всех квартирах одинаковое!
– Ну, а как ты? Я представляла себе войну совершенно иначе.
– Что же, ведь я писал тебе обо всем. Здесь мы стоим относительно спокойно. Стрелков отвели в резерв. Нас включают то в участок Тифлисского, то Эриванского полка. От немцев наша пехота отделена только рекой Бзурой шагов в 60–70 шириной. Ружья лежат в амбразурах, чуть кто шевельнется – пуля в лоб. У меня тесная связь с наиболее угрожаемыми участками, все цели пристреляны, чуть немцы пошевелятся – мы им гранату, в самый окоп. Намедни они притащили какие-то аппараты. Стали бросать в наших бомбы, а мы их сразу гранатами. Так они тут же стали кричать: «Рус, перестань стрелять, мы больше не будем кидать бомбочек».
Батарея стоит подле самой Железовной Шопы – эта деревушка – родина Шопена, там стоит его чугунный бюст. А наблюдательный пункт ютится то в одной, то в другой хатенке недалеко от берега. Как только немцы заметят движение, начинают нас обстреливать легкой артиллерией, приходится удирать во все лопатки в другое место. Но их орудия избегают бить по нашим окопам, боятся попасть в своих, их легкая артиллерия далеко не меткая. Рядом с нами мортирная батарея подполковника Тимашева, он был адъютантом у папы в Тифлисе, я его хорошо знаю. Он такой милый, выдержанный, но, бедняга, совсем уже глухой. Мне с ним так уютно, его батарея напоминает большую семью… Ого, да ты уже закрыла глазки… Спишь, наверное.
– Ах, Зайка… Я вздремнула… видела во сне, что мы с тобой опять в Гомборах, и никакой войны нет. Ах, как все это было хорошо…
– Ну, засыпай, мое ненаглядное дитятко. Храни тебя Христос и все Его святые Ангелы…
Я тихонько снимаю ее руки, которые все еще обвивают мою шею, и соскальзываю на холодный пол…
– Трубач!
– Здесь я… Осторожнее, ваше высокоблагородие, тут голдобина. Держите влево, прямо на то дерево, под которым проходит шлях…
Ночной туман рассеялся. Весь небосклон усыпан звездами. С поля повеяло сыростью, пробежал предрассветный ветерок. А там, на востоке, уже загорается ярким пламенем утренняя звезда.
– Теперь по шляху можно идти галопом, – говорит трубач, – к рассвету попадем на батарею.
Кольно, Малый Плоцк и Скрода-Руда
Бригада переброшена на Кольно. С вечера мы расположились на дальней его околице. Мне отвели чудесную квартирку – роскошь, невиданная с начала войны. Какое наслаждение сменить белье, раскинуться на перине, утопая в подушках!
Но через час наш разъезд (так называют его казаки) принес тревожное известие: раненый германский офицер сообщил, что целая дивизия с кавалерией и при 20 орудиях всех калибров сосредоточивается в окрестностях, чтоб ударить на нас завтра. Завтра… но сегодня еще успеем отдохнуть!
Бедняга не пытался ничего утаить от терзавшего его расспросами штабного с книжкой в руках. Он только жалобно повторял: «Lassen Sie doch mich schlagen, bitte sehr!»[129]
– Три дня я охотился за ним, – ликовал взявший его в плен хорунжий. – Наконец-то он мне попался!
На другой день с раннего утра загремели пушки, наши крошечные горняжки прижались под деревьями к самой кладбищенской ограде, сложенной из дикого камня. Правее нас стреляла 8-я конная батарея. Впереди, в 300 шагах, – две ветряные мельницы, с которых видно все до ближайшей опушки. На правой – командир конной батареи, на левой – я. Наших не видать. 2-й полк где-то влево, но связь с ним потеряна; остальные правее, за шоссе, перерезающим городок.
Мы спокойно поджидаем врага: стрелки не бросают своей артиллерии. Но вот тяжелый снаряд поднимает смерч пыли в ста шагах от нашей мельницы. Цели сняты, пора слезать… И вовремя: вот заалела правая мельница. На месте нашей поднимается огромный пылающий факел. На опушке показываются каски. Снимается конная батарея, уходит галопом под огнем неприятельской батареи… А наших все нет… Ни слуху, ни духу. С монумента, с которого я наблюдаю, ясно можно видеть наступающие цепи, они все ближе и ближе.
Я соскакиваю со своего пьедестала и подбегаю к колесу первого орудия:
– Передки на ближний отъезд! Поручик Коркашвили, после этого залпа уводите батарею на тыловую позицию. Я останусь отстреливаться до последнего.
– Прицел 10, на картечь!
– Беглый огонь, без очереди!
– На задки, галопом, марш!
…В городе уже пусто. Батарея уже вне опасности. Когда я догоняю своих, из окна последнего дома высовывается начальник штаба, капитан Морозов.
– Куда?
– На тыловую позицию!
– Кто в городе?
– Немцы.
– А стрелки?
– Никого. Мы в прорыве. Последним залпом мы били на картечь. Немцы уже за кладбищенской оградой.
Немцы, как всегда, ограничились намеченным успехом. Теперь они засыпают наши тылы тяжелыми снарядами, но мы уже на новой позиции, в трех верстах за городом, и их пехота не преследует нас далее.
Сумерки. Крошечные пушчонки укрыты соломенными крышами сараев. За ними все в ряд лежат офицеры и прислуга.
– Иван Тимофеевич! Иван Тимофеевич! – кто-то тянет меня за сапог. – Это я, прапорщик Попов из парка!
– Что прикажете?
– Константин Дмитриевич послал меня в Кольно за 50 снарядами. Мы их там забыли при отступлении, в сарае, на околице.
– А есть с вами люди?
– 50 человек калипучаров, все с карабинами и кинжалами.
– Ну, пожалуй, этого будет маловато, там уже целая дивизия.
– Так что же мне теперь делать?
– Спите себе спокойно до завтра, а там подойдут подкрепления, отберем их обратно… А есть у вас потери?
– Тирлингу оторвало руку снарядом. Его отправили в Ломжу и снабдили деньгами из батарейного капитала.
– Ну, с Богом!
Прошло много, много лет… Белые заняли Харьков, только что брошенный большевиками. В лучшем отеле города Кутепов, его начальник штаба и я. У меня в приемной толпа народа. Среди них элегантный молодой человек с букетом чудных роз в руке, другая прячется в пустом рукаве.
– Тирлинг?… Еще не забыли своего командира?
– Таких не забывают! А это от меня вашей барыне. На сто рублей, данных ему на дорогу, Тирлинг жил два месяца, пока выучился писать левой, получил место в конторе и теперь пришел навестить тех, о ком думал столько бессонных ночей.
Но утром никаких подкреплений не подошло. Совершенно обратно: из авангарда мы превратились в арьергард. Прикрывшись 4-м полком и выводом моей батареи, которые задерживали немецкое наступление у деревни Маркова, мы продолжали отходить на Малый Плоцк, где сосредоточивалась целая армия, формировавшаяся из Гвардии и частей, вновь прибывших с Дальнего Востока.
Встревоженный упорной пальбой в Баркове, я оставил батарею и поскакал туда. Я нашел наших еще по ту сторону Скроды; но пехота уже отступала, переходя реку вброд, блестяще выполнив свою задачу при великолепном содействии взвода Шихлинского, боевая работа которого вызвала общий восторг.
– Что будем делать? – обратился он ко мне. – Искать брода уже нет времени. Идти через мост? На него, наверное, обрушится вся артиллерия!
– На мост! – отвечал я. – На мост и марш-марш!
Мы пролетели мост, прежде чем немцы успели очнуться, и спокойно присоединились к своим уже за Малым Плоцком. Прилагаю описание этого блестящего дела со слов участников.
Много лет спустя, уже в Парагвае, на банкете у американского посла ко мне подошел граф Ведель, германский уполномоченный в Асунсьоне.
– Не знаю почему, генерал, но я уверен, что мы с вами встре чались на войне. Вы были под Плоцком, под Барковым. В то время я был воздушным наблюдателем и видел блестящие действия вашей горной артиллерии.
– Это была моя батарея, граф…
– Не могу достаточно выразить вам своего восторга. Во всех боях вы покрыли себя бессмертной славой. Помню, под Барковым, когда мы думали, что сопротивление пехоты уже сломлено и начальник дивизии собрал свои полки, чтоб сделать им смотр, вы осыпали нас гранатами и заставили разбежаться куда попало. И меня с моей колбасой в том числе.
– Значит, мы с вами в кровном родстве. Мы крепко пожали друг другу руки.
Ступайте в ж…
Малый Плоцк – это крупное местечко, все дома которого вытянулись в две параллельные линии почти до самой Скроды, которая вместе с Писсой орошает заболоченные луга междуречья. Северный край местечка сливается с группой маленьких деревушек, напоминающих островки болот и влажных лугов. Впереди и позади местечка расстилаются волнистые поля, а в тылу тянется ряд деревень, вытянувшихся в том же направлении. Верстах в семи позади расположена Ломжа, крепость, ликвидированная пред самой войной, но теперь снова спешно приводившаяся в боеспособное состояние. Шоссе Ломжа – Кольно пересекает местечко под прямым углом, где в самом центре его возвышается великолепный костел с двумя высокими колокольнями в виде готических башен. Я немедленно воспользовался им как превосходным наблюдательным пунктом и, пока еще не подошла немецкая тяжелая артиллерия, пристрелял все важнейшие точки впереди всего фронта. Свежие войска – это были сибиряки – уже занимали указанные им места и отрывали неглубокие окопы. Я разыскал командира 36-го полка, установил с ним связь и посвятил его в курс дела. Корпус явился совершенно не подготовленным к современной войне и притом необстрелянным, но командир полка быстро освоился со всем, что только могло быть ему полезным, и ясно отдавал себе отчет о необходимости тесной связи с артиллерией. Он немедленно приказал укрепить окопы до полной профили, и наше содействие обеспечило его участок в течение ближайших дней и ночей. Все попытки немецких блиндированных машин прорваться по шоссе пресекались тотчас же нашим ураганным огнем.
– Ты только посмотри, что выделывают эти самоеды, – ворчал Коркашвили. – Пошел бы ты научить их уму-разуму. Ведь этак они погубят себя и нас!
Действительно, новые батареи, подходя одна за другой и занимая позиции, становились совершенно открыто, вне всякой связи с пехотой и даже между собой; выбирали слепые наблюдательные пункты вблизи батареи.
Чему они учились в мирное время? И кто руководил их обучением?
Я вернулся на батарею совершенно измученный, обежав десяток позиций, где всякий раз приходилось твердить одно и то же: о необходимости тесной связи с пехотой и немедленной пристрелке по всему фронту; об укрытии резервов и миметизации орудий, об отрытии глубоких ровиков для прислуги и щелей на случай интенсивного огня от тяжелой артиллерии…
– Ваше высокоблагородие! – встретил меня Кулаков. – Только что было здесь начальство, важный генерал. Сказывал, ваш кунак по Александрополю. Передавал поклон и просил прибыть в Малый Плоцк на совещание к 12 часам.
– Кто же это мог бы быть? Офицеры не видали его, они сидели в землянке. В Александрополе! Ах! – меня осенила мысль. – Ну да, это и не мог быть никто другой… Мусхелов! «Чурчхелов», как мы его называли.
Теперь для меня разом стало ясно все: и полузакрытые позиции, и батарейные резервы, колбасой (по-кавказски, чурчхелей) вытянувшиеся за первым орудием.
Узкоумный и упрямый, «Чурчхелов» деспотически настаивал на своем, уверяя, что лучший метод укрытия ящиков – это ставить их в затылок один за другим, подставляя, как он уверял, под взоры и выстрелы противника лишь одну запряжку, а прочие 17 укрывая за первой… Что-то он теперь готовит своему другу? Возвращаюсь через полчаса к своим совершенно убитый.
– Ну, что он тебе преподнес?
– Да уж не знаю, как и отвечать: «А, мой милый друг» – говорит, а потом вдруг: «Ступайте в ж..!»
– Это что еще?
– А вот, давайте скорее обедать, и людям раздайте пищу, а потом сами увидите. Крупсик! Есть молочко? Горло пересохло.
У Крупского всегда во фляге найдется молоко для своего командира. Когда он, не снимая ее, дает сделать из нее несколько глотков, на его лице появляется выражение кормилицы, питающей своего младенца.
– Ну вот, – вынимает карту. – Вот, милый друг, видишь эту надпись поперек поля: «Железова Воля»?
– Вижу.
– Так вот, сейчас ровно 12 часов. Туда (мерит циркулем) ровно 10 верст. К четырем часам ты должен быть в букве «Ж» и открыть оттуда огонь во фланг по всей немецкой позиции.
– Ваше превосходительство!..
– Ровно в четыре часа. Ну, ступай скорее! Там был командир полка. Я к нему:
– Да ведь вы без меня не продержитесь и ночи!
– Ну что же! Он и слушать не хочет. Был там и Тумский.
– Скажите ему, что ведь «Воля» на нашем фланге, а буква «Ж» за версту, в тылу у немцев. Куда же я пойду один?
– И слушать не хочет.
Вот тебе и кунак! Удружил. Отправляйтесь в «Ж»! Упрямый ишак!
– Ну что же, не впервые нам исполнять дурацкие приказания, – резюмирует Коркашвили. – Что же ты думаешь делать?
– А вот увидишь.
Не в первый раз чувствовал я себя Иваном-дураком у царя Берендея.
В сумерки подходим к перелескам на крайнем фланге корпуса. Влево остается деревушка, эта самая «Железова Воля». Она взята сибиряками. Надпись на карте пересекает ее выше и углубляется на целую версту в немецкий тыл. Севернее деревушки – болото, не охраняемое никем, – прорыв между нами и 1-м гвардейским корпусом. На противоположном берегу болота заметны кое-какие окопчики: немцы. Возвращаюсь к своим.
Ну что ж? Дальше идти некуда. Здесь прорыв. Кто знает, где там еще находится гвардия. Рассыпаем по опушке чукчуров, а сами направим одно орудие в ориентир, а остальные в запряжках пусть будут готовы уходить при первой попытке неприятеля перейти в наступление. Пошлем связь к сибирякам.
Завертываюсь в бурку и ложусь у первого орудия. Прислуга тоже. Лошади стоят в запряжках, понуря голову.
Все стихло… Но вот я слышу размеренный шум шагов. На опушке мелькают какие-то тени. Солдаты в гвардейской форме с синими петлицами, окаймленными алыми выпушками… Я вскакиваю и поспеваю вовремя, чтоб остановить замыкающего прапорщика.
– Скажите, какая часть?