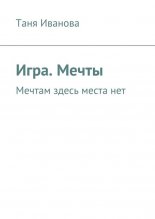Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева Беляев Иван
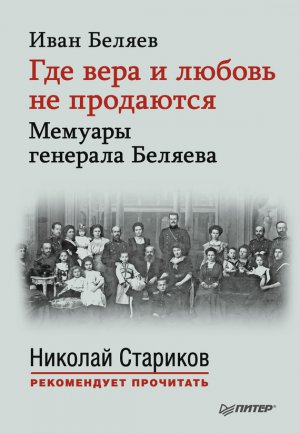
Вспомнилось «Слово о полку Игореве»: «И вы, куряне, под трубами, повитые, концом копья вскормленные».
Мы остались одни при полках 74-й дивизии, лучший полк которой, Грязовецкий, осадил под Яворником и оставил наши орудия, а его храбрый командир, раненый, все еще лежит в обозе.
Наши арьергарды занимают ряд высот, отделенных между собой незащищенными пространствами в 5–6 верст.
Наш «Ляс Чарный» напоминает собой корабль, врезавшийся носом в необозримые луга и поля, где лишь кое-где виднеются рощи. Особенно выделяется одна, слишком близко подходящая к нашему правому флангу.
У левой опушки нашего леса ютится покинутая жителями деревушка Ясиновец. Мы с командиром одного из полков дивизии подъезжаем туда уже в темноту, и он указывает мне линии, где пехота роет свои окопы.
Кроме наших батарей, мне придается еще мортирная под командой капитана Докучаева, бывшего моего товарища по 2-й бригаде. В те дни, оба веселые и беспечные, мы с ним часто встречались в доме брата, жена которого собирала молодежь вокруг своей сестры Кати Мусселиус и ее подруг, и мы сражались с ними в крокет и бегали в горелки… Когда-то!
Наблюдательный пункт я выбрал себе «на носу корабля», под прикрытием раскидистых деревьев и кустов. Со мной поместился Шихлинский и телефонисты всех батарей. Свою батарею я оставил на прогалине, в версте сзади, прочие по обе стороны леса: 1-я под укрытием деревушки; 3-я за уступом леса. Наблюдательный пункт Докучаева был рядом с моим, всего в 30 шагах, а его батарея крутой траекторией внедрилась в чащу леса. Таким образом, мы могли бить тремя батареями в любую сторону и всеми четырьмя с фронта. Я вернулся на ночлег, когда уже стемнело.
За полчаса до рассвета мы были разбужены отчаянной стрельбой по всему фронту.
– Тревога! По местам! Орудия к бою!..
Застегивая портупею на ходу, я лечу с разведчиками на наблюдательный пункт.
– Ни днем, ни ночью не дают покоя! – вырвалось у меня. Пехота отдыхает в резерве, офицеры уезжают на несколько дней или недель в тыл залечивать свои раны… Но нам нет отдыха!
Впоследствии Дзаболов не раз напоминал мне эти слова:
– Бог тотчас же услышал вашу молитву, – прибавлял он при этом всякий раз.
Австрийцы атаковали нас без поддержки артиллерии. Впоследствии я не раз слыхал от пленных, что их артиллерийские начальники – почти поголовно евреи – наблюдают издалека, откуда ничего не видно.
Атака была отчаянная. Наша пехота – это уже не был ни Курский полк, ни наши кавказские стрелки. Наблюдательный пункт находился всего в 300 шагах от линии огня. Но ураганный огонь всех батарей, сосредоточенный на главой точке атаки, сделал свое дело. Наступление было отбито. Впереди наших окопов остались только раненые, которые махали платочками, умоляя прекратить огонь.
– Прикажи остановить стрельбу, – обратился ко мне Шихлинский, – дадим им убрать раненых.
– Ваше высокоблагородие! Говорит начальник дивизии. Иван Тимофеевич, дорогой! Что у вас там делается? От командиров полков не поступает никаких донесений. Ближайший в восьми верстах от окопов. Вы там совсем близко. Скажите, в чем дело?
– Сейчас все спокойно, ваше превосходительство! Австрийцы рассчитывали захватить нас врасплох, но были отбиты артиллерийским и ружейным огнем. Теперь перед фронтом остались одни раненые.
Добрейший генерал Шипов очень привязался к нам за последние дни. Во время боя на Яворнике он набросал с меня прелестный эскиз и поднес мне его с надписью: «Дорогому другу и герою И. Т. Беляеву, представленному мною к ордену Св. Георгия». На рисунке я был неузнаваем, в позе Фра Диаболо, с надвинутой на бровь папахой и башлыком за плечами, я казался настоящим Залим-ханом. В приложении к «Новому времени» в Петербурге мне потом показывали аналогичные рисунки его карандаша, но я не решился печататься в газетах.
Казалось, бой затих… Но вот опять вызывает меня мой правофланговый разведчик Алавердов.
– Ваше высокоблагородие, в опасной роще, которую вы мне поручили наблюдать, заметно какое-то движение. Как будто уста навливают пулеметы.
– Пойду направлю туда батарею Докучаева, – говорю я Шихлинскому. – Пускай угостит их парой своих снарядов.
– Ты бы не высовывался из блиндажа…
Но добрые советы чаще всего пропадают даром. Я уже лежу на окопчике Докучаева.
– Махните-ка по этой роще!
– Слушаю.
В эту минуту чувствую удар по боку и сильную боль в руке. Кругом сыплются ветви, срезанные пулеметным огнем.
– Я убит, – передаю команду старшему. – Носилки! Поддерживая левою разбитую правую руку, иду в блиндаж. Са нитары уже тут.
Появляется розовый бинт, меня раздевают.
– Вот человек, – говорит Антоненко, – скрозь просадило, а крови нету.
Хватаюсь рукой за спину: между позвонков застряла пуля, она торчит под кожей, словно наперсток! Спереди маленькое сквозное отверстие.
– Не трогай руками! – кричит Рустам-бек. – В окопе это верный столбняк! Ложись на носилки, пусть они тебя несут на перевязочный пункт.
– Ну, прощайте! Телефонисты, передайте батареям: я ранен и передаю команду капитану Шихлинскому. Всем чинам сердечную благодарность за блестящие действия в сегодняшнем бою.
– В ногу, ребята, чтоб не побеспокоить раненого! – но четверо молодцов несут меня так заботливо, что я чувствую себя как младенец в руках любящей матери. Временами их сменяют другие; я вижу, как они отстают, чтобы стереть слезы. Навстречу Коркашвили. Меня несут мимо моей батареи. Я останавливаю носилки.
– Не вздумай говорить, – протестует доктор, – это может убить тебя.
– Но как же я могу расстаться с батареей, не попрощавшись…
– Радуйтесь, братцы! Мы победили, враг отступает по всему фронту… Стойте твердо, бейтесь крепко и… помолитесь о своем командире.
Мои солдаты вынимают платки…
До перевязочного пункта восемь верст. Только однажды, при переезде через какой-то ровик, меня слегка встряхнули. Я лежу неподвижно, глядя на голубое небо, просвечивающее сквозь листву ясеней и кленов. На душе все ясно и спокойно, как в церкви в тихий воскресный день.
– Мне кажется, это лучший день в моей жизни… Я исполнил свой долг перед Богом, перед Родиной, перед Вами… Если что еще не дает умереть мне спокойно, это мысль о моей жене. Еще вчера я получил от нее письмо: «Умоляю тебя не бросаться опять в атаку… Всякий раз, когда ты сделаешь это, вспомни, что твоя Алька на коленях, со сжатыми ручонками умоляет тебя пожалеть ее и себя!»
В огромном операционном зале меня уже ждут доктора.
– Руку – это дело второстепенное. А тут? Чувствуете боль?
– Нет.
– Здесь?
– Нет.
– Тут?
– Тоже нет!
– Попробуем вынуть пулю…
В углу икона Божьей Матери. Я останавливаюсь взглядом на Ее Лике и крепко сжимаю пальцы, чтоб не застонать. Изо всех окон на меня глядят испуганные лица наших обозных. Я стараюсь улыбнуться им… Пуля вынута!
– Поздравляю, – говорит доктор. – Считайте, что вы выиграли двести тысяч. Если б на волосок, были бы затронуты позвонки. И кишечник не пострадал. Вас спасло то, что вы были натощак и лежали на боку. Рука – это пустое. Мы сейчас возьмем ее в лубки, а там вас загипсуют.
– Готово! Теперь отдыхайте, можете кушать и пить все, что хотите. Сейчас за вами приедет санитарный фургон, мы отправим вас в Станиславов.
– Иван Тимофеевич, дорогой! Как вы? – перед моей по стелью генерал Шипов. – Как я счастлив, что опасность миновала… Я пошлю вас прямо в собственный лазарет Ее Величества, поручу вас самой Государыне… Но пока кушайте, вестовой принес вам чай.
Вместе с чаем Крупсик принес мне карточку жены и ее последнее письмо. Я всегда носил их на груди.
– Скажите, что я мог бы для вас сделать?
– Я чист перед всеми. Перед одной моей женой я остался в неоплатном долгу. Она у меня одна, в случае чего она останется беспомощной сиротой. Напишите о ней Императрице, чтоб она не осталась на улице.
– Я сейчас же напишу ей обо всем, – отвечал глубоко тронутый старик. – Хотел бы я видеть ее!
– Вот ее карточка. Я всегда ношу ее особой, и сейчас Крупский вытащил ее из моего простреленного мундира.
– Какая она прелестная… Если моя дочь еще в Царском, она сама представит ее Императрице. Сейчас пойду писать письма.
Путешествие в Станиславов было не из приятных. Неподрессоренный фургон подскакивал на каждом шагу, и разбитая рука давала себя знать. Когда мы, наконец, прибыли на место, меня положили в общий зал между молоденьким прапорщиком с пулей в кишечнике и австрийским офицером, раненным в коленную чашечку. Прапорщик уже впал в забытье. «Ах, как мне теперь хорошо!» – были его последние слова.
– Это всегда так при перитоните, – шепнул мне Брон, – перед концом.
Перед расставаньем Коркашвили принес бутылку шампанского и налил всем по бокалу.
– Чокнемся, друзья и враги! Выпьем за все, что близко сердцу, за Родину, за славу наших знамен, за тех, кто для вас дороже жизни… за живых и за тех, кого уже нет. Алаверды!
Венгерец сунул мне в руку адрес его родных с просьбой послать им телеграмму. Сестра моя исполнила это поручение тотчас по моем приезде.
Свежая рана не болит. Но с наступлением ночи меня стала трясти лихорадка. После первой дозы морфия доктор, наверное, стал потчевать меня чистой водой, я не мог забыться ни на минуту. Бывало, в детстве мне снились белые грибки, прятавшиеся в моховой подушке, рыжики, выглядывавшие из-под опавшей хвои… Потом розовые и белоснежные платьица танцующих барышень… Теперь, в полубреду, мне грезилось опрокинутое орудие, тела убитых, слышались слова команды, невнятные фразы: «Грязовецкие осадили… Наша пушка осталась у австрийцев… Вперед, не задерживайся… Он убит наповал, разрывная пуля снесла ему черепную кость…»
– Морфию, доктор, еще хотя одну дозу…
В лазарете Ее Величества
– Зайка… ранен… Ну, я так и знала! – слышится взволнованный голос под окнами вагона. – Я поняла все, как только получила телеграмму!
Передо мною моя дорогая, любимая…
– Ах, Зайка, Зайка! Ну разве можно быть таким неосторожным?.. Я ведь тебе писала… Умоляла тебя…
Несмотря на острую боль, которая не дает мне вздохнуть, я не могу не улыбнуться.
– Как же можно хлопотать вокруг плиты и не обжечься? Но успокойся, опасность миновала, раны будут заживать помаленьку. А главное, ведь мы наконец вместе!
Появляется доктор Брон с носилками.
– А это к чему же? Разве ты не можешь сам?
– Не волнуйтесь, Александра Александровна! Так ему будет спокойнее. Все заживет, не надо только тормошить его.
– Куда же мы теперь?
– Сейчас едем к папе, он ведь близко, на Греческом. А потом Бронидзе справится по телефону в Царском. Ведь у меня письмо к Императрице, меня обещали принять в ее частный лазарет.
Дома была одна только Мария Николаевна. Она была потрясена неожиданностью. Пока что меня устроили на софе, в запасной комнатке. «Папанчик» был в церкви; вскоре я услышал его встревоженный голос:
– Ваня ранен… лежит… Боже мой!
При его приближении я поднимаюсь во весь рост.
– Не волнуйся, ради Бога, раны не опасные! – мы крепко об нимаемся.
Бедный папанчик! Он уже сильно постарел. В тяжелом зимнем пальто, с просвиркой в руках, со слезами, катившимися по щекам, он уже не имел того мужественного, энергичной наружности вида, которым поражал нас еще не так давно. Но когда Мария Николаевна пригласила нас к столу, он уже успокоился и принял прежний вид.
– Вот, никогда не думал, – говорил он задумчиво, – что самый тихонький, самый беспомощный из моих детей и вдруг… – он не договорил своей мысли, – вернулся весь израненный, с письмом на имя самой Императрицы, Георгиевский кавалер!
Как часто родители ошибаются в собственных детях! Он не подумал, что ведь я же привел к нему в Кронштадт свою батарею в самый трудный момент, когда он с горстью людей отчаянно защищался от 20-тысячной матросни; но вспомнил мои отчаянные поездки по Кавказу!
– А вы тоже кавказец? Грузин? – спрашивает Мария Николаевна милейшего доктора, который рассыпается в похвалах своему раненому командиру.
В нашей маленькой семье мы всех окрестили кавказскими именами и распределили по-своему. Благодаря этому из Брона вышел Бронидзе, из Кулакова – Кулакидзе. Брона признали «михайлоном», а ветеринара «костопупом».
– Я… еврей, – проговорил бедняга, уткнувшись в тарелку. В эту минуту вошел брат мой Коля.
Мы крепко обнялись. Он уезжал в постоянную командировку в Лондон, к начальнику артиллерийского снабжения генералу Гермониусу. Он только что женился и ехал туда с молодой женой и тещей. Я горячо поздравил его со счастливым браком.
– Я догадывался об этом уже давно!
– Как так?
– А помнишь, когда я был на твоей батарее под Боржимовым, я присылал к тебе моего старшего разведчика Хаджи-мурзу Дзаболова? Вскоре он уехал в отпуск и, когда вернулся, сообщил мне, что видел, как ты садился в петербургский экспресс в Варшаве, веселый и радостный, в сопровождении двух элегантных дам. «Наверно, они собираются жениться, – сказал он. – Для них война уже кончилась».
Прибежала Махочка (Ангелиночка осталась в лазарете с ранеными солдатами). Она со слезами обняла меня.
– Но разве ты не носил мою ладанку с девяностым псалмом? – это был ее первый вопрос.
– Носил, не снимая. И каждую ночь, как бы ни был измучен, повторял этот чудный псалом наизусть.
Видимо, ее верующую душу смущала мысль, как же я мог пострадать, несмотря на все это.
– Успокойся, – отвечал я. – Если за что я жарче всего благодарю Провидение, так это именно за эти раны. Они дали мне возможность еще раз увидеть всех вас и спасли меня от конфликта с командиром дивизиона, который в этот самый день вернулся из отпуска.
После обеда доктор Брон отвез меня в лазарет, где меня сразу устроили в отдельной комнате.
Помещение производило чрезвычайно уютное впечатление. Низенький домик был расположен в небольшом саду. Вдоль фасада, снабженного передней и крыльцом, шел длинный, светлый коридор, куда выходили двери целого ряда небольших комнат, занятых койками для раненых. Все было окрашено светлой масляной краской, окна защищены сетками от мух.
Мне отвели отдельную комнату и сразу же сняли радиографию с разбитого локтя.
Доктор Брон тотчас же уехал, унося мои сердечные пожелания батарее и всем оставшимся на позиции. Одна за другою появились сестры, засыпавшие меня вопросами. Старшая была дочь донского генерала Грекова, высокая и представительная, с большим опытом. Две другие, помоложе, – одна довольно приличной наружности, другая очень некрасивая, горбатенькая. Узнав, что я женат и что жена моя здесь, обе первые тотчас же исчезли, осталась третья, которая все время старалась чем-либо услужить мне. Но я ни в чем не нуждался.
– Почему вы не стонете? – спрашивала она. – Неужели вам не больно? Все-таки это облегчает страдания.
– Мне больно не только от стонов, но даже от каждого вздоха, – отвечал я. – Наверное, поврежден нерв. Поэтому я и молчу, как рыба.
– Ну, если вам что-нибудь понадобится, позовите, я буду здесь, в коридоре.
На другое утро ровно в 10 часов подъехала Императрица с детьми. Все, кто только мог стоять на ногах, ждали ее приезда в коридоре. За ней явились обе старшие дочери. Меня пригласили в перевязочную. Императрица сидела, рядом с ней стоял старший врач, княжна Гедройц и помогавший ей доктор. Она взяла из моих рук письмо генерала Шипова и бегло пробежала его.
– Невероятный случай, Ваше Величество, – сказал доктор, осматривая раны, – сквозное ранение живота, пуля прошла на волос от позвонка и не разбила ни кишок, ни кости… Это чудо!
Входное отверстие уже затянулось.
– Кости руки тоже уже зарастают, вот радиография, – продол жал врач. – Мы уже сняли лубки и наложили гипсовую повязку.
Общее состояние удовлетворительное, но заметно полное истощение организма!
Девять месяцев непрерывных боев дали-таки себя знать!
Я быстро освоился с жизнью в лазарете. В конце коридора в отдельной комнате лежал барон Таубе, которого я знал еще с первого года в дивизионе, так как он был тогда адъютантом лейб-гвардии первого Его Величества стрелкового батальона; потом мы сражались бок о бок под Скродой-Рудой. Ему оторвало ногу, но он уже шел на выздоровление. За ним ухаживала Грекова, которая потом и вышла за него замуж. В соседних комнатах работала вторая сестра.
В центре лежал очень тяжело раненный капитан Гаскевич, у него все время отслаивались сектора от голенной кости, и он был под страхом, что ему отнимут ногу. Далее за мною находилась группа молодежи: маленький кирасир Ноне, совсем юный, уже выздоравливающий штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка и несколько эриванцев со своим капитаном князем Головани. Все были веселые, симпатичные и жизнерадостные, и, когда одна из княжон помогала матери, а другая отдыхала в коридоре, они окружали ее и заставляли смеяться своим выходкам.
– Смотрите, какие прелестные эти эриванцы, – повторяла заведовавшая столом Величковская. – Совсем не то, как наши чопорные преображенцы. (Ее муж, наш дальний родственник, был старший офицер Преображенского полка.)
Иногда, по вечерам, все собирались к роялю, стоявшему в передней комнате, играли и пели. Княжнам больше всего нравилось:
«Это девушки все обожают, от принцесс до крестьянок простых.
По ночам об одном лишь мечтают, чтоб сбылися мечтания их…»
Оживление молодежи достигало апогея, когда по праздникам появлялись Мария, Анастасия и маленький наследник. Все бежали в сад и начинали играть в крокет.
У Ольги Николаевны ее правой рукой был молоденький прапорщик Шах-Багов, хорошенький, как картинка, и застенчивый, как девочка. Он всегда стоял немного в стороне и вспыхивал ярким румянцем всякий раз, когда его глаза встречались с глазами Ольги.
У Татьяны был свой любимец: рябой и некрасивый Мелик Адамов, тоже прапорщик Эриванского полка. Кстати и некстати он сыпал шутками и прибаутками, которые всегда встречали одобрение, делал отчаянные прыжки на одной ноге (другая была в гипсе), размахивал крокетным молоточком и потихоньку учил маленького наследника поджуливать, незаметно подкатывая шары.
После операции маленького Ноне уложили в постель подле окошка. А ночью Мелик Адамов умудрился посадить на штору куколку-бебе с такими же голубыми глазами и со следами пуха на голове.
– Смотрите, смотрите, Ваше Величество, – докладывал он утром Татьяне и Ольге, – за ночь у Ноне родился ребенок – вылитый пор трет родильницы, а он злобствует, скрежещет на него зубами и все время пытается его уничтожить, только не может встать с постели.
Сходство действительно было поразительное – без смеха невозможно было глядеть на обоих.
Вечером вызвали Татьяну (она обслуживала телефон матери) и сообщили ей в шутливой форме о состоянии больных.
Князь Головани тоже не давал маху. Но он метил повыше. Доктор заметил, что Императрица благосклонно к нему относится, и как-то сказал ей:
– Вот, Ваше Величество, смотрите, какой результат компресса – рана уже заживает (у Головани был раздроблен большой палец руки).
– А наша молодежь с компрессами разъезжает по театрам.
– Ну, – вставил Головани, – был бы и я молод, разве вы удержали бы меня вашими компрессами?
– Сколько же вам лет?
– Сорок, Ваше Величество, уже за сорок перевалило!
– Но, князь, ведь и я иногда смотрюсь в зеркало!
– Зачем, Ваше Величество? – прогремел веселый кавказец. – Не верьте зеркалам, верьте нам, мужчинам!
Кроме офицеров, в лазарете лежало еще 12 тяжелораненых солдат. Помню одного из них – это был хохол, красавец с синими глазами, чернобровый, кровь с молоком. У него также были раздроблены кости пятки, и после длительной операции он с трудом приходил в себя.
Ольга Николаевна стояла, опираясь на перильца его кровати, и с участием смотрела в лицо раненого. Неожиданно в его глазах мелькнул луч сознания. Он впился в нее глазами.
– Эх, касаточка ты моя! – простонал он. – Красавица ты моя!.. Сколько же я перепортил вашей сестры! Бедовый я был!..
К стыду нашему, среди интеллигенции немало было людей, которые не могли отдать себе отчета в трудах Государыни и Ее дочерей, которые тратили все свое время и все свои силы на лечение людей, чуждых им по среде и по воспитанию. Был один доктор со сложным переломом в локте, который все время заговаривал со мною о придворных интригах:
– Распутин, вы не знаете, кто такой Распутин?..
При следующем посещении отца я узнал от него все, что только было и что так невыгодно для императрицы старался мне внушить этот доктор. К счастью, он скоро закончил свое лечение и уехал на поправку. Другой был капитан Гаскевич, глубоко возмущавшийся неудачным лечением его ноги. В конце концов, Императрица перевела его в Ортопедический госпиталь по соседству, где ему спасли ногу. А молоденькая его жена, которая день и ночь хлопотала о муже, осталась на все время его болезни в колоннаде Большого дворца с женами и матерями других раненых офицеров.
По окончании перевязок все выходили на крыльцо провожать Императрицу и княжон. В нескольких шагах от госпиталя через дорогу проходил желоб, и при переезде через него автомобиль слегка встряхивало. По установившейся традиции Татьяна пользовалась этим толчком, чтоб обернуться и еще раз кивнуть провожавшим, которые отвечали ей поклоном, причем Мелик Адамов, стоявший позади Ноне, неизменно пригибал его голову рукой.
По праздникам и во дни именин и рождений кого-либо из Царской семьи в автомобиле приезжали все дети. Они всегда просились провести с нами свой день.
– Ваше Высочество, что же вам подарили сегодня? – спрашивала Величковская Анастасию, которая застенчиво прятала под рукав тоненькие платиновые обручики. – А, уже вижу! Это подарила вам мама?
– И папа, и мама!.. Из старых маминых вещей…
Милая девочка, краснея, старается спрятать ожерелье, которое блестит на ее беленькой шейке.
– А это?
– То же самое! Из старых маминых вещей…
Мария Николаевна уже не девочка. Полненькая и пышноволосая, она застенчиво стоит в стороне, временами поднимая свои большие глаза, окаймленные густыми ресницами. По-видимому, она стыдится себя самой, ей кажется, что все замечают, что она уже взрослая… Маленький Наследник иногда приезжает на своем крошечном автомобиле вместе с Деревянкой. Однажды он влетел обиженный и прямо подскочил к Ольге:
– Почему вы меня не подождали?
– Я же говорила тебе, что мы выезжаем ровно в десять.
– Но ведь ты видела, как я бежал!..
На помощь является неистощимый Мелик Адамов:
– Ваше Величество, пойдемте петь! Слушайте:
- Вот лягушка по дорожке
- Скачет, вытянувши ножки —
- Ква-ква-ква-ква…
У маленького Наследника уже высохли слезы. Его губки шевелятся, и он тихо повторяет: «Ква-ква-ква-ква!».
– А теперь пойдемте приготовлять крокет!
Ко мне подходит Снарский, молоденький эриванец: «Что мне делать? Императрицы сегодня нет, к ней я уже привык. Перевязывает Татьяна. А у меня рана вот где!»
Он краснеет и указывает на то место, которое испанцы называют portes posaderas.
Государь выехал в ставку незадолго до моего прибытия. Ранее он тоже иногда бывал в лазарете и однажды долго сидел у кровати тяжело раненного подпоручика 22-го Сибирского стрелкового полка. Тот с жаром рассказывал ему всю правду…
Они расстались в слезах… Плакал офицерик, плакал и Царь…
Временами он приезжал на несколько дней и теперь. Однажды, катаясь по парку вдвоем с Наследником на его игрушечном автомобиле, он встретил мою жену. Она была в морской блузке.
Государь что-то шепнул Наследнику, и тот отдал честь по-военному. Жена сделала глубокий реверанс и Государь с улыбкой ответил ей поклоном.
Накануне дня рождения Императрицы я получил от генерала Шипова длинное письмо и запаянную жестянку с цветами, которые он просил преподнести ей в этот день. Я все не вставал, доктор с трудом разрешил мне это. Но были затруднения: меня доставили с поля сражения в одном белье, завернутого в бурку. И когда раскрыли коробку, от нее несло лимбургским сыром, а ландыши, за немногим исключением, пожелтели и почернели.
Но так ли, иначе ли надо было исполнять желание моего начальника и друга. Дело было под вечер. Я вызвал Татьяну Николаевну по телефону, и в ту же минуту она ответила, что мама примет меня завтра в два часа пополудни.
Все наши пришли ко мне на помощь. Явился главный садовник оранжереи графа Стенбока и немедленно совершил над цветами чудо превращения. На другой день я уже держал в руках прелестный букет свежих ландышей, одетый в коллективный костюм всей эриванской палаты, с богатой кавказской шашкой, на клинке которой золотом была высечена надпись: «Моему милому мальчику от его мамы». Ровно в два часа я уже стоял перед дворцовым караулом.
Меня ввели в запасную приемную, где пришлось подождать с полчаса. Наконец, придворный арап провел меня по широкому, светлому коридору и указал на открытую дверь.
В большом приемном зале, сплошь заставленном душистыми белыми розами, сиренями, нарциссами и другими серебристыми цветами, стояла Императрица в роскошном белом туалете. Она милостиво протянула мне руку и взяла письмо и букет.
– Ваше Императорское Величество! Генерал Шипов просит повергнуть к вашим стопам эти ландыши, которые он сам собирал для вас на Карпатских гребнях. Смею уверить вас, что в его лице вы имеете вернейшего и преданнейшего слугу. Это настоящий рыцарь старого поколения, храбрый и благородный.
– Он всегда был таким, – с чувством отвечала Государыня. – Вы были с ним в последних боях? Он писал мне об этом… Но какая это ужасная война! Сколько свежих, молодых гибнет с обеих сторон, возвращается искалеченными к своим женам и матерям! Ведь я вижу это каждый день, они проходят через мои руки.
– Что делать, Ваше Величество! Такова наша доля… Но пусть погибнем все мы до последнего, останутся жены и дети. Ведь дело идет не только о чести России – о самом ее существовании!
Что же иное мог ответить своей Государыне верный русский солдат?
В течение нескольких минут разговор вертелся около ужасов войны. «Когда же она кончится?» – повторяла все время Императрица. Я доложил ей, что вместе со мной вышли в поход все шестеро моих братьев, но пока что все мы живы. Лишь один имел несчастье попасть в плен под Сольдау.
– Как с ним обращались в плену? – с живостью спросила Императрица.
Он писал, что сперва было плохо. Но когда их перевели во Фрейбург, в Гессене обращение стало несравненно лучше. Видимо, там вас еще не забыли, Ваше Величество!
Этим закончилась аудиенция. Обо многом думал я, возвращаясь в лазарет.
Я не раз слыхал о подобных разговорах с Государыней. Быть может, мне следовало бы принять иной тон. Но я всегда говорил то, что у меня на сердце, и поэтому сперва говорил, а потом уже думал.
В Большом Царскосельском госпитале при обходе раненых Государыня выразила свое глубокое соболезнование молоденькому офицеру одного из сибирских стрелковых полков, потерявшему ногу.
– Не беда, Ваше Величество, – возразил тот, – приделаю деревяшку и пойду гнать немцев до Берлина!
– Зачем так далеко? – отвечала Императрица.
Другого она спросила, где и когда он был ранен и с кем ему пришлось иметь дело.
– Против нас были гессенцы, – отвечал раненый.
– Чем же кончилось сраженье? – спросила Государыня.
– Гессенцы бежали.
– Не может быть! – возразила Государыня. Краска бросилась ей в лицо. – Гессенцы никогда не бегали от врагов!
К нам привезли солдата с отрезанными ушами, как живую улику варварского отношения со стороны немцев.
– Как это случилось? – спросила Государыня, осмотрев раненого.
– Так что был я контужен и лежал в бесчувствии. А когда подошли наши, отбили немцев и унесли меня с собой.
– Но как же ты говоришь, что немцы тебя изувечили. Ведь ты же был в обмороке?
– Так, Матушка Царица, как яны взялись за мои ухи, я тут же и очухался!
Факт был налицо, далее сомневаться было уже невозможно. Все мы слышали про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла, но даже Гоголь не решился утверждать, что заседатель сам себе откусил оба уха!..
Мне кажется, нетрудно было понять Императрицу. Ведь она родилась в своем родном Гессене, лучшие годы провела среди своих, кто может упрекнуть ее за то, что ее сердце разрывалось в тяжелом положении между близкими ее мужа и родными по крови. Ведь все ее братья сражались против нас… Корни ее души, конечно, остались в родной земле…
Это было глубочайшей трагедией ее жизни. Будучи любящей женой своего Ники – к черту всех, кто порочит ее честь! – беспредельно привязанная к своему детищу, самоотверженная мать, она отдавала все свое «я» на служение раненым, с неподражаемым искусством заботясь о каждом из них. Кто может обвинить ее за то, что она не могла и не хотела разделить общего негодования, охватившего нас при виде возмутительных актов со стороны людей, для которых мы были вековыми друзьями и которых считали образцом корректности, честности и культурности?
Но разве этих слов ждал каждый из нас от Русской Царицы?
…В эти дни положение на фронте стало трагическим. Когда меня принесли в лазарет, первое, что я сделал, – это было сообщиться с телефоном Великого князя Сергея Михайловича… Подошел Драке, личный адъютант.
– Сообщите Его Императорскому Высочеству, – спросил я, – что после двух блестящих боев на высотах Яворника и под Ясиновцем наш дивизион остался без снарядов. Умоляю сделать все, чтоб ускорить их получение.
Я не знал тогда, что это было общее явление… В пехоте стали отпускать по пять выстрелов на винтовку, в артиллерии – по пять снарядов в день!..
– Прощайте, господин полковник, не поминайте лихом! – Молоденький Шах-Багов, тот самый, который одолжил мне свою шашку, со слезами на глазах жмет мою руку. – Еду на фронт и, если не вернусь с Георгием, то меня принесут на носилках…
…Милая Ольга уже три дня не приходит на перевязки… Сегодня она явилась, наконец, но ее щечки потеряли обычный румянец, а глаза покраснели от слез – чудные девичьи годы, милое чистое сердце…
Все стихло в лазарете, крокет заброшен, на нем показывается зеленая травка. Даже неугомонный Мелик Адамов не балаганит. Проходит неделя, другая. Появляются новые раненые… Вдруг по коридору летит Мелик Адамов, вприпрыжку, на одной ноге… Господин полковник, телеграмма… «Необходима спешная операция, прошу вернуться в госпиталь. Шах-Багов». Вот шарлатан, наверное, придумал себе аппендицит. Бегу к телефону!..
Но бедняга был ранен на самом деле. Тотчас по возвращении на фронт он пошел в атаку и теперь вернулся с раздробленной ступней, бледный, на носилках. Ольга и Татьяна тотчас водворили его на прежнее место в Эриванской палате. Его немедленно оперировали, загипсовали ногу и, так как требовалось полное спокойствие, он остался надолго прикованным к постели. К Ольге вернулось ее прежнее настроение, ее милые глазки заблистали вновь, щечки покрылись прежним румянцем. В крокет уже не играли, но на другой же день принесли и поставили подле больного огромный зеленый стол, где шарики из слоновой кости катались миниатюрными молоточками сквозь расставленные по столу металлические дужки.
Какое наслаждение вздохнуть полной грудью! Мне кажется, оно не сравнимо ни с чем. Раньше я не замечал этого, но вот теперь, когда каждый глубокий вздох причиняет мне нестерпимую боль, я сознаю это. Вот что задерживает мое выздоровление и подкашивает мои силы! Порой мне кажется, что я уже никогда не вздохну свободно.
Но нет! Боли начинают ослабевать, я уже встаю с постели чаще и чаще, даже временами выхожу на двор.
– К вам пришли! Ваша жена дожидается вас в саду.
Вход посетителей разрешается после обеда, от двух часов. Сейчас не время визитов. Наверное, что-нибудь важное! Я накидываю халат и выхожу на крыльцо.
– Зайка, попросись проехаться со мной в город! Я перебывала во всех магазинах и не могла найти себе подходящей шляпки! А у тебя хороший вкус, ты сейчас же найдешь мне что-нибудь подходящее.
В ее лице столько игры, что невольно залюбуешься ею. Забываешь войну, кошмары позиционной страды, раны… Столько детской свежести в этом личике, что не хочется отрывать от него глаз.