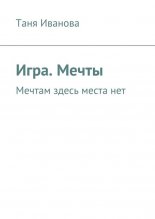Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева Беляев Иван
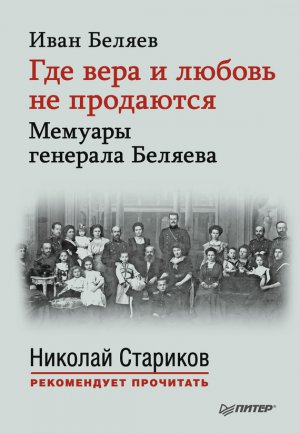
– Ну, как ваша рана? Не опасна?
– Слава Богу, кость не тронута.
– Ну вот, поедете домой, отдохнете немного. Порадуете вашу маму!
На околице меня встречает есаул Скоробогач.
– Станица уже очищена. Я подыскал вам чудесную квартиру с прелестной хозяйкой. Эрдели остановился в богатом доме священника, но там целая драма: муж его дочери – командир красного батальона – попался к нам в лапы, и его расстреляли. А ваша квартира немного в стороне, на другом краю площади.
Я со всем своим окружением вваливаюсь в ворота. Навстречу выбегает молоденькая миловидная девушка.
– Заезжайте прямо во двор, – распоряжается она. – Мама готовит вам обед, так я сама устрою всех вас. Если что понадобится, зовите меня, меня зовут Шурой!
С невероятной быстротой она распределяет всех по местам. Молодежь ликует… Только и слышно: «Шурочка здесь? Шурочка, сюда! – Ай да Шурочка – что за молодец!»
– Ах, вот что еще… – Шурочка конфузится и слегка краснеет. – До обеда еще осталось полчаса, так я вам натопила баню, вот здесь. Успеете помыться. А я пока раскину стол под этими деревьями.
За столом Шурочка повествует о всех пережитых приключениях. Чего только не приходилось пережить, скрывая от красных интеллигентов и казаков… Как помогали ей простые, добрые люди!
– Фома – кладбищенский сторож… Вы не представляете себе, сколько народу он спас! Как только здесь становилось опасно, я посылала к нему. И ведь у него огромная семья. Как только он перебивается с нею, я не могу понять… Святая, христианская душа!
После обеда я пошел к Эрдели. В большой, прилично смеблированной горнице за столом сидела красивая дама, печально слушая генерала, который что-то старался ей внушить. В стороне, с неподвижным выражением на лице, сидел старый священник, настоящий черноморский казак лицом и фигурой. Репин не мог бы пожелать лучшей модели для своих запорожцев, если б этому гиганту сбрить бороду и пустить за ухо оселедец[163]. Но его застывшее лицо было отуманено горем, нависшим над всей семьею…
Когда я вернулся, навстречу выбежала Шурочка. Она отвела меня в сторону и потащила к своей маме.
– Могу я довериться вам? – спросила она, стараясь скрыть свое волнение.
– Говорите! Ведь я ваш гость, вы можете мне довериться вполне.
– У меня здесь раненый… Уже пять дней без перевязки… Он – красный офицер! Совсем молоденький…
Для меня раненый – уже не враг… Я сражаюсь с оружием в руках с вооруженным противником, я не щажу ни себя, ни других. Но лежачего не бьют, я не палач и не убийца! Пусть его судят другие.
– Я позову доктора.
Наш доктор всецело стал на мою точку зрения. Но в армии существует иной, неписаный закон… В ней расстреливают каждого, кто занимал командную должность и был взят с оружием в руках.
Ранее обстановка не давала возможности щадить пленных. Мы сами были окружены со всех сторон. А теперь… теперь мы еще не раз столкнемся с этим проклятым вопросом.
Полчаса спустя Скоробогач принес мне записку.
«Я слыхал, – писал Эрдели, – что вы, как всегда, проводите ваши досуги в милой уютной компании… Я хотел бы просить разрешения Вашей милой хозяйки отдохнуть несколько минут за ее чайным столом».
Нелегко было мягкосердечному и гуманному Эрдели… Он был бы рад душой избавиться от своей роли неумолимого судьи. Мы сейчас же послали ему самое сердечное приглашение.
На другое утро я встретил милую Шурочку в слезах.
– Убили его… Его расстреляли, – говорила она, рыдая.
– Кого?
– Фому… Доброго сердечного Фому… За укрывательство! Он прятал раненых большевиков… У него осталась вдова и восьмеро детей!
Через два дня мы продолжали наступление. Уже в темноту вошли мы в станицу Старо-Мышастовскую; я занял первую попавшуюся пустую хату и пошел в штаб.
Эрдели остановился у приходского священника, занимавшего высокий двухэтажный дом. Сам генерал с начальником штаба заперлись в кабинете, в приемной бегали адъютанты, суетилась попадья с дочкой и сам батюшка, все разодетые по-праздничному, приготовляя роскошный ужин для дорогого гостя.
Для них это был двойной праздник: вернулся молоденький муж их прелестной дочки. Она сияет от восторга – ее милый, который чудом спасся от красных и недели просидел в камышах, – дома!..
Вымытый, одетый в самую блестящую форму, он идет представляться начальнику дивизии.
В штабе я не успел добиться никаких разъяснений. Еще ничего не известно. Дрейлинг и Шкиль мелькают от времени до времени с озабоченными лицами: «Сейчас все заняты».
За дверьми дожидаются мои ординарцы.
– Ну, вот что, – говорю я им. – Там садятся за ужин, а мы пока пойдем погуляем на площади.
На площади никого нет. Только в конце ее, на скамеечке, сидят три барышни. Когда мы проходим обратно, позади нас слышится робкий голос:
– Господин офицер! Господин офицер… Я оборачиваюсь:
– Прикажите?
– Ах, господин офицер! Мы в большом страхе. Тут ходят слухи, что казаки уходят и красные займут станицу. Мы ужасно боимся, мы ведь здесь одни, застряли случайно и не знаем, что делать!
Ах, вот почему у Шкиля была такая озабоченная физиономия! Наверное, опять гром не из тучи…
– Милые барышни, пока вам нечего опасаться. Но, во всяком случае, если вам хочется быть подальше от войск, мы о вас позаботимся. Володя, скажите Мустафе, чтоб он приготовил двуколку, посадите в нее наших барышень и проводите их верхом до Новотитаровки. Скажите милой Шурочке, что я очень прошу поберечь их денек или два, пока им удастся попасть в Екатеринодар.
– Ах, это наша Шурочка? Мы все ее знаем. Как хорошо! Через двадцать минут появляется Володя в полной амуниции, на коне, Мустафа гонит за ним двуколку.
– А ваши вещи?
– Но у нас нет вещей, все с собой! Мы ведь приехали сюда из Екатеринодара налегке, последнее время там было так жутко!
– Ну вот, а теперь попались в наши лапы! Но не беда, Володя вас побережет, а там, у Шурочки, вы у себя дома. Передайте ей горячий привет от всех нас – с Богом, Мустафа!
В штабе ужин еще не окончился. Оставляю там «мичмана», а сам иду домой.
Я не успел еще раздеться, как раздался стук в дверь.
– Мы к вам!
– Заходите, расскажите…
За порогом – Скоробогач под руку с прелестной дочкой священника, в пледе, накинутом сверх ее праздничного платья.
– Заходите, расскажите, чем могу вам служить?
Скоробогач усаживает в кресла мою неожиданную гостью, которая продолжает дрожать, как осиновый лист, а сам отзывает меня в сторону.
– Мы пришли просить для нее вашей защиты, – говорит он мне на ухо. – Иван Егорович отослал ее мужа, как только он показался в дверях, со спешным пакетом в другой отряд. А сам – ведь вы его знаете, он не даст спуску ни одной хорошенькой женщине – повел натиск на эту бедняжку. Отец и мать в панике обратились ко мне.
Куда ж я могу ее спрятать? Оставьте ее, ради Бога, у себя на эту ночь, у вас не посмеют ее искать!
– У меня она будет в полной безопасности, – отвечал я. – Пока я жив, никто не посягнет на ее честь, будь то сам китайский император. Я лягу поперек дверей, а она может устраиваться на моей постели. А как на фронте? Была паника?
– Тайная разведка сообщила, что красные подвели резервы и завтра пойдут в наступление. Оказалось, фальшивая тревога.
Ну, и слава Богу! Значит, можно спать спокойно.
Утром, чем свет, моя перепуганная птичка уже выпорхнула из клетки. Казаки уже выводили коней и становились в ряды. По последним сведениям, противник уже отходит к высотам, за которыми расстилаются прикрывающие город сады…
Peradventure[164]
Скотт
- Скакать вперед – и смерть, и ад,
- Вернуться – преступленье…
- Чтоб сделал ты, мой сквайр, когда б
- Стал графом на мгновенье?
На рассвете штаб уже находится на высоте, господствующей над всеми полями, косогорами и лощинами до самых садов, прикрывающих столицу Кубани. Флаг командующего гордо развевается на самой вершине холма, под ним стоит генерал Эрдели и весь его штаб. Конвой притаился у подошвы.
На Великой войне я не представлял себе командира полка иначе, как на охапке соломы, с картой в руках, диктующего распоряжения своим офицерам. Здесь, в кавалерии, в той молниеносной борьбе, где играет роль только глазомер и натиск, где быстрое изменение обстановки требует немедленного решения, где потерянная минута превращает победу в поражение, – дело совершенно иное. Начальник дивизии, командиры полков стоят во весь рост на курганах, которые служат им наблюдательными пунктами, не считаясь с несколькими снарядами, брошенными в их сторону в разгаре боя, и даже пренебрегая свистом пуль. К этому надо привыкнуть.
Но на лице Эрдели видна какая-то неуверенность. Он пристально разглядывает камыши, где залегли спешенные казаки и черкесы, на противоположные гребни, где засели красные, и следит за перестрелкой, то загорающейся, то затухающей вдоль всей линии. Потом подымает бинокль и всматривается в направлении на железную дорогу, где то и дело поднимаются облачки пара маневрирующих паровозов. Вот один из них останавливается и выпускает пару 105-миллиметровых снарядов из дальнобойного орудия.
Эта неопределенность положения меня начинает нервировать.
– Ваше высокопревосходительство! Разрешите мне проехать вперед, взглянуть на мои орудия, разбросанные по фронту.
– Поезжайте, взгляните, что там делается, и потом доложите мне.
Мой конь не нуждается в шпорах. Легкое прикосновение шенкеля – и он уже несется к кургану, на котором виднеется значок Килидж-Гирея.
– Как дела?
– Неважно… Вы видите, против нас массы пехоты при тридцати пулеметах на тачанках. Они засыпают нас пулями… А у нас всего несколько десятков патронов на ружье! Часа два продержимся, а потом…
– Так разве нельзя в шашки? – Можно бы…
– Ну так что же?
– Но ведь Эрдели потерял сердце. Он никогда не решится!
– Я поеду к Топоркову, у него моих два орудия. Посмотрю, что там делается.
– Поезжайте.
Топорков засел в камышах. Невдалеке оба орудия с ничтожным количеством патронов для самообороны. Кругом свищут пули, мой конь шарахается, отмахиваясь от них хвостом, как от шмелей.
Я слезаю и подхожу к Топоркову.
– Как дела?
– Плохо. Казаки не продержатся и двух часов. Видите, как по нас сыпят из пулеметов? А у нас по три патрона на казака.
– А нельзя атаковать?
– Можно бы… Есть тут балочка с крутыми берегами, по ней пустить сотни две – прорвут.
– Так почему же?..
– Да вы видите, весь полк растянут в ниточку… А их тут будет тысяч тридцать.
– А где другие полки?
– В отделе.
Я поскакал обратно к Султану.
– Топорков говорит, у него впереди есть балочка… Сотни две могли бы прорваться во фланг неприятеля.
– Разумеется, если б Эрдели дал свой конвой! Ведь у него полтораста человек, а болтаются они зря.
– Напишите, я сам отвезу ему. Ведь если мы отступим, пехоте не удержать за собой железную дорогу. Мы потеряем Екатеринодар и потеряем все!
– Попробуйте-ка!.. Он никогда не отдаст своих. Может, вы сами скажете ему это…
Уговаривать меня не пришлось. Спустившись с пригорка, я пустил коня полным галопом.
О ужас!.. Наш флаг качается… его снимают. Эрдели уже спустился под горку и садится на лошадь… Они уходят. Конвой змеится по пыльной дороге. Я лечу в карьер, но догоняю их уже на полпути к станице.
– Что скажете?
Я объясняю обстановку:
– Если мы отступим, противник погонит нас обратно, пехота не удержится, и тогда все пропало. Ваше высокопревосходительство, дайте мне ваш конвой, я сам поведу его по этой балке, мы прорвем неприятеля и обратим поражение в победу!
Эрдели задумался.
– Возьмите эту записку и свезите ее Султану. Конвоя я не дам, пусть сам атакует.
Я поскакал обратно.
Султан завертелся на своем посту, нетерпеливо втягивая воздух.
Вынул книжку и написал приказание.
– Вольноопределяющийся Вадбольская!
– Ваше Сиятельство!
– Отвезите эту записку Топоркову. Пусть выделит из своего полка две сотни и атакует.
Молодая девушка в элегантной черкеске мигом взлетела на коня и помчалась к камышам. Через несколько минут она вернулась:
– Поручение исполнено!
Все мы впились глазами в горизонт. Минуты казались часами…
– Ну вот, когда красные пошли на нас в атаку! – неожиданно прорывается у Килидж-Гирея. – Смотрите…
На неприятельском гребне все поднялось и ощетинилось массами пехоты… Пулеметы грузятся на тачанки… Но вот на их левом фланге показывается столб пыли и из балки вылетают сотни казаков с шашками наголо. Красноармейцы рассыпаются во все стороны.
– На коней садись! – командует Султан. – Скачите, скажите Эрдели…
Я не дослушал остального… Я уже лечу во весь опор, но нагоняю Эрдели только на холме в нескольких сотнях шагов от станицы. Весь штаб уже рассеялся по гребню. Я соскакиваю на скаку и подхожу к генералу.
– Ваше приказание исполнено!
– Ну и что же?
– Противник прорван и в беспорядочном бегстве отходит по всей линии…
Минута молчания. Эрдели, конечно, в восторге, но не хочет показать этого.
– А вы очень этому рады? – спрашивает он с легкой усмешкой.
– Я в восторге!
– Почему же именно? – Я не ожидал такого странного вопроса. Но я сдерживаюсь и отвечаю в том же тоне.
– Но ведь, ваше превосходительство, обидно было бы отдать большевикам триста красивейших девушек этой станицы!
– Почему же вы думаете, что их наберется так много? – спрашивает он с легкой улыбкой.
– По статистике, ваше высокопревосходительство. Здесь насчитывается до тридцати тысяч жителей, значит, не менее 15–16 тысяч женщин, и среди них, уж конечно, не менее трехсот красавиц призывного возраста.
Какая досада, что Эрдели не задержался на своем командном посту хотя бы еще пяти минут! Он гордо двинулся бы вместе с войсками победителем в отчаянном бою.
Несмотря на все его шалости, я успел искренно полюбить его и был бы счастлив его триумфом…
Эрдели садится на коня и со всей свитой направляется к садам. Встречные ординарцы сообщают о полном расстройстве большевиков, уходящих к Екатеринодару. Пройдя сады, на крыше маленького хуторка, расположенного сейчас же за опушкой, видим Килидж-Гирея и его ординарцев.
– Красные бегут. Они оказывают сопротивление только в Круг лой Роще, на крайнем левом фланге. Но туда, – прибавляет он, – уже прорвались казаки 1-го Кубанского полка и рубят задержавшихся там красных матросов.
Но и отсюда виднеются на опушке лесочка дымки рвущихся ручных гранат, отдельные всадники, и в дыму сверкают шашки казаков Науменко.
– А что вы видите в Екатеринодаре? – спрашивает генерал. Султан подымает бинокль и потом со смехом оборачивается к Эрдели.
– Вижу крыши домов, а на крышах барышни машут платочками, приглашают нас к себе. Город наш.
Эрдели хмуро обращается к начальнику штаба:
– Прикажите расседлывать лошадей. Мы ночуем здесь.
В темноте казаки Науменко уже вошли в город. Мы поднялись на рассвете и вошли туда уже с зарей вслед за черкесами и запорожцами. Город был очищен, большевики перешли на левый берег Кубани, но мост остался в наших руках. Как только было отдано распоряжение стать по квартирам, я поскакал разыскивать семью брата Сережи по оставленному мне Софьей Сократовной адресу.
Навстречу мне выбежала Елизавета Николаевна – я едва узнал ее, так она поседела и сдала. Увидев меня, она зашаталась и упала ко мне на руки. За ней подлетели Мада, за нашу разлуку превратившаяся в цветущую, красавицу, и Леша, ростом и голосом уже, видимо, вышедший из детства.
Бедная Елизавета Николаевна ожидала встретить мужа… Ей сообщили, что в дивизии Эрдели начальником артиллерии генерал Беляев, она была уверена, что это ее Гулинька.
За Кубанью
Песня
- Ихав казак за Кубань,
- Снарядившись, мов той пан,
- Кинь жвавый, сам бравый —
- Хват не борак.
Несколько дней в Екатеринодаре прошли как одна минута. Жители, едва очнувшись от красного кошмара, сперва не отдавшие себе отчета в положении, повысыпали на улицу.
– Мне кажется, что сегодня – день Светлого Воскресения, – говорила барышня подруге. – Словно вторая Пасха!
– Это и есть настоящая Пасха: Пасха нашего общего Воскресения… – отвечала ей другая.
Они целовали еще горячие осколки падавших на улицах снарядов…
– Это наши… Они уже близко!
Но многие еще прятались по домам. Они не верили еще в прочность положения.
После парада, на котором генерал Деникин, верхом, со свитой, в сопровождении атамана Филимонова с его исторической булавой в руках, благодарил вошедшие в город войска, офицеры были приглашены на торжественный обед в атаманском дворце; во главе сидел Командующий, напротив него Атаман, а по правую руку Романовский.
Отвечая на приветственный тост Атамана, Деникин выразил уверенность, что за падением красной власти настанет час, когда над всеми нами взовьется русское знамя. Речь его, как всегда сжатая и глубоко прочувствованная, не могла не коснуться сердца каждого русского человека и была встречена взрывом общего восторга. Далее Романовский поднял бокал за сказочную доблесть русского офицера, героя мировой войны, и ныне забывающего себя перед лицом тысячи смертей во имя спасения родной страны.
– Ну, а теперь зарядитесь терпением, – шепнул он мне. – Килидж-Гирей начинает свой тост. Когда-то только он его кончит…
Я успел искренно полюбить Султана за его прямоту и искренность, соединенную со смелостью и благородством природного кавказца. Но когда он начал свою речь, в которой гостеприимно приглашал нас, как желанных гостей, в селения закубанских горцев, и кончил ее, только совершенно запутавшись в бесконечных периодах и отступлениях, я почувствовал такое утомление, как будто влез на Эльбрус. Да и все мы, казалось, даже забыли, где мы находимся и с какой целью пришли сюда.
Двумя-тремя свободными вечерами я воспользовался, чтоб посетить жену брата. Кроткая Елизавета Николаевна посвятила меня во все свои семейные дела. Лиля Фишер с мужем и новорожденным младенцем, к большому их облегчению, переехала на собственную квартиру; она разыскала раненого брата Колю, скрывавшегося от красных, и он уже вернулся в свою батарею. Дрейлинги тоже уже успели восстановить свой очаг, и мы, через Маду, вошли с ними в контакт.
Я, со своей стороны, не теряя ни минуты, отправил Беслана в Ростов за Алей. Но дождаться ее мне не пришлось. Через пять дней по взятии Екатеринодара мы двинулись – сперва вдоль правого берега Кубани, рассчитывая переправиться в тыл красным, потом, вернувшись в город, продолжая наступление дальше на Белую и Лабу, проходя станицами и аулами весь Закубанский край.
Теперь у нас уже есть фронт и есть тыл. Но мы все еще продолжаем двигаться по тому заветному краю, куда я так стремился в ранней юности и уже потом, когда стал домовитым хозяином хуторка в Красной Поляне. Этот край все еще дышал воспоминаниями Кавказской войны. До самых вечных снегов тянулись его непроходимые леса роскошных древесных пород. Здесь еще ютились прославленные нашими лучшими поэтами геройские черкесские племена, возродившиеся из 60 тысяч уцелевших от поголовного исхода в Турцию 50 лет назад и размножившиеся вновь до 200 тысяч, благодаря мирному процветанию. В постоянном антагонизме со своими соседями, казаками, они остались вернейшими сынами нашей общей матери России; аристократы в душе, они ненавидели толпу и серую демократию. Недаром этот народ носит название, единственное во Вселенной: адыге (благородные).
С ними я встретился уже за Лабою. Мы сидели за обедом, когда, взглянув в окно, я неожиданно заметил нескольких черкесов, возвращающихся из штаба дивизии. Они громко разговаривали между собою, жестикулировали и, видимо, выражали свое отчаяние.
– Что там у них случилось? – спросил я. – Беслан, там, на улице, твои земляки. Приведи их сюда, быть может, я могу помочь им чем-нибудь.
Через несколько минут Беслан вернулся в сопровождении пяти черкесов. Обменявшись рукопожатиями, я посадил их за стол. Чем могли, угостили наших гостей.
Их дело заключалось в следующем. Ограбленные и измученные большевиками, которые в соседнем ауле[165] перебили много людей и оставили одни изуродованные, даже скальпированные трупы, решили подняться, как один человек, за белое дело.
– У нас много молодежи, – говорили они, – у каждого есть лошадь и шашка. Но красные отобрали у нас ружья, и некому нами командовать. Мы пришли к генералу, просили его офицеров и ружей с патронами. «Разбойники! – закричал он на нас. – Вы не хотите сражаться, а только грабить и воровать…» Теперь мы не знаем, что сказать, когда вернемся… Ведь нам даже не поверят!
– Не огорчайтесь, дорогие! – отвечал я им. – Мы поправим это дело. Ружей, правда, у нас самих в запасе почти нет, патронов еще меньше. Но я дам вам все-таки десяток-другой винтовок с амуницией. Вы молодцы, остальное найдите сами у врагов! А офицеров у меня хоть отбавляй. В трех батареях их более пятисот. Сейчас же вызову желающих, сколько хотите!
Мы расстались искренними друзьями. Офицеры горячо отозвались на мой призыв, один штаб и пять обер-офицеров уехали к ним, и в аулах их носили на руках. Непонятная бестактность Афросимова могла бы обратить во врагов искреннейших друзей нашего дела! Видимо, он сам не отдавал себе отчета в своем поступке, но когда я сообщил ему обо всем, остался очень доволен.
Ничто так не развращает, как война, особенно гражданская. Сами казаки возмущались этим. При мне находилось 12 казаков, которые служили мне конвоем.
– Чем же мы лучше большевиков? – говорили они. – Везде грабежи, насилия… Не дают спуску ни иногородним, ни даже своим!
На многое приходилось смотреть сквозь пальцы. Когда брались предметы первой необходимости, невозможно было протестовать. Тем более, что казаки брали в какой-то особенно мягкой форме, стараясь не делать лишнего зла. Но насилий я не мог терпеть. Четверо казаков, при участии вольноопределяющегося, присланного мне ординарцем от 1-й батареи, изнасиловали трех баб – у одной был грудной младенец. Они прибежали ко мне. У роженицы, вымогая деньги, изрезали грудь кинжалом, и она не могла более кормить ребенка. Я отправил негодяев в полк, к которому они принадлежали, но командир полка ответил мне, что бабы простили им все. Вольноопределяющегося я все-таки приказал выпороть и сказал ему, чтоб не попадался мне на глаза, иначе застрелю его, как собаку.
– Им-то что? – резюмировала наша хозяйка. – А меня тут, за воротами, встретил казачий разъезд, так я семерым наслаждение дала…
Одно для меня было ясно: командиры полков не могли бы, если б даже пожелали, наказать своих одностаничников, чтоб впоследствии не накликать чумы себе на шею.
За Лабою мы встретили серьезное сопротивление. Начались встречные бои с переменным успехом. Временами казалось, что наш начальник дивизии теряет инициативу. Под Скобелевскими хуторами нам решительно не повезло.
С правого фланга приходили тревожные известия. Наша лава маячила впереди; у подошвы холма, с которого наблюдали мы с Науменко, приютились орудия нашей 3-й батареи. Несколько минут спустя к нам приехал генерал Афросимов с начальником штаба, живым и веселым полковником Баумгартеном и с капитаном Роговым. Мне казалось, что на всех лицах отражалась какая-то неуверенность – результат неосведомленности в обстановке.
Нежданно-негаданно из лесочков на правом фланге одна за другой стали выползать массы кавалерии в походном порядке… Наши?
– Екатеринодарцы!
– Уманцы!
– Запорожцы!
– А вот-то будет штука, если это будут красные! – иронически замечает Баумгартен. – А вот…
И вот полки, вытянувшись в одну линию на всем нашем горизонте, неожиданно поворачивают прямо на нас. Переходят в рысь…
– Красные!
Науменко полетел к своему полку, сконцентрировавшемуся за нашим левым флангом. «Три святителя», как прозвали наш штаб, во мгновение ока смылись с холма. Наша лава растаяла и куда-то исчезла. Красные, развернувшись с расстояния версты в полторы, идут прямо на нас. Батарея сыпет по наступающим беглым огнем, но большая часть снарядов рвется в интервалах между всадниками… В эту минуту ко мне подскакивает Беслан с крынкой топленого молока. Невозможно удержаться от искушения: я пью и одновременно передаю Беслану.
– Скачи скорее, попроси Науменко прислать прикрытие и сразу же веди сюда передки!
Передки уже поданы. От «Корниловского» (1-го Кубанского) полка отделяется полусотня и медленно, шагом продвигается вперед. Красные уже близко. «Три патрона беглый и на задки. А потом исчезайте». Опорожняю кубышку – мне кажется, никогда я не пил такого чудного молока – и передаю ее Беслану, который уже держит коня наготове… «А теперь, гайда!»
Но я еще раз оглядываюсь на своих. Батарея уже вышла из-под удара. Но два орудия отделяются от нее и отходят вдоль фронта… Неожиданно они снимаются с передков и обдают картечью лаву косым фланговым огнем… Потом снова берутся на задки и отходят за прикрытие, которое, ободренное геройством артиллеристов, выхватив шашки, заслоняет их собою. Мы с Бесланом летим к бугру, на котором уже мелькает красный башлык Рогова и виднеются фигуры Афросимова и Баумгартена.
– На левом фланге полная неудача, – сообщает мне послед ний, – как-то там выцарапалась ваша батарея?
Я лечу туда.
Когда я подъезжаю ко 2-й батарее, уже смеркается.
– Наши, отстреливаясь, все время отходят, – объясняет мне командующий. – А красные уже близко… Вот, смотрите!
В непосредственной близости перед батареей, пользуясь длинной канавой, развернулась неприятельская пехота. Так близко, что слышна неистовая брань красноармейцев, которые заражают воздух своей безбожной руганью.
– А ваше прикрытие?
– У нас нет прикрытия. Мы в прорыве. Ждем приказания сниматься с позиции.
– Я беру ответственность на себя! Дайте несколько залпов на картечь и, под завесой разрывов, снимайтесь с позиции!
В полной темноте трудно разобраться, где расположились наши части. Противник не наседал. Я поехал в станицу, где мы останавливались накануне в гостеприимном доме дьякона, который встретил нас с распростертыми объятиями. Вслед за мной появились и все мои присные: симпатичнейший поручик Чернышев, Холмогоров, «милейший мичман» Панафидин, Володя, мальчик Вовка, приехавший на двуколке с Мустафой, и все мои конвойцы.
Когда мы уселись за стол, накрытый гостеприимной хозяйкой при деятельном участии обеих ее дочерей, дьякон не знал, как и выразить нам свою радость.
– Вы, генерал, – говорил он, – совсем как Петр Великий! И все-то ваши приближенные один другого стоят. Что ни человек – золото, и все как одна семья! И с вами у каждого душа нараспашку…
После ужина он вывалил мне все свои домашние секреты. Они с женой бездетны. Этих двух девушек, племянниц жены, они забрали к себе, так как с семьей ее брата неладно и он – иногородний, большевики мобилизовали его и поставили за мельника на реквизированной ими мельнице; и теперь он скрывается под угрозой личной мести. Старшую дочь казаки схватили и выпороли. А младших дьякон вовремя спас и держит за родных. Та, которая постарше, Маруся, действительно была красавица. Идеально сложенная, кровь с молоком, румяная и чернобровая, она сверкала своими большими черными глазами, как алмазами. А когда мы с Чернышевым перед сном вышли во двор, чтоб взглянуть на лошадей, и она показалась в окне в небрежно накинутом платье и с распущенными золотистыми волосами, то нельзя было на нее не залюбоваться.
– Подождите, Маруся, – сказал я ей на прощанье, – держитесь крепко, когда все успокоится, я найду вам красавца жениха! – Она подарила меня благодарным взглядом.
Через несколько месяцев я исполнил свое обещание.
Всяким удобным случаем я пользовался, чтоб поддерживать связь с моей Алей. С каждой оказией я отправлял туда или Беслана или Мустафу, и они привозили мне от нее коротенькие записки. Тотчас по приезде Беслан разыскал для нее комнату в доме Виноградовых, близ самого памятника Императрице Екатерине на Красной улице. Оба – и муж, и жена – казались удивительно милыми и симпатичными людьми. Она тотчас же связалась с семьей брата. Мада забегала к ней постоянно. Забегала и Софья Сократовна, и ее мать, супруга полковника Дрейлинга. Мада вскоре поступила на службу в «Осваг», которым заворачивал талантливый Ульянов, бывший некогда офицером нашего дивизиона в Мухровани.
Здесь я не могу удержаться, чтоб не посвятить несколько строчек нашей общей любимице Маде.
Высокая и стройная, с не совсем правильными, но удивительно миловидными чертами лица, она уже перестала быть девочкой, но целиком сохранила все очарование ребенка. Серьезная в работе, талантливая и одаренная светлой головкой, она с радостной улыбкой встречала все, что только попадалось на ее жизненном пути. Сама она не отдавала себе отчета в том, что поголовно все окружающие повлюблялись в нее: все, все, начиная с флегматичного Дрейлинга. Серьезный Фишер[166] каждый раз, встречаясь с нею, уверял ее, что и в первый день свадьбы он не любил так своей жены… Теперь Виноградов совершенно потерял голову. Увидя рояль, она с радостью согласилась петь под аккомпанемент его жены (а пела она очень мило) и очаровала всех.
– Я буду петь, – повторяла она, смеясь, – только не смотрите мне в рот. Это меня смущает, я не знаю, куда деться!
Но сама она скользила все время по поверхности. Веселая и беспечная, она везде являлась только на мгновение, чтоб сейчас же снова исчезнуть и отдаться своему делу.
Под конец замужние дамы начали ее бояться. Но она не была опасна никому. Ее час еще не пробил. Как золотая рыбка в аквариуме, она мелькала здесь и там, но нигде не задерживалась ни на минуту…
Врангель[167]
«Девушка! Ты начертала мне образ героя!»[168] – этими пламенными словами отзывается раненый рыцарь на восторженное описание своей спасительницы, отрывистыми фразами рисующей ему подвиги штурмующего замок бойца, под забралом которого скрывается сам Ричард Львиное Сердце.
Но у меня не хватит красок для такого изображения. Еще менее мог бы я решиться проводить параллель между моим героем и прославленными мастерами своего оружия – Густавом-Адольфом, Зейдлицем и Мюратом, хотя в глубине души я ставлю его выше всех прочих, и не только как кавалериста, но и как человека высокого духа и глубокого, разностороннего образования, выказавшего свои таланты во всевозможных случаях жизни. Я ограничиваюсь лишь мимолетными набросками сцен, врезавшихся в мое собственное существование.
– Приехал генерал Врангель, новый начальник дивизии, – встретил меня один из адъютантов штаба. – Бегу за лошадьми для него и для его ординарца. Весь штаб уже разлетелся по позициям.
В голове стола сидели генерал и приехавший с ним молоденький гусарский поручик Гриневич, спешно кончая поданный им завтрак. Чрезвычайно высокий и стройный, с Георгием в петлице и Владимиром на шее, генерал приветливо протянул мне руку. Его энергичное моложавое лицо с коротенькими усами благодаря отсутствию одного из зубов имело какое-то юношеское выражение решительности и в то же время полной уверенности в себе, к которому беззаботное свежее лицо его спутника составляло приятный контраст.
– Очень рад, – повторил он мне, указывая на стул рядом с со бою. – Вы ведь гвардеец? Я не сомневаюсь, что мы не раз встречались на маневрах и во Дворце, ваше лицо мне знакомо.
Воображение живо нарисовало мне стройную фигуру моего собеседника, затянутую в конногвардейский колет и лосины, с длинным палашом и в каске с золотым орлом на голове. Или в блестящей кирасе на вороном коне.
– Я не сомневаюсь в этом, – ответил я. – Но кто же во всей Русской армии не знает вас по вашей знаменитой атаке под Каушеном?
Впоследствии Врангель не раз рассказывал о своей атаке – об этом его расспрашивали все, кто только мог оторвать у него минуту для рассказа. Я хорошо запомнил описание этого сражения в его собственных выражениях. В дальнейшем мне случалось слышать от других кавалеристов, не сумевших создать себе боевой репутации и называвших его подвиг безумием, упреки в напрасном пролитии крови, так как к полю сражения уже подходила бригада пехоты. Я не верю этому. Во всяком случае, моральное значение этой атаки отразилось не только на участниках боя; оно оказало колоссальное влияние на всю войну, так как выявило беспредельную мощь духа над машиной и навеки прославило имя русской кавалерии.
– Никогда не поверю, – говорил мне уже много лет спустя французский военный агент, – чтоб кавалерия могла атаковать свежие войска! Я сам участвовал в единственной конной атаке, про изведенной на Великой войне моей 1-й кавалерийской дивизией. Лошадь не пойдет на человека с оружием в руках!
Но лошадь чувствует, что делается в сердце всадника. Если сердце всадника не дрогнет, лошадь пойдет в самую пасть ада. Сколько раз приходилось мне видеть потом бешеные атаки кавалерии на нерасстроенные войска! Но для этого надо иметь русское сердце… А для европейца уже не вернутся времена Бородина и Балаклавы.
– Вы со мною? – бросил мне генерал, садясь на поданную ему лошадь.