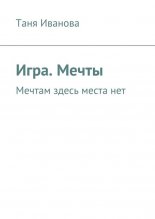Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева Беляев Иван
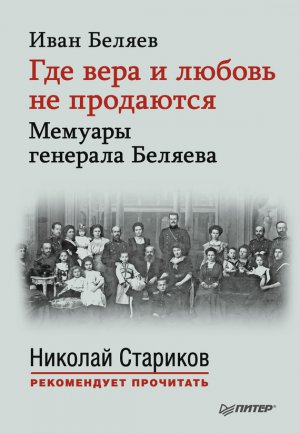
Одновременно, в ответ на мое донесение, от него пришло приказание двигаться немедленно на соединение с ним в Петровское. Выслав вперед дозором Гриневича с двумя казаками, я двинулся за ним, а за нами вся бригада.
Когда мы подошли к переправе через Калаус, уже совсем стемнело. Вдруг, совершенно неожиданно, впереди раздался треск пулеметов, и появился Гриневич, летевший, припав к луке, во весь карьер. За ним казак и лошадь другого… всадник прибежал погодя, уже совсем без дыхания…
– Ваше превосходительство, красные! Едва подъехали к мосту, нас окликнули: «Кто идет?» – «1-й Корпус генерала Врангеля!» – «Ах вы, белогвардейцы! Так вас и так!» – Пулеметы затрещали прямо в рожу. Ну и шутник же наш генерал: приглашает на ужин в Петровское, а встречает пулеметами!..
Хорошо, что я выслал дозорных не по кавалерийскому уставу, а на целых пятьсот шагов, по своему артиллерийскому масштабу. Мы успели вовремя принять меры и вернуться в исходное положение.
В селении я уже застал весь штаб, расположившийся на той же самой квартире, откуда он так быстро эвакуировался на заре[173].
Врангель крепко обнял меня, благодаря за все.
– Если б я знал, что вы останетесь, – говорил он, – я бы сам пристроился к вашему флангу… Но некогда было разбираться в обстановке… А все вот этот: «Эх, нечего торопиться, выпьем по рюмочке под кулебяку, а завтра на заре присоединимся к войскам…» Вот за то и сидит, насупившись: большевики забрали все его пожитки.
Соколовский действительно представлял собою довольно плачевную фигуру, сидя на голой железной кровати.
– У меня негодяи забрали четыре Георгиевских креста и изрубили три пары погон… Спасибо хозяйке, успела запрятать чемодан и узел с бельем. Посмотрим, что мерзавцы мне оставили…
Став во весь рост посреди хаты, он стал разбираться в куче белья.
– Рубашка моя! И в ней мои баронские запонки! Какое счастье – они стоят всего прочего: ведь им 500 лет! Подштанники – он извлек кальсоны невероятной длины – это бесспорно мои!.. А это ваши, Гриневич, видать по размеру. А вот еще рубашка!
Это все, что они оставили Соколовскому. А я очень рад: больше не будет спорить со мною!
Слава Богу! Я ничего не оставил красным: даже сбитый с коня казак остался целешенек. Слетев с лошади, он как тетерев пролетел насквозь все селение и перевел дух, лишь очутившись на нашей исходной позиции. Но в селе уже никого не было. Красные бежали во все лопатки.
Утром мы вернулись в Кугульту, где остановились наши обозы. Временное отсутствие запорожцев и уманцев вынудило нас покинуть Петровское. Особенность этого местечка была такова, что его так же легко было взять, как потерять, так как оно было открыто со всех сторон, и потому несколько раз переходило из рук в руки.
Александрия[174]
Scott
- Hail to the chief, who in triumph
- advances![175]
С рассветом противник продолжал теснить нас по всему фронту. При полном недостатке патронов положение становилось критическим. Врангель молча шагал взад и вперед по комнате. Неожиданно от Топоркова пришел экстренный пакет: это был перехваченный у красных приказ.
– Смотрите, что они делают! – воскликнул Врангель. – В шесть часов утра они атакуют меня по всему фронту. А у меня нет патронов…
Никогда я не любовался Врангелем так, как в эту минуту. Его решение было мгновенным.
– Я предупрежу их: я сам атакую их в пять часов! Гриневич, Голицын, все адъютанты – сюда с полевыми книжками! Пишите…
Решение было так же мгновенно, как просто и гениально. Войскам приказывалось к пяти часам утра находиться в полной готовности. Дивизии Улагая передать все патроны Топоркову, которому с одной бригадой упорно оборонять Константиновку.
Всем прочим полкам под командой Улагая за час до неприятельской атаки атаковать противника в конном строю…
Эффект поистине получился потрясающий. Неприятель, атакованный на марше, обратился в беспорядочное бегство; наши казаки вновь овладели Петровским.
Врангелю показалось этого мало: пользуясь выдвинутым положением, он, оставив одну дивизию с фронта, со всеми остальными конными полками под командой Топоркова на рассвете атаковал противника, находившегося против корпуса Казановича, с тыла разбил его наголову и захватил массу оружия, артиллерии и боевых припасов, дав Казановичу возможность продвинуться вперед и выровнять общий фронт.
Кроме изумительной быстроты соображения и невероятной выносливости, Врангель обнаружил еще один драгоценный талант: уменье понимать и использовать боевые качества своих непосредственных помощников. Особенно высоко он оценивал порыв и упорство доблестного Топоркова, ясное понимание Науменки, блестящие военные таланты Улагая, выказывавшиеся временами в полном блеске. Все они были достойными его помощниками, но… гением был лишь один он.
Вскоре после этого, во время нашего отсутствия, мы были в Екатеринодаре, куда Врангель брал меня с собою, Улагай нанес новое поражение противнику.
– Любо-дорого было смотреть на его распоряжения в бою, – говорил мне по возвращении моем Чернышев. – Но все-таки это было уж не то! Так бывало в опере, когда на сцене появляются уже не первоклассные артисты, а их заместители…
Апофеозом таланта Врангеля была его колоссальная победа под Александрией. Новые неудачи Казановича, заставившие его снова отойти на Калаус, вынудили Врангеля, несмотря на крайнее утомление его кавалерии, на отчаянное решение. Оставив Бабиева с корниловским (1-м Кубанским) полком и стрелков Чичинадзе для обороны Петровского, он бросил Топоркова с пятью конными полками и пластунами в тыл противнику в направлении на Александрию.
Накануне, 20 декабря, шли проливные дожди, и все плавало в грязи. Артиллерия отстала по дороге. Только батарея Ермолова, которому посчастливилось положить тела своих горных пушек на подводы, не отстала от своей кавалерии. Пластуны завязали перестрелку, выйдя на фланг противника у Сухой Буйволы, конница следовала далее.
С четырех часов утра к нам присоединился приехавший в поезде Главнокомандующий и только что прибывшие начальники союзнических миссий. После двенадцатичасового марша все выбились из сил, и Врангель оставил их при пластунах, прикрывавших тонущую в грязи артиллерию, а сам поскакал дальше.
Я выбрал им удобное место на глыбе чистого снега, постлав там свою бурку для редких гостей, а сам присоединился к пластунам. Вскоре левее нас загремели выстрелы, послышалась частая стрельба, а затем прискакал Соколовский с приказанием вести наступление на Сухую Буйволу. Уже темнело. Пластуны заняли село, с другой стороны в него вошли части Покровского, действовавшие правее нас. Перед концом дня наша кавалерия уже опрокинула противника, захватив артиллерию и огромные обозы, потонувшие в грязи. Одновременно много пулеметов и пленных было захвачено в Сухой Буйволе. Но к ночи все окончательно сбились с ног и заночевали на позициях.
Врангель, не знавший отдыха, с четырех часов утра поехал в Петровское, где его уже ожидали гости за роскошным ужином. За несколько минут до его прибытия было получено его донесение о полной победе; когда он появился, все поднялись ему навстречу с бокалами в руках, поздравляя победителя. К. Фуккэ предложил тост за победоносное движение на Москву, генерал Пулль сказал, что еще не считает себя вправе сулить столько, но пока позволит себе удовольствие поднести британские ордена участникам блестящей победы…
Утомленные до отказа, все торопились на ночлег… Невозможно постичь, как мог выдержать Врангель такое напряжение…
При последующей конъюнктуре
Псалом 145
- Не надейтесь на князей,
- на сына человеческого,
- в котором нет спасения.
Успехи следовали за успехами. Казалось, мрак, царивший доселе над нашим несчастным отечеством, уже начинает рассеиваться, что над Россией встает заря возрождения… Мы уже приближаемся к Минеральным Водам. Все войска, действовавшие на Кавказском фронте, объединяются под командой Врангеля.
– Я просил о назначении ко мне начальником штаба генерала Юзефовича, – обращается он ко мне… – Ведь вы его знаете?
Юзефович был вместе со мною в Михайловском артиллерийском училище; он был старше меня на год, и я часто видел его в строю на занятиях. Потом он вышел в конную артиллерию и окончил Академию Генерального штаба. После этого я встретился с ним уже только на фронте, где, после отречения Императора, он командовал 12-й Армией. Когда я приехал в эту армию сдавать дивизион, мои офицеры с ужасом отзывались о его деятельности.
– Здесь командующий армией всецело находится в руках революционного комитета, – говорили они. – Он делает все по их указке, лишь бы сохранить свой пост. Офицеров твердых убеждений арестовывают и расстреливают, а он и пальцем не хочет пошевелить для их спасения.
– Он потрясающий кавалерист, – говорил мне Врангель. – Он удовлетворяет всем моим требованиям. Наконец-то я буду иметь настоящего начальника штаба!
– А Соколовский?
– Разве можно их сравнивать?
Охлаждение к Соколовскому у Врангеля я заметил после одного случая. Когда Казанович поступил под его командование, Врангель, наскучив постоянной необходимостью пролагать ему путь к победе, решился добиться его удаления.
Однажды он позвал меня присутствовать при его разговоре по «Юзу». Казанович горячился, протестовал против доводов Врангеля, который, хладнокровно взвешивая свой слова, постепенно подталкивал его к решению. Наконец, на разговорной ленте появился резкий ответ Казановича, который докладывал, что он вообще не чувствует себя в силах командовать корпусом и просит о назначении ему заместителя.
– Я добился своего! – торжественно заявил Врангель Соколовскому. – Он подает об увольнении. Он сам напоролся, как медведь на рогатину!
– Вы нехорошо поступили, ваше превосходительство! – отвечал ему тот, не отрываясь от стола. – Казанович храбрый и честный старик, но он считает, что ради одной или двух блестящих побед не следует жертвовать последними кадрами, которые уцелели еще в нашем войске. Вы спровоцировали старика!
Врангель ничего не ответил и молча сел на место. Но с этих пор, я заметил, между ними пробежала кошка…
– Вы считаете, что следует окружать себя лишь безукоризненно порядочными людьми? – продолжал Врангель. – Но среди негодяев есть талантливые люди, только надо уметь их использовать.
– Честные люди не выдадут вас в беде, – возразил я, – а талантов у вас самого хватит на всех. Но негодяй, как змея, рано или поздно покажет вам свое жало.
С этой минуты я почувствовал, что в качестве ближайшего сотрудника Врангеля моя песенка спета…
– Ваше превосходительство, – сказал он мне несколько дней спустя, – я очень огорчен, что мне приходится взять начальником артиллерии армии генерала Макеева. Романовский предложил мне одного из двух: вас или Юзефовича. Я был вынужден согласиться на последнего.
Макеев был товарищ по курсу Юзефовича.
– Но я не могу отказаться от вас совсем, – прибавил он. – Пока что я надеюсь удержать вас на другой роли. У вас колоссальные организационные способности. Не согласитесь ли вы остаться у меня начальником снабжения?
– Это совершенно не в моих вкусах, – отвечал я. – Но ради того, чтоб не разлучаться с вами – в вас я вижу единственного человека, способного спасти дело, – я соглашаюсь.
– Я буду иметь ваше желание в виду при последующей конъюнктуре, – отвечал Врангель. – А пока что зайдите к Юзефовичу, он только что приехал.
Юзефович сидел в салоне, где два длинные стола, накрытые роскошной камчатной скатертью, ожидали Врангеля и его новый штаб. Перед ним стояла бутылка моздокского и недопитый стакан красного вина.
– Очень рад, очень рад, – любезно встретил он меня. – Садитесь, обменяемся мыслями… Наконец-то я чувствую себя человеком! Представьте себе, целый год я был без должности! Знаете, если б теперь в мои руки попал большевистский банк, первое, что я сделал бы, отсчитал бы себе содержание за все потерянные двенадцать месяцев.
У меня был подобный случай. Но из двух миллионов золотом (а может, там было и больше) я не взял себе ни червонца, а передал все под печатями и замками генералу Деникину.
– Теперь поезжайте, голубчик, в Екатеринодар с экстренным вагоном и приступайте там к формированию снабжения.
– Все, что ни посылает мне Господь, всегда служило мне во благо, – размышлял я, садясь в набитый пассажирами крошечный вагончик, прицепленный к тендеру.
– Генерал! Я видела вас, когда вы гнались за нами под Константиновкой… Вот-вот, казалось мне, вы отобьете меня от красных! – Это была жена Мамукова. Теперь большевики при отступлении оставили ее в тифу, и она снова попала в наши руки…
Дело свое в Екатеринодаре я сделал на «пять». Перед отъездом я распростился со своими офицерами. Никто из них не пожелал оставаться, все ушли в строй: Чернышев и Холмогоров – в свои батареи. Месяца два назад присоединившийся ко мне Ташков – также в одну из батарей 1-го Конного корпуса. Андровичу мы устроили командировку в Константинополь, где жил его отец, «за приобретением пулеметных принадлежностей». Он был послан мною для связи с кавалерией и вернулся обезумевшим от того, что видел.
При нем захватили пленных. К ним подъехал Бабиев.
– Иногородние Кубанской области, шаг вперед! – скомандовал он.
Вышло шестьдесят человек.
– Так это вы – змея, отогретая на казачьей груди? – закричал он. – Покажите им, как рубят казаки!
Несчастных заперли в сарай, и началась рубка…
Андрович вернулся совсем больной. Я боялся, что он сойдет с ума.
Возиться с ним более было мне невозможно.
– Пошлем его нашим представителем в Константинополь! – острил Ташков. Мы так и сделали.
В восемь дней я закончил свои работы. Перед отъездом я снова зашел к моему старому другу и товарищу по корпусу (после 3-го класса он перешел в Пажеский), который занимал ответственный пост начальника снабжения армии.
– Но я не понимаю, – сказал мне «Карабан» (это было прозвище Энгельке в кадетском обиходе), – для кого, собственно говоря, ты ломаешь копья. Вот, взгляни на эту телеграмму.
«Ходатайствую о назначении начснабом Кавармии лично известного мне генерала Деева – Беляев прекрасный организатор, но не обладает достаточным опытом. Юзефович».
– Я работаю не для себя, – возразил я, возвращая телеграмму. – Я работаю для России…
Мне кажется, меня лихорадило… В ушах звенело: «При последующей конъюнктуре…»
У моих дверей стояло пять черкесов… Это были те самые, которых я обласкал в Темиргоевской.
– Мы привезли вам приговор об избрании вас почетным стари ком Хатажукая и просьбу приехать к нам. Мы готовим тебе встречу и без тебя не хотим возвращаться.
Мы с Алечкой угостили их на славу. Но отъезд пришлось отложить… Черкесы еще не ушли, как я почувствовал себя дурно. Прощаясь с ними, я должен был прислониться к стене, чтоб не упасть. Меня трясло, как в лихорадке. В постели я смерил температуру – 40,5°! Я лишился языка – это был сыпной тиф.
За несколько дней до описываемых мною событий я был бесконечно обрадован неожиданным появлением моего любимого брата Мишуши со всей его семьей. Им удалось своевременно вырваться из Петербурга и провести самые тяжелые моменты революции в Сумах. С уходом немцев они решили двигаться дальше и теперь приехали в Екатеринодар, куда, в сущности, стекалось почти все, что только могло бежать от красного террора.
Я уже давно не видался с ним. Последние события, видимо, сильно подействовали на него, он стал сдавать. Всегда такой спокойный и уравновешенный, он обнаружил повышенную нервность и был подавлен заботами о завтрашнем дне. Близкий товарищ Романовского по бригаде, он не мог добиться от него иного, как назначения в резерв чинов и маленькой комнатки – по счастью, в доме той самой добрейшей вдовы, которая раньше так гостеприимно принимала милого «Моржика» и его офицеров и сохранила с нами самые сердечные отношения. Наташа, такая же кипучая и экспансивная, как всегда, сохранила свою прежнюю энергию, но Люр и Сергун[176], хотя уже подросли, не могли еще служить опорой родителям. С ними приехал только что кончивший Сумской корпус Павлик Кагадеев, сын их гостеприимных хозяев, ставший для них родным членом их семьи. Для нас этот приезд оказался как нельзя более своевременным…
Все, что случилось со мной после моего заболевания, я помню лишь урывками. Временами я впадал в забытье, временами, на момент, приходил в себя.
– Ты не испугаешься, если мы повезем тебя в больницу… на катафалке? – спросил меня Мишуша.
Но мне все было безразлично – лишь бы скорее…
Вероятно, это был единственный в своем роде выезд.
По углам платформы, вместо ангелов, сидели моя верная жена и мой неоцененный Мишуша. Человек на козлах изо всех сил подгонял клячу, очевидно, привыкшую таскаться на кладбище только шагом. Временами «покойник» приходил в себя и неистово ругал возницу… Наконец, мы очутились у ворот какого-то мрачного здания, меня сняли с катафалка и сразу же опустили в холодную ванну. Только тогда я понял, что происходит со мною.
Потом я снова впал в беспамятство. Временами меня мучил кошмар, я попадал в бездонный колодец… Через меня проходили эвакуируемые войска – пехота, кавалерия, артиллерия… даже санитарная часть. Все оставляли грязные следы на моей кровати… Войска – ну, понимаю… Но даже сестры милосердия! Это уже невыносимо… Потом меня за что-то ругали, клали на чистое белье, но эвакуация начиналась снова.
Однажды, когда я очнулся, в комнате никого не было. Полумрак, в противоположном углу я заметил нечто, что перевернуло всю мою душу. Там стояла низенькая кровать, а на ней лежало родное мое стеганое одеяло с зеленой шелковой покрышкой и на розовом подбое…
Я сделал невероятное усилие и опустился с кровати. Приподнялся на четвереньки и пополз по холодному полу… Снова потерял чувства, но когда отдохнул, пополз снова и, наконец, очутился на заветной кровати и заснул, как убитый, как дитя в объятиях матери…
Меня разбудили крики… Я открыл глаза и увидел своего мучителя с лампой в руках, кругом него стояла толпа людей.
– Что вы делаете! Ведь вы заразите вашу жену! – гремел доктор. Но я ничего не понимал: слова, казалось, не проникали в мою душу. В проблесках сознания я видел перед собою кроткое, покорное личико – кто это был, я не мог бы объяснить. Когда это чудное личико наклонялось надо мною, мне становилось легче. Без него я не на ходил себе места. Теперь это личико находилось рядом с доктором… Он сказал, что это моя жена… Что такое жена?
Наконец, я пришел в сознание. Я узнал, что я уже умирал.
– Осталось только одно, – сказал доктор Кроль, – если ему вспрыснуть дигалену, может быть, он еще выживет.
Моя Аля бросилась разыскивать лекарство по всему городу. Наконец, нашла его в захудалой аптеке. Когда она вернулась, я лежал уже без пульса.
Дигален подействовал. Я стал поправляться. Моя Аля – теперь я уже узнал, кто был небесным видением, чье присутствие возвращало меня к жизни, – это была она! – она садилась подле меня и приносила мне чудесные мандарины, чистила и клала их мне в рот. Это служило мне жизненным эликсиром! Потом я узнал, что эти мандарины привозились прямо из Турции, из Трапезунда, и стоили по 20 рублей дюжина. А у Али оставалось всего 500. Через несколько дней мне стало гораздо легче. Мучили только паразиты. К моей постели подсел доктор Кроль, спасший мою жизнь.
– Слушайте, генерал, – сказал он, – вы можете понять все, что я говорю?
Я кивнул головой.
– Вы уже на выздоровлении. 70 на 100, что вы уже выскочили. А я… я умру. Вчера я чистил язык вашему умирающему товарищу, генералу Веверну (он раньше меня командовал моей батареей), и он укусил меня за палец. Я знаю, через восемь дней сыпняк, мое сердце хуже вашего. У меня в Батуме осталась дочь… и ни копейки денег. Сделайте все, чтоб доставить ее сюда и не дать ей погибнуть.
– Даю вам слово, доктор…
Я исполнил свое обещание: в день смерти доктора Кроля в газетах появился его некролог, моя благодарность моему спасителю и подписной лист, где я подписал его дочери 500 рублей – это было все, что оставалось у нас с Алей. А профессор Тиханович встретил и устроил осиротевшую девушку… Были эпизоды и в другом роде.
– Зайка! Помнишь нашу старинную знакомую, молодую сибирячку, учившуюся на инженерных курсах?
– Еще бы! Ведь она гостила у нас на Заротной.
– Она здесь, была замужем за доктором, с которым была тогда помолвлена. Теперь он скончался от холеры. Она хотела бы тебя видеть.
Передо мной молодая, цветущая дама. Вся в черном и в слезах…
– Зинаида Васильевна!
– Иван Тимофеевич!
Я совершенно не отдавал себе отчета в своих словах. Не знаю, как у меня вырвалось.
– Не волнуйтесь, мы вас выручим. Аля не могла удержаться от смеха.
– Ну и Зайка! Глаза лихорадочные, на голове повязка с ослиными ушами, а тоже собирается кого-то выручать!
Какое было для меня счастье, когда меня взяли из госпиталя и перевезли в богатую квартиру Аветисова, где, за неимением свободной комнаты, меня рядом с моей Алей поместили в огромном салоне, убранном картинами и портретами. Сам хозяин приходил временами любоваться то на одну, то на другую.
– Смотрите, генерал, – говорил он, – это копия с известной картины «Нильская невеста»! Это эскиз, картина не закончена. А глаза! Взгляните, какие у нее глаза!
Он глядел в кулак, как в подзорную трубку.
– Смотрите так! Она ведь как раз напротив вашей кровати… Видите, какое выражение! В них видна безумная тоска и глубокое отчаяние…
Если б я был там, подле нее, я бы умер, но не отдал ее проклятым чудовищам. Ах, если б милым, чудным Божьим созданиям угрожали только крокодилы! Но чья рука могла бы спасти их в проклятой трясине растления и разврата…
Перед болезнью мы с Мишушей были в госпитале, где поправлялся от тифа Ася, сын моего брата Володи. Он показывал мне письмо, полученное им через руки от отца, оставшегося в Петербурге… «Слышал о твоем замечательном хладнокровии», – писал он своему первенцу…
– Взял бы ты его к себе в адъютанты, – говорил мне Мишуша.
– С радостью! Ведь я давно предлагал ему это. Он сам отказывался.
– Я был глуп тогда, – отвечал мне бедняжка.
Теперь я узнал, что в последний день этот чудный мальчик простудился и скончался, не выдержав новой болезни…
Врангель тоже заболел тифом одновременно со мною. Говорят, его первый вопрос по выздоровлении был:
– Жив ли Беляев?
Мой первый вопрос также был: «Жив ли Врангель?» Узнав, что он находится в Атаманском дворце, я потащился повидать его. Он поднялся прежде времени, ноги ему еще отказывали.
– Теперь меня снова уложили в кровать, – сказал он мне. – Вот вы выдержали и теперь уже на ногах.
Как раз в эту минуту вошли Деникин с Романовским. Врангель разошелся с ними во взглядах. Они настаивали на молниеносном ударе на Москву, он стоял за Царицынское направление. Я не профессор военной истории, но мне кажется, что Врангель с налета имел бы шанс добраться до Москвы, а вся наша война была возможна только с налету. Глубокой государственной основы она не имела и при затяжке была осуждена на крах.
Я еще не успел поправиться, как в Екатеринодаре произошло событие. Противник в отсутствие Врангеля прорвался на Великокняжескую и стал угрожать Торговой.
Встревоженный слухами, я разыскал моего старого товарища…
Черкесы
А. С. Пушкин. «Кавказский пленник»
- Но европейца все вниманье
- Народ сей чудный привлекал…
Едва я поднялся с постели, как за мной приехали черкесы, Анчок Шемгоков и один из его товарищей.
– На другой день после того, как мы были у тебя, мы встретили твою жену. Она бежала вся в слезах, таща два тяжелых чемодана. Мы забрали вещи и пошли за ней. «В чем дело?» – «Мой муж умирает от тифа, – отвечала она, отирая слезы, – иду к нему, я уже не хочу покидать его ни на минуту». – «Но ведь эта болезнь за разительна, – возразили мы, – оставьте его с докторами!» – «Но я не брошу его одного, – повторяла она. – Если он умрет, и я умру вместе с ним!» – Знаешь, что теперь говорят наши черкесы? Они говорят, что ты и храбрый, и красивый, и умный, но что твоя жена еще гораздо храбрее, и умнее, и красивее, чем ты.
Проехав станицу Некрасовскую, по дороге с конечной станции мы заночевали в небольшом хуторе, принадлежавшем Анчоку. Было уже поздно, но ко мне подсел старик абадзех и вступил со мною в сердечный разговор.
– Спасибо тебе! – говорил он. – Что ты сделал для Беслана! Ведь он из лучшей фамилии. Что ты сделал для него – сделал для нас.
Старик оказался живой книгой.
– Ведь он родом из Крыма, его предок Едыг прогневал хана, украл три яйца от его любимого кречета. Хан хотел посадить его на кол, так он бежал к черкесам. От него родом князья Едыговы, Беслан последний в его роде.
Во дни молодости хевсуры говорили мне: наш народ совсем не как другие. Ближе всех нам пшавы. Но у нас говорят, что нет на Кавказе благороднее черкесов, они стоят еще выше нас. Я сказал это старику.
– Есть у меня хутор на Красной Поляне, под самой горой Ачишхо. Я не променял бы его ни на какие деньги. Но видит Бог, если б вернулись изгнанные 50 лет назад оттуда черкесы, я с радостью вернул бы им их земли. Не понимаю, как могло случиться, что великодушный Царь нашей великодушной страны мог изгнать в Турцию полмиллиона абадзехов, шапсугов, бжедугов и убыхов.
– Царь не виноват, – возразил мне старик. – Виноваты мы сами. Когда, вслед за окончанием войны, Государь созвал всех черкесских князей и старшин, я вместе с отцом стоял ближе всех к нему. Тут были переводчики, которые передавали каждое слово, так что все могли слышать.
– Я не могу оставить вас в горах и на побережье, – говорил он. – Наши враги все время стараются высадиться и овладеть берегом. Тем, кто пожелает остаться здесь, я отведу обширные и богатые земли на плоскости… А кто не хочет, пусть уходит в Турцию.
– Государь! – отвечали князья. – Мы от сердца благодарим тебя за твое великодушие. Но наш народ не поверит нам, он скажет, что мы их предали. Все они желают уйти в Турцию.
– Нас осталось всего 60 тысяч, но через 50 лет вот нас уже 200 тысяч. А в Турции сколько было, столько и осталось… Царь не виноват, он хотел нам добра.
Молодая черкешенка подала мне умыть руки, и все мы уселись за кругом низенького стола.
– Теперь ты наш, – говорили мои спутники, – да ты и так совсем наш. И черкеску, и папаху ты носишь совсем, как носили убыхские князья, да и станом и лицом ты совсем, как они. Мы построим тебе дом в Хатажукае, подарим скот, баранов, пару буйволиц, и после войны ты заживешь у нас с твоей красавицей женой.
Встреча, ожидавшая меня в Хатажукае, была еще более сердечная. Мы подкатили на прекрасном экипаже, за которым до селения скакала полусотня джигитов на горячих конях. Нас ожидало все селение, несколько сот всадников, вооруженных с головы до ног. Затем седобородые «хаджи» в своих традиционных чалмах, далее все местные девушки и подростки, каждая с букетом свежих ландышей в руках. Старики поднесли мне чудный раззолоченный кинжал – эмблему моего нового звания – и красивую нагайку – эмблему власти. Затем старшины собрались за длинными столами в общественном доме, и во время обеда, за чашей пива, старики хаджи излили мне все искренние слова благодарности и симпатии.
– Мы, старики, – говорил Шемгоков, отец Анчока, – сказали детям: «У вас, молодых, есть свой почетный старик – Врангель. А этого оставьте нам. Он к нам подошел, и мы с ним не расстанемся».
Вечером я уехал совершенно очарованный гостеприимством и тонким благородством оказанного мне приема. Теперь все это мне представляется чудным миражом, волшебной картиной прошлого.
Но то, что было, – наше! Его уже никто не отнимет у нас и не исказит. Пока сознание остается в душе – оно ЕСТЬ!
В погоне за призраком
Из либретто оперы Мейербера «Гугеноты»
- – Это лицо мне знакомо – и этот шрам.
- – Его провела эта рука.
– Ein echter Kauckasier glaube ich?
Этот вопрос относится к неподвижно стоящему у столба с надписью, грозившей смертною казнью всякому, кто не сдаст оружия на ближайшем германском посту.
– Ein Ofzier vermutlich?
– Jawohl.[177]
На кавказце нет никакого отличия, кроме папахи и черкески. Но в его осанке и манерах есть нечто, что заставляет думать, что это офицер и притом природный вояка.
– Очень рад! Майор Гериг венгерской армии. Наверное, мы с вами не впервые встречаемся на войне? Бывали в Галиции? На Карпатах?
– На войне, как на балу, редко встречаются по одному только разу…
– И в Долине?
– Вы служили в 1-м Цесарском? Офицеры у «Альпийских стрелков» всегда красовались перед нами во весь рост, и в цепях, и в атаке.
– Это наша традиция. На Яворнике я получил этот шрам, – он поднял руку к виску.
– А я этот крест, – ответил русский, обнаруживая маленький белый крестик, скрытый в складках черкески. – Давайте руку, – прибавил он искренне. – Мы понимаем друг друга. Вас интересуют наши кавказские клинки, не правда ли?
– О да! Ведь нигде так их не ценят, как на Кавказе и у нас, в Венгрии.
– Хорошо, пойдемте! Если б вы были прусский офицер, я не приглашал бы вас.
В казино, импровизированном из «теплушки», все стены были увешаны клычами, гурдами, волчками, принадлежавшими начальнику эшелона князю Накашидзе и сопровождавшим его офицерам. У венгерца разбежались глаза.
– Ах, если б сюда бутылку хорошего токайского, – бормотал он, – но все равно, выпьем пару вашего цимлянского за глубокие рыцарские чувства обеих армий!
Опять на рельсах
За время моей болезни меня назначили инспектором артиллерии, которая находилась под командой генерала Кутепова[178]. Я поехал в Ростов являться Врангелю, вступившему в командование армией.
На вокзале ко мне подбежала наша «добрая красавица Маруся», племянница дьякона Темирюевской станицы. Мы встретились, как родные. Ей не хватало билета. Мне все-таки удалось раздобыть его, и, хотя стоя, мы добрались до Тихорецкой. Там она вышла и побежала по темным улицам поселка.
К Кутепову я попал рано утром. Тотчас же я обошел все артиллерийские позиции корпуса, блестяще оборудованные командованием 6-й дивизии, полковником (имя которого я, к сожалению, забыл). Он прекрасно объяснил мне задачи каждой батареи и всевозможные случаи сосредоточения огня. Обо всем я доложил Кутепову, который остался крайне доволен обстоятельным докладом.
Вскоре, однако, весь штаб Кутепова, в том числе и я, был переброшен в Угольный район, где объединил отборные части старой Добровольческой армии, которым было присвоено название 1-го Корпуса. За мной последовал мой конвой, сохраненный мне любезностью моего временного заместителя, генерала Реныва. Но мой Мустафа уже вернулся в первобытное состояние, Вовочка после Минеральных Вод тоже исчез куда-то, а милый «мичман» Панафидин вернулся к своей морской профессии. При мне остались лишь Беслан, Магомет и дюжина казаков.
О своем новом назначении мне не пришлось жалеть. Кутепов относился ко мне с полным доверием, которое возрастало с каждым днем. Подобно Врангелю, он совершенно не мешал моей инициативе, но в то время, как с Врангелем я не знал покоя ни днем, ни ночью, здесь я был окружен полным комфортом, в котором нуждался после болезни.
Штаб следовал за войсками в экстренном поезде. Обедали мы все вместе – генералы, начальник штаба и я, что давало мне возможность поддерживать с ними непрерывную связь. У меня был свой вагон, где помещался я, заведующий артиллерийской частью полковник Хохлов и адъютанты. Лошади и конвой следовали все время за нами в том же составе, так что я мог поддерживать живую связь с войсками. Но они были разбросаны на широком фронте, и это было не так-то легко. Однажды под Змиевым[179] я чуть не поплатился за это. Когда я явился на находившуюся там на позиции мортирную батарею, маленький отряд, к которому она была придана, находился в полном окружении. Путь на мост был под угрозой полка ГПУ[180], адъютант полковника Ползикова, рекогносцировавший путь, отступая, бесследно исчез, очевидно, попав в плен. Мы с Ползиковым отходим во главе полуроты, прикрывающей орудия. Подойдя к мосту, я обратился к солдатам: «Когда крикну “ура”, бросайтесь все в штыки на мост и тащите за собой орудие». Противник не принял атаки, нам удалось даже захватить адъютанта полка, который сбился с дороги и попал к белым… Уже светало, когда мы очутились по сю сторону реки, я попал как раз к обеду.
– А вы только что ходили в атаку? – удивленно спросил у меня Кутепов. Он узнал об этом от Ползикова. Это ему пришлось по вкусу.
В Изюм мы прибыли рано утром. На улицах никого не было, только продавщица цветов. Когда я приблизился, к ней подошли две молоденькие барышни.
– Какие чудные цветы! Сколько? Три рубля? Ах, как дорого!
– Для вас не будет дорого, – сказал я. Я заплатил старухе и предложил каждой по букету.
– Не стесняйтесь принять это от старого солдата, – сказал я им, – ведь мы уже больше не встретимся.
В Харьков корпус вошел порядочно потрепанный после упорных боев. Общее количество штыков было ничтожно. В батареях оставалось по одному, по два орудия, прочие пришли в негодность, пулеметов почти не было. Заняв город и выдвинувшись на его окраину, мы едва держались.
Но значение этого успеха было колоссально. Мы захватили главный индустриальный центр южного края: Харьковский паровозостроительный завод был первым в России. Кроме того, Харьков являлся первым коренным русским городом, моральное значение его было колоссально. Отсюда можно было дать начало новой России. Население не встретило нас взрывом восторга, оно было слишком подавлено красным террором. Но интеллигентные классы были прекрасно сориентированы и горели чувством истинно русского патриотизма.
Было еще рано. Штаб уже перешел в главный отель города. Я поскакал туда в сопровождении ординарца. Улицы были почти пустынны. Пересекая площадь, я услышал свое имя. Передо мной с корзиной в руках, в простой холщовой рубахе стоял мой товарищ по бригаде Н. М. Энден.
– Какими судьбами?
Немного погодя он зашел ко мне и рассказал свою эпопею.
– У жены здесь имение, мы спаслись там от революции. Крестья не отобрали у нас скот, инвентарь, даже мебель. Но нас не трогали. Когда пришли немцы, я сдал мундир с орденами и явился к не мецкому лейтенанту, командовавшему ротой. Он любезно пришел на помощь, перепорол мужиков и восстановил порядок. Но когда немцы ушли, нам пришлось бежать.
Дня через два генерал Шкуро, явившийся в Харьков с личными делами, очистил двойной номер отеля рядом с Кутеповым и его начальником штаба, и я водворился там. Это дало мне возможность выписать к себе мою жену, тем более что и Кутепов уже вызвал к себе свою супругу. Это были счастливые дни нашей эпопеи. Роскошная комната, чудная огромная постель в прелестной спальне, великолепная приемная и, вдобавок, маленький вестибюль и рядом ванная – все это были такие удобства, о которых давно не приходилось и мечтать. Мы все время получали прекрасный обед и ужин по номинальной цене, и хотя жалованье было ничтожное – всего каких-нибудь 3000 обесцененных рублей, но мы не нуждались ни в чем. Алю привез мой двоюродный племянник Коля Беляев и с ним Ванечка Лисокво, прелестный мальчик; оба они перенесли вместе с покойным Асей все тягости походов, и по его предсмертной просьбе я взял его к себе.
Моя Алечка ликовала, как дитя, – с ее лица не сходила улыбка. Мне она не мешала, но ей было хорошо, потому что мы были вместе и будущее казалось ей безоблачным. А у меня работы были полны руки.
Симпатичный полковник Хохлов сразу же отпросился в одну из формируемых батарей. Но на его место явился бывший адъютант моего отца по казначейской части, милейший полковник Тимашов, добросовестнейший офицер и честнейшей души человек. Он совсем почти оглох, но это не мешало ему отлично идти навстречу всем моим начинаниям. В помощь ему я назначил капитана Колыванова, моего бывшего офицера в 13-м дивизионе. Оба «мальчика» дополняли нашу семью.
Но главным винтом всей машины был поручик Крыжановский, талантливый и знающий инженер-технолог, который уже поставил наш орудийный патронный завод в Таганроге. В качестве представителя Военного ведомства на Паровозостроительном заводе, с помощью 12 других инженеров, призванных прапорщиками, которых он распределил по цехам завода, он энергично взялся за приведение в боевую готовность бронепоездов, броневых автомобилей, орудий, пулеметов и ручного оружия.
– Дорогой генерал! У телефона директор Паровозостроительного завода, – послышалось однажды из моей телефонной трубки. – Я очень рад служить всем, но наши кредиты совершенно истощены. Когда я могу надеяться на восстановление кредита?
В моем распоряжении не было ни копейки казенных денег. Получить их от снабжения? Смешно и думать об этом. У нас никогда не было снабжения, а только самоснабжение.
– Мы здесь держимся на честном слове. Если большевики снова ворвутся в город, вы знаете, чем они вам заплатят. Если удержимся, я достану кредиты через несколько дней. А пока продолжайте изо всех сил.
Если большевики не войдут в город, я буду повешен за ордера, не авторизованные и не оплаченные никем. Но ожидать достать денег. И ведь их израсходованы миллионы!
Накануне, в дверях у Кутепова, я наткнулся на городского голову.
– Николай Николаевич Салтыков, – отрекомендовался он, – а это моя правая рука, председатель комиссии по сбору пожертвований.
– Соколов, очень приятно!
– Если что-либо вам понадобится, мы к вашим услугам. Вот выход! Лечу в Городское управление.
– Николай Николаевич!
– Чем могу служить?
– Вчера в газетах прочитал, что на банкете в честь генерала Шкуро вы поднесли ему пять миллионов.
Ну не пять, а пятнадцать.
– Боже мой! Но ведь вы бросили их в помойную яму.
– Как так?.. На нужды армии…
– А вы думаете, что он думает о нуждах армии? Он пропьет их, а на остальные накупит себе домов.
Я попал в точку. Шкуро приобрел в Харькове два дома.
– Но ведь Харьков взял не Шкуро, а скромный, молчаливый Кутепов. Он честный человек и не присвоит себе чужого. Может быть, город пожертвует что-либо на нужды его корпуса?
– А снабжение?
– Какое снабжение? Орудия, посланные для ремонта три месяца назад, еще не вернулись, и на них нет надежды. Денег оно никому не посылает, само требует с нас долю из военной добычи. На фронте нет ни одного бронепоезда; орудия и пулеметы в полной негодности. Кадры пополнились в Харькове, но оружия нет. А если красные вой дут город, вы знаете, кто от этого выиграет.
– Но как же вы держитесь?