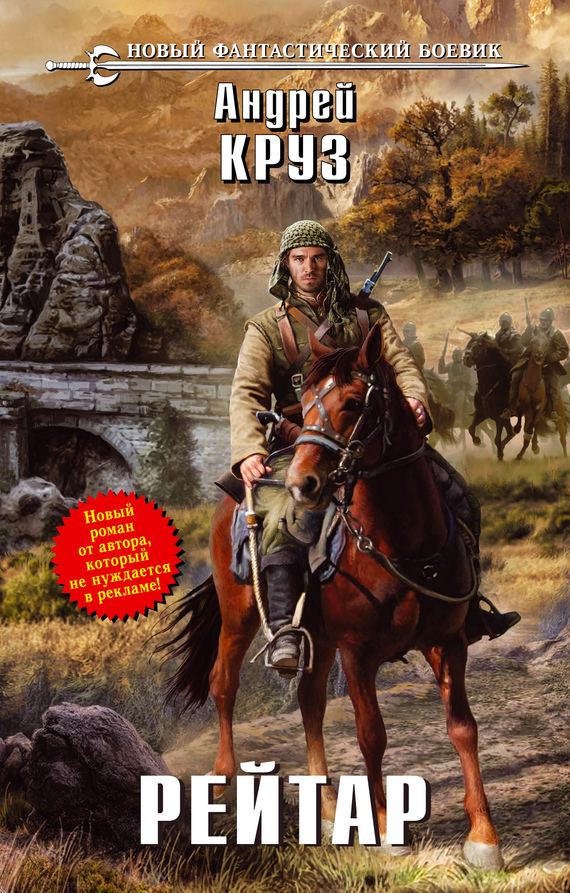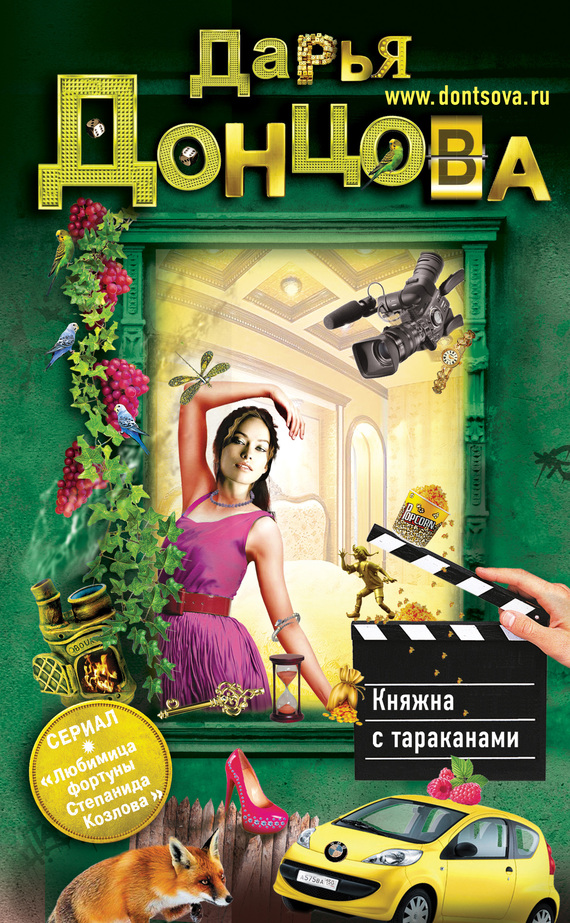Самурай Ярослава Мудрого Ледащёв Александр

Ее кулак камнем падает на столешницу — костяшками на край.
Она душит этот вой, небрежно душит, лишь судорога пробежала по ее рукам и плечам.
— Не надо. Что худого в том, что тебе больно от себя? — Это спросил я.
— На полдня пути от моей избы для всех — смерть! — резко сказала она.
— Кто ты? — Я должен это спросить. Я хочу это знать. Еще я хочу, чтобы что-то решилось, наконец, в этой избе. Между хозяйкой городьбы с дюжиной черепов и мной — беглецом. Но хочу я лишь одного — слышать ее голос. Опоила? Обаянница? Ланон Ши?
— Я стражница. Я стражница Пограничья. Это был мой туман. Ты, во второй уже раз, подошел слишком близко к грани — и я должна была тебя убить.
Я слушаю ее, и от низкого рокота ее голоса, от реки и перекатов, от горлового клекота на камнях…
— Ибо каждому свой черед. Каждому — свой переход. Тебе прямой, а кому-то прямее. Прямо к бабке. Прямо к Морене. Я стражница. Мое имя — Ягая. Я убиваю. Чужим пройти не даю. Не прошу и не дарю. А ты попал в верное место, когда шел сюда в первый раз — прямо на переход. А теперь ты снова пришел ко мне — на полдня пути. Но я не могу убить тебя. Ты не идешь на переход, а ты плутаешь по туману. Это не запрещено. Это можно. Это мой туман. Я три дня прятала тебя от Синелесья. От Кромки, к переходу через которую ты снова подошел. От себя.
Мне больше нечего сказать. Кривая улыбка комкает ее губы — я вижу это, хотя она по-прежнему сидит ко мне левым боком.
— От себя ли прятать, — она встает и идет. К стене, где стоит коса? К печи? К влазне. Дверь тяжко вздыхает, выпуская хозяйку в ночь. Я остаюсь сидеть за столом. Я, кажется, понимаю, что сейчас может решиться моя судьба. Что именно в этот миг за черными, грозовыми облаками ее глаз может прозвучать короткое: «Смерть ему». Вот так. Негромко и просто.
Я дам ей еще один миг — если она не вернется ровно через миг — я выскочу следом. Прямо в ночное Синелесье.
Она вернулась, пахнуло от дверей холодом полуночных волн мха, хвоей, свежей ночью…
Шея сейчас хрустнет от напряжения. Не могу заставить себя не смотреть на нее. Первый, любой, самый глупый вопрос — лишь бы ответ. Лишь бы низкий, хрипловатый голос. Лишь бы глаза в глаза.
Я молчу и смотрю на стол перед собой. Пальцы тихо приплясывают на скобленых его досках. Вторая рука висит вдоль тела.
Темная река голоса. Немые, кипящие смолой глаза — без зрачка. Черные, неведомые, убийственные омуты слов, в которых может утонуть сердце.
Пусть.
— Да. Вот потому. Вот потому — от себя, стражницы, не спрятать. И потому, что только ты можешь хотеть чего-то так, как не хотят ни люди, ни нежити.
Пусть. На самом дне — в скальном, бездонном во тьме своей разломе, до краев наполненном черною водой жизни, оно наверняка встретится с ее сердцем.
Так в лютой, обломавшей мечи сече хватают на руки врага — чтобы с маху хребтом о выставленное колено. Чтобы сразу насмерть. Так ты подхватил на руки ее — стражницу. Ягую. Она обжигает голые руки жаром своей снеговой кожи — леденящим жаром, жаром до озноба, в дрожь, а руки ее, тут же гадюками обвившиеся вокруг твоей шеи, кажется, равны по силе твоим — так жадно и властно потянула она твою голову к себе. К оскаленным, белым зубам. К жестко очерченным губам — словно накусанным со зла. К мрачным, кипящим варом колодезям глаз под длинными, жестокими ресницами. Чернота полыхнула на миг и исчезла.
Где-то неизмеримо далеко, наплевав на все, шел к концу 2011 год — люди умирали, старились, любили, жили и рождались.
Глава XXIX
Утро, как известно, мудренее вечера. Да, должно быть. Но утро не настало — я проснулся вечером, когда солнце уже садилось. В горнице я был один. Ягая исчезла — я не помнил, когда она ушла. Ее коса и лук исчезли вместе с ней.
Задавать себе обязательного вопроса — не привиделось ли мне все это, я не стал. Горела исцарапанная спина и грудь, и болели накусанные стражницей губы. Бешенство. Страстью это назвать, пожалуй, не получится. От страсти наутро хочется уйти как можно скорее. А я никуда не хочу от нее уходить. Она же ушла. Ничего. Так надо. Иногда кроме «я хочу» есть и «так надо». Да и зачем вообще это как-то называть? По привычке…
На дворе темнело. Я встал с полка, натянул просохшую рубаху и сапоги и, пригнувшись, нырнул во влазню. Первый, кого я увидел, был Харлей, вольно стоявший у городьбы и стригущий сладкую вечернюю траву. Подзывать жеребца или подходить ни к чему. Он расседлан и разнуздан, накормлен и напоен, судя по колоде для воды, стоящей у городьбы.
Дверь влазни выходит на закат. Как раз за елями уже почти окончило умащиваться на ночь огромное красное солнце. Оно потягивалось перед сном длинными красными столбами на синеющем небе. Стаи птиц встревоженно метались над лесом — хлопотали в поисках ночлега. А под елями вокруг избы уже просыпалась ночь — черная, сажная ночь. Здесь, в сени огромных лап, она не боится ни луны, ни солнца…
…Я не сразу заметил его. Он, полупрозрачный, сутулый, стоял возле меня, таращил темные провалы глаз, силясь заглянуть в окно избы. Я замер. Это блазень. Но не тот, не домашний. Его тело подергивала дрожь, он пританцовывал на месте, не шевелясь, — а я думал отчего-то о том, что хорошо, что тут нет ветра… Меня он тоже видел, но то ли не считал за человека достойного беседы, то ли был нелюдим от природы, а может, принес вести или пришел за приказаниями и ему было не до болтовни.
…А во дворе их несколько уже. Блазни? Мнилко? Вряд ли мнилко — они не отходят от своих мест — и вчера их тут не было. Уводна? Да, пожалуй, — вот, пробуя силу, одна пропела что-то высоким, чистым голосом, призывным, как трубный клич осеннего клина журавлей. Несколько раз они меняют свет, мерцают синим бархатом на фоне темно-фиолетовых елей — почти неразличимо, потом резко кидаются из стороны в сторону — играют. Я прошел, проехал, пробежал, проскакал, проплыл сотни и сотни верст, для того чтобы мне повезло — и я увидел, как танцуют на закате уводны — во дворе по-звериному жестокой, манящей, как тьма за окном, Ягой. Как одна гладит по шерсти Дворового — а тот, сидя на спине моего коня, довольно крутит ласочьей головой, в сотый раз, по-моему, перебирая волосы в гриве Харлея. Двойной прок ему, двойная радость — скотины Ягая не держит, ему и заняться не с кем. А еще и голову чешут. Я ловлю себя на том, что улыбка моя непривычна лицу — не на одну сторону. Тут же ловлю ее и ставлю на место.
А уводны то сходятся, то расходятся, то плывут туманом над самой травой, то кидают вдоль двора искрящиеся шары — издали их можно принять за блудячий огонек. Но только издали. Вблизи их не перепутать. Блудячие сами по себе, никакой уводне ими не играть. Вечер скрадывает их выверты — уводны рябят, возникают в самых неожиданных местах, аукают на разные голоса, смертно стонут, пропадают… Но, как и блазень, как и Дворовый, они ждут хозяйку. Я тоже.
Ловлю себя на детской обиде — хозяйка не оставила на столе никакой еды. А шарить по ларям и медуше я не могу — это оскорбление. Ей.
Смешно. Сидеть во дворе самого опасного создания, которое мне доводилось встречать, ждать ее возвращения, подрагивая от нетерпения, — и просто-напросто хотеть есть. Хорошо, когда смешно.
— Ее нет, — это сказал я. Уводнам и блазню, скользившим по все более темнеющему двору. Ждать-то они ждут. Но как-то непривычно сидеть с ними на одном дворе и ждать ночи. Чувствуется если не их равнодушие ко мне, то презрение — они играют, не стесняясь меня. Выдают свои секреты. Хотя, окажись я в лесу, на такой стон поехал бы точно — даже видев игру уводн. Они бьют без промаха. А еще я чувствую их превосходство. Они словно излучают его. А мне неприятно. И страшновато.
Уводны слышат меня, замирают… А потом одна легко машет рукой в рукаве дымки — и за городьбой, где-то под елями, раздается голос. Ее. Стражницы. Мольба, стон: «Ферзь…» На пределе слышного. Вскакиваю и бегу к воротам, но замираю, кидаюсь в дом, хватаю с сундука субурито и выбегаю из ворот. Точнее, чуть не выбежал — аршинная, черноперая стрела ударила в городьбу прямо перед лицом. Черная тень кидается от елей ко мне, и ослепительно-белые зубы оскалились в лицо: «Никогда! Никогда не смей выходить в лес ночью — это не просто смерть!» А вот и хозяюшка вернулась. Ласковая. Кривлю лицо в улыбке-оскале. Ягая просто брызнула яростью — я не успел ничего понять, но успел запомнить: «За ворота ночью нельзя». А что до «не просто смерти» — так мало ли что бывает не просто смертью, а то и хуже смерти? Я и вправду давно уже не хочу знать все.
А она уже во дворе — ее гортанный рык доносится со стороны влазни. Слов я не понимаю — но то ли язык на диво подходит для ругани, то ли ее голос вкупе с гневом сделали его таким — по спине прокатывается ремнем холодок, вздыбив волоски мурашками. Я сворачиваю за угол — а двор пуст. Ни уводн, ни блазня, ни Дворового. Серёг, видимо, хватило всем — и не только сестрам, но и братьям.
Влазня. Вот она — хозяйка — посреди горницы, спиной ко мне — только что стянула через голову рубаху, — сквозь бурю ее волос мелькает белая кожа.
— Еще раз рыкнешь на меня, стражница, — уйду, — я не пугаю ее. Я уйду. Ночью, днем — все равно. Я не умею иначе.
— Уйдешь, — легко согласилась Ягая. — Только не рычала я. Еще.
Я ей верю. И умолкаю. Тем более что я все сказал.
Стражница повернулась лицом. Она ничем не прикрыта — кроме потоков волос, удерживаемых на лбу ремешком. Вновь мелькнули белые, острые зубы — она улыбается и вкрадчиво шагает от меня назад — к полку.
…Опершись на локоть, я смотрю на ее жестокое, сейчас успокоенное, насколько оно может таким быть вообще, лицо. Глаза Ягой закрыты.
— Где ты была? — спрашиваю я.
Веселое недоумение разбегается по лицу хозяйки. Вопрос глуп, неожиданен и приятен. Я могу поверить в то, что его еще не задавали в этом доме.
— Не бойся, наставник. Это глухарь, — так сопроводила Ягая горшок с варевом, остро и сильно пахнущий мясным содержимым. Я вспомнил, что слышал о хозяйке, и засмеялся. А болтать за едой нечего.
Ночь. Скоро ночь. Стражница и я сидим на крыльце — она не стала одеваться, осталась в тонкой исподнице, в которой подавала на стол. Коса ее стояла у стены и просто дышала неутоленной жаждой — хотя сегодня она не скучала, железо всегда пахнет узнаваемо по-другому. После убийства. Но на столе был глухарь, х-ха.
Не думаю, что она способна застыть на вечернем ветерке, спрыгнувшем с еловых лап на траву двора, но просто так — просто — накидываю на нее полу плаща, который прихватил выходя. А это уже не недоумение. Это боль. Она закрывает глаза. Ей тоже бывает больно.
Глупо говорить, и я молчу. Сказать, что я ухожу еще не завтра? Кому? Стражнице? Утешать ее? На сколько она старше меня и что нового я могу ей сказать? Лжи она наслушалась. Это я знаю.
— Соври мне, бродяга. Скажи, что еще много ночей ты будешь прикрывать тело нежитя от вечернего холода, — ясным, низким голосом, упавшим на хрип только к концу сказала стражница Пограничья.
— Знаешь… Когда я понял, что тот Мир не мой… Я был готов ко всему — или мне так казалось. Даже наставничество не сбило меня с толку. Даже то, что я — заблудший Ферзь.
Ягая молча слушала, а я словно старался выговориться:
— Знаешь, стражница, — я никогда не любил. Уверен. Как ни старался. То, как другие описывали это чувство, мне не дано. Как уже давно не дано вздрагивать при «Я люблю тебя», сказанное женщиной. Но никогда, ни разу — в том Мире, не говоря про этот, я не тосковал так, как сейчас — от твоих слов. Помолчи. Ты еще наговоришься. Лучше бы я любил тебя — тогда бы я смог стать твоим рабом, должно быть, ты бы успокоилась и выкинула меня за ворота. Раб тебе не сгодится. Или убила бы — влюбленному человеку жизнь немила, если он видит, что его не полюбят никогда. Но я не люблю тебя.
Тонкая, мимолетная усмешка промелькнула на лице стражницы.
— Знаешь, стражница, там, откуда я пришел, этот Мир уже просто сказание. В него почти никто не верит. Зато там умеют оскопить душу — себе, соседу, своему ребенку — и все это так ловко, что понимаешь и готов верить, что так и надо. А убивают там так же легко и охотно, как и здесь. Только намного глупее. Бессмысленнее. Просто так. И подводят великолепные объяснения под убийство целых народов. И им приходится верить — потому что больше верить ни во что не дают.
— Я тоже убиваю, — усмехается Ягая.
— Да. Но ты убиваешь потому, что так должна. А еще потому, что так любишь. А то, что я здесь, — говорит о том, что ты хочешь любить то, что делаешь, свою силу, свою ярость, уважать твои законы, а не тянуть лямку. Не сбивай меня. Ты же хотела знать — вот и узнай.
— Почему ты решил уйти? Почему ты захотел уйти? Почему ты тосковал так, что я была вынуждена послать за тобой Сову? Что ты не мог делать там, что можешь здесь?
— Дышать, Ягая. Тот Мир и я слишком часто вызывали друг у друга недоумение. Не непонимание — такое меня не насторожило бы. А недоумение. Когда-то я верил в то, что мне надо лишь зажмуриться, и я вцеплюсь в тот Мир так же глубоко, как клещ в кожу, — и никакой ветер не сможет меня сдуть, никакой дождь не сможет меня смыть, я буду прикреплен, устойчив и сыт. Не беда, что до тебя там уже присосались тьмы и тьмы клещей, — втиснуться или содрать кого-то — невелика загвоздка. И вдруг ты понимаешь, что ты даже не видишь скакуна, на чью шкуру прицелился. Более того — он едет совсем в другую сторону. И совсем уж невыносимое — тебе, клещу, надо куда-то не туда, куда ему. И вообще, ты не умеешь пить его кровь. Значит, ты не клещ?! А вокруг тебя лавой спешат те, на кого ты ужасающе, до боли походишь, — но они-то знают, куда бежать! На ветки, с которых удобно падать на конскую шкуру. Они — и ты. И все.
— Да, это может согнуть человека, — негромко соглашается моя стражница своим низким, свирепым голосом.
— Может. Ты кричишь, ты выворачиваешь себя просто наизнанку — стараешься убедить их, оголтело несущихся на ветки, что ты — тоже с ними.
— Зачем?! — искренне поражается Ягая.
— Как — зачем?! Вокруг никого, вообще! Только они! Даже если не только, остальные подобные тебе бедолаги или уже догнивают, растоптанные стадами правильных кровососов, или бегут, притворяясь, на ветки, отстают по дороге, дышат, бегут дальше, оставаясь на месте. Они не отзовутся. Ни те ни другие.
— Нельзя быть другим?
— Можно. Но я верил в то, что должен хотеть конской крови.
— С кем поведешься… — непонятно произносят красные, как со зла накусанные, губы.
— В конце концов они сбросили меня на коня.
— И что ты сделал?
— Вцепился в гриву. И на коне, и не в шкуре. Но на гриве страшно. Тебя может сорвать ветром и унести… А куда? И тогда лжеклещ поднял голову. И понял, что зрение клеща слабо и неверно — потому что ненужно. Но этот клещ видел дальше других. Или слышал.
Ягая промолчала.
— Понимаешь, стражница… Ночь и день там — просто поворот всей Земли — а там она круглая — вокруг своей оси и по огромному кругу в небе — вокруг Солнца и Луны. Солнце и Луна там перестали отдыхать. А просто восходят и заходят. А в ночном лесу можно налететь на татей, но долго придется искать лешего, уводну, мана, из рек ушли омутники и берегини. Люди обогнали их и пережили — так говорят люди. Потому что иначе им придется поднимать морду от конской шкуры и осматриваться.
А я чуял ночью, что царит вокруг Ночь. Что леса и болота ночью — не для людей. Что этот мир от века принадлежит не только нам.
— Что ты делал там?
— Учился сражаться. Убивал. Я научился скрывать то, что мне казалось важным, и то, от чего они шарахались, потому что это все было для них тяжело. Но они чуяли меня нюхом, чуяли, как чужака, — и гнали. Тогда я научился понимать их — и это не заняло много времени, х-ха — за это они возненавидели меня еще больше, так как мне мерзко было делать даже вид, что они хотя бы сильно рознятся меж собой. Тогда я начал презирать их законы — ответ не заставил себя ждать, они никогда не тянут с камнями и проклятиями. Что бы я ни делал, чтобы сблизиться с ними — пока я старался сблизиться, — они гнали меня и фыркали, как сытые борова, перегородившие другим путь к водопою. Что бы я ни делал потом — стараясь отдалиться от них, не умея приблизиться, — они тащили меня к себе, они обещали, что со временем я стану таким же, — и они, и я чувствовали, что это вранье, и, понимая это, они ненавидели меня еще больше. Самое же скверное, что они чуть не сделали со мной, — так это чуть было не научили врать самому себе — лишь бы не быть одному — потому что их правда гласила, что одному быть неправильно для человека, а оттого — скверно. Клещ с вывернутой душой. Вот что я такое. Еще я научился драться. Бить быстро и точно, увеча протянутые к тебе руки или оскалившиеся на тебя лица, — потому что, когда висишь на гриве, нет времени для долгих боев — сдует раньше, чем ты наконец-то осмотришься. Я готов был спрыгнуть — но слететь? Шалишь…
— Бить быстро и точно, ха. Это нужно в любом мире… — Ягая смеется. Но глаза ее закрыты, и чуть-чуть дрогнул живчик под веком. Тени, просто ночные тени.
— Неправильный клещ. Клещ, который может вывернуть душу, себе ли, другим ли. Который не хочет ненавидеть себя за то, что должен хотеть стать клещом. Мерзкая, согласись, тварь.
— А при чем тут свобода? — Негромкий голос Ягой углем прокатывается по моей груди и, стукнувшись о сердце, замирает.
— Если б я знал! Они не в состоянии понять, о чем говорит осенний лес, не видят его осиротелого взгляда. Но они прекрасно видят самих себя, тех, кто с ними, а особенно тех, кто на гриве. Кто-то смеется над тобой — видящим глаза Леса-по-Осени, кто-то не верит — то есть хочет не верить. Кто-то боится, что ты говоришь правду, — боится сильно. Но если не слишком часто попадаться им на глаза, то они забывают ненавидеть и просто бегут мимо. По шкуре — в поисках самой толстой жилы. Я слишком много болтаю. Даже здесь.
— Разве нельзя поверить в себя, в такого, какой ты есть, и просто принять себя?
— В некоторые вещи там… Там не полагается верить, хотя вслух провозглашается совсем другая здравица. Та вера, которая у меня уже была тогда, которая есть сейчас, толкуется там знающими немного по-другому. Не остается места для тебя, Ягая. И для этого Мира.
— Разве можно толковать веру?
— Разве можно не толковать ее?
— И ты?
— И я ушел. Просто понял, что недоумение это больше невыносимо. Я вышел как-то вечером из дома, никому ничего не сказав. И ушел в лес.
— Тебя никто не ждал домой? Не ждет сейчас? — Ей все равно, что я скажу, — то есть ей плевать на то, что меня может ждать женщина. Просто она уясняет для себя что-то.
— Должно быть. Должно быть, так. Меня любили и там. И я, понимая, что сам не способен к этому, чуял себя срывающимся с гривы. Ненастоящим клещом.
Стражница снова промолчала.
— Я устал от недоумевающего мира, стражница. К тому же мир, который недоумевает над тобой, никогда не даст тебе дом — он не понимает, зачем он тебе. Я всегда хотел увидеть вас — нежитей, незнатей, хотел знать или хотя бы надеяться, что еще есть места, где живет то, что уже забыли — точнее, стараются забыть.
Хозяйка внимательно слушала сбивчивую мою исповедь.
— Дальше все просто. В лесу меня нашла твоя Сова. Недоумевающий мир отпустил меня. Думаю, не заметив. Если я не мог быть человеком там — я надеялся стать им…
— Стать собой. Это другое. Ты, как мы, — хотел принять себя. Понять и принять, понять ревность Силы, не дающей тебе любить кого-то, встретить тех, кто так же скользит по миру, лишь усиливая его боль, а не смягчая. И где таких не один, не сотня — а много. В этом мы — все мы — походим на людей. Мы можем понять человека, можем исцелить его боль. Мы. Нежити. Незнати. Хозяева. Стражи. Слуги. А люди… Они способны не уступить настоящей Силе — встретив ее. И готовы бежать опрометью, если в свете луны углядят пастеня. В этом их сила. А ты, Ферзь, — ты можешь уступить Силе и не напугаться пастеня. Можешь сказать правду — прямо в сердце, не то что в глаза. Скажи мне — сколько душ ты ранил? Ранил глубоко, ни за что — просто оттого, что ты не мог иначе и даже не хотел — и не хочешь — научиться иначе. Здесь ты стал просто убивать. Разве тебя мучают глаза тех, кого ты убил что там, что у себя, что здесь? И разве ты не искал войны в своем старом мире? Ты ее не нашел — там нет войны для тебя. Она тебя там не ждала, Ферзь.
— Что ты говоришь, Ягая?! — Вот так вот и перехватывает горло по-настоящему, а не ловишь отголосок судороги, веря в то, что его перехватило. Да! Да! Да, только здесь чувства мои дали ответы на многие вопросы. На перехваченное горло. На горький смех. На звериный оскал. Там, в том мире, откуда я ушел, мучаются среди говорливых слепцов лишь их отголоски. — Что ты хочешь мне втолковать?! Что я — не человек?!
— А ты боишься этого, да, наставник? С кем поведешься, наставник. С кем поведешься…
Я замолк. Ее плечо, опершееся о меня, обжигало. Запах полыни от ее ладоней, запах задетой, разбуженной ветки в ночной чаще, идущий от волос, заставлял закусить губу — чтобы не рычать негромко просто так. Ее низкий, тяжелый голос заставлял жить и желать.
— Что еще тебе нужно, чтобы быть живым?!
— Я хочу в дом, — сказал я. Я просто сказал правду. Оставив Ягой плащ, я быстро встал и пошел в избу. Я истосковался по домам… А это — дом. Ее дом, куда она привела меня.
Ночь развела крылья и взлетела к небу. Я раздул угли в печи и запалил светец. Сел на лавку. Так спокойно. Просто и спокойно. Я понял, что она сказала чуть раньше — на мой вопрос, отчего никто не сможет прийти сюда, за мной? Она сказала так: «Здесь еще не этот Мир. И уже не тот, твой. Пограничье. Попробуй даже представить, куда ты идешь — если не из того Мира в этот, или наоборот, х-ха! Удержаться посреди шага здесь?! „Не там и не тут“ — а где? Мало кто может это, Ферзь. А продержаться здесь без моего позволения не сможет никто». И все стало ясно. Принимаешь очевидное, наставник. Значит, способен к обучению.
Ягая не ведьма. Не волховка. Это она сказала мне еще вечером. Я много спрашивал. Как всегда. Но ее сила велика. Это я видел сам. Вчера. И чую постоянно. Она неспособна любить и не тоскует по любви. Как и я. Но я — не ее выходка уставшей женщины. Она не устала. Она делает то, что умеет и любит, — убивает на границе. Путает следы, выводит обратно, если велено не убивать, а велеть ей может только ее сила. Она не ошибается. Если бы я был выходкой — то уже утром лежал бы в траве с перерезанной глоткой. Не сомневаюсь и не укоряю. Откуда мне и зачем знать, отчего так легко бьет она?
Стражница Пограничья, от которой я уйду утром.
…Никуда я не ушел наутро. Его снова не было. Я устал сидеть в избе один и тихо пошел к влазне — за ней. Пока не настало завтра. Но на пороге ее не было. Двигаясь как можно тише, я обогнул избу — и увидел луну. Такой дикой, такой ледяной и настолько огромной, в благородную желтизну, она не бывает даже в горах зимой. Насколько прекрасной она вышла из-за мохнатых вершин елей Синелесья. Полная, чудовищно огромная луна, по пути на небо. И в ее свете, напротив нее, я увидел Ягую. Но еще раньше услышал.
Стражница пела. Ее низкий, горловой голос изменился в песне — он стал чуть выше обычного. Но сила его не оставила. Я не понимал слов — я просто оперся на стену избы и слушал.
Это была песня гордости, песня силы, которой впервые пришлось просить — пусть даже у кого-то стократ сильнейшего. Ягая не умела просить, но она просила. Это не было заклятием — я чуял это кожей, чуял душой, которая замерла где-то в горле, подрагивающем в такт песне Ягой. Она рассказывала что-то Ночи, Луне, Кромке, Синелесью, что-то такое, чего не знали даже они, — и она просила о чем-то. И была услышана, думаю.
Дикая, неизмеримая сила, которая воплотилась в песне нежити, взмыла к луне, скользнула вниз, метнулась среди елей, заставляя дрожать их лапы, вздыбила волосы в бороде омутника, ударившись о речную гладь, лента ее голоса, лента ее песни, она сама становились облаком и елью, черной гладью воды и полуночным небом — так пела в ночь на полнолуние Ягая — прося о чем-то.
Песня чуть не убила меня, наставника Ферзя. Не умея подпеть, не умея стать рабом — понимать, что ты просто не можешь сделать этого. Того, что пелось в дикой, необузданной, страшной своей просьбой песне — просьбой неумеющей просить.
Ночью она вскочила с полка — прямо с моей руки, на которой лежала и, казалось, спала, жестоко осклабившись.
…Расставивши тонкие, жесткие руки на столешнице, она низко опустила голову, рассматривая что-то на плошке, где одиноко ползла к капле меда букашка. Губы ее приоткрыты, шевелятся, лопатки натянули ткань исподницы горбом, спина выгнута по-старушечьи, пальцы когтями терзают столешницу. Прислушавшись, разбираю:
— Лешего облыжно винит, от лешего семенит, на лешего грешит, от лешего ворожит, на лешем вины нет, я потропила след…
Я встаю с полка и подхожу к ней — обходя стол. И я вижу, что букашка в плошке спешит к капле дегтя — это не мед. Волосок отделяет букашку от дегтя — и она пробегает этот волосок, хотя сначала показалось, что разминется со смертью.
— Бежит, когда нельзя бежать, дышит, где нельзя дышать… Тут, милый, ходят не дыша — твоя Тропленая Межа, — хищно кричит она, и ответом из-за елей, из темноты терпкой, свежей ночи чей-то тоскующий, смертно молящий вопль. Она только что убила человека. Утопила. Тропленая Межа — лютое в своей жадности болото. Обороняя Кромку от нестоящего или свое счастье от помехи? Но человек этот уже, почитай, мертв, и я не стану силиться его спасти, как не стану мешать ей. Ее дом, ее грань, ее стража…
Она оборачивается ко мне, и я вижу, как в черном ее зрачке погасло пламя, кровавая искра. Она стояла спиной к огню в этот миг.
Утро так и не наступило. Наступали сумерки, а утро — нет. Ягая то была дома и не была дома, сходились на ее дворе уводны, я видел леших, лешачих, Лесного старца, который долго и строго присматривался ко мне, принюхиваясь, — недоумевал о чем-то. Видимо, одно говорили ему глаза, а чутье нежитя — другое. Он недоуменно пожал плечами на меня Ягой, вышедшей во двор, та резко ответила на непонятном языке, и Лесной старец, смирившись, отошел, еще раз с силой потянув носом вечернюю сырость.
Я так хотел увидеть их, там, в другом мире. И теперь я вижу их и понимаю, что я зря боялся там. А я боялся. Боялся, что, если мне когда-нибудь удастся пройти сюда, на Кромку, я привыкну к ним, и переход потеряет если не смысл, то часть очарования. Нет. К ним нельзя привыкнуть. Привыкнуть можно лишь к повторяющемуся. К людям, их лицам, поступкам людей, к примеру. К их однообразной глупости, рядящейся в разные обличья, к их предсказуемости, к их злобе. Все это надоедает очень быстро — стоит только один раз взять все это на заметку. Но кто скажет, что мелькание волн, падение осенних листьев, полнолуние, рябь, пробегающая по волнам ковыля в степи, раскачивание вершин сосен, если смотреть на них, лежа на поляне в чаще леса, кто скажет, что это — однообразно? Вы когда-нибудь угощали Дворового с руки? А смотрели сквозь речное зеркало в бездонные глаза берегине? Слушали, как аукают на разные голоса уводны, и знаете, сколько обличий может сменить Лесной старец, заманивающий вашего ребенка, а?
Примелькается ли то, что мудро? Нет. Оно просто будет каждый раз мудрым по-своему. Вот и вся тайна.
И я смотрю на чудовищную в своей величине ель часами. Даром, что каждая из них в Синелесье — исполин. Часами смотрю на ее лапу, на ее иголку… Странно ли то, что, рассматривая ель целиком, я вижу ее иголочки — каждую в отдельности, а смотря на иголку, я вижу всю огромную ель, гордо говорящую: «Я здесь королева. Нас здесь тысячи, тысячи, но я королева!» И вторая, и сотая ель скажут то же самое. И все они скажут правду. И мнилко у разбитого камня сам рассказал мне будничную, но дикую историю — мать отвела его в лес и убила, похоронив под камнем. Вот этим самым. А Ягая подняла его. Сделала из него мнилко, дала дожить оставшиеся годы — до положенного срока. Кто же из нас жесток, а? Мать? Ягая? Обе? Важно ли это?
Росомаха, охотящаяся на детей, станет скучной? Эта безжалостная убийца, которая, остановившись, подперла надломанную ветвь ели сухой палкой и засмеялась?
И почему ничего против не имела Ягая, когда я час за часом сидел у Тропленой Межи, разговаривая с русалками и берегинями? Тропленая Межа — чудовищное в своей алчности болото, но это еще и озеро, которое потом становится болотом, в глуши Синелесья.
…Играла, насмехалась полная луна над Пограничьем, все чаще заставляя Ягую покидать дом и меня.
«Как с цепи посрывались. Полнолуние просто сулит невозможное некоторым людям. Оно сулит, а я выполняю…» Коса ее и лук с черноперыми стрелами не зря простаивали место в своем углу. А я молчал, молчал, молчал… Лишь по ночам, когда она вскакивала с моей руки, заставляя что-то внутри голодать и рычать зло и тоскливо, я поднимался и подходил к ней. К столу.
…Вот бежит вдоль брошенной Ягой синей ленты букашка. А стражница несильно, но быстро постукивает ей вслед костяной иголкой. Человек в лесу, прорвавшийся по лунному лучу на Кромку, бежит по лесу, бежит вдоль реки, спасаясь, раздирая шкуру о ветви терна, от тяжелой поступи идущего за ним великана — он не видит его, но земля вздрагивает прямо за его спиной. Бег, бег, слепящий глаза ледяной пот — человек спасается.
— Пощади его, — вдруг сказал я. Мне не жалко его. Мне хочется, чтобы она уступила.
— Почему? — сурово спрашивает стражница.
— Быть может, это второй Ферзь? — Неудачный, глупый шаг. Ягая отвечает, не задумавшись:
— Второго Ферзя быть не может. Голодай, водяник! — И, прискучив постукиванием костяной иглы, втыкает ее в спину упрямой букашки, так и не взбежавшей на синюю ленту. Лишь потом я понимаю, что его и не гнали на нее — просто гнали там, где ей больше нравилось.
Нет утра. Оно не наступает. Отъевшийся, отдохнувший Харлей смотрит на меня спокойно и понимающе, как мне кажется.
…Вот еще одна козявка ползет, мигая ядовитой окраской, по зеленому платочку, неслышно выброшенному на столешницу прямо из воздуха Ягой. А она спокойно роняет палочку желтой древесины, стараясь уронить ее на козявку. Приговор она читает негромко, я не слышу его, но зато слышу дикий бурелом в Синелесье, треск валящихся деревьев, я могу понять, как робко, скованный ужасом встречи, налетевшим с ясного неба ветром, под грустным взглядом полной луны, идет по Синелесью прорвавшийся сюда дурак. Ядовитая зелень букашки — это те заклятия, что он старался на себя наложить — как потом сказала мне Ягая. И рассмеялась — негромко, искренне, качая в непритворном удивлении людской дурью гордо посаженной черноволосой головой.
— Отпусти его, — снова сказал я.
— Почему? — вновь пытает меня Ягая, роняя и роняя желтую тяжелую палочку.
— Может, он очень нужен этому Миру? Или не нужен тому? — Миг, молчание, ответ:
— Никто, ни один человек не может настолько быть нужен этому ли Миру, тому ли. Нет, — взмах черных волос, она покачала головой, отрицая мой довод. Легкий стук палочки, упавшей на спину букашки. Все.
А на третью ночь я просто протянул руку в сторону очередной букашки и негромко сказал правду:
— Отпусти его.
— Почему?
— Я так хочу.
Она наклонилась над букашкой, словно вглядываясь.
— Да, он счастливец. Пусть идет. Пока его счастья хватает на вход. Но обратно он все равно вернется, не его это мир. Так ли, иначе ли — сколько ему счастья? — И огонек, кроваво тлеющий в ее зрачках, гаснет. Зато по ее красным, словно со зла накусанным губам, пробегает хищная, азартная усмешка…
Утро пришло все-таки. Просто надо было лишь один раз не поспать ночь — и утро пришло. Утренние сумерки мы с Ягой встретили на пороге. Сидя под моим плащом.
Удивительно тихое, неуверенное в себе, стеклянное по-осеннему утро вошло, не постучавшись, на двор к стражнице.
— Мне пора. Мне пора уходить, — сказал я и примолк. Сколько раз уже в своей жизни я говорил эти слова! Теперь они выглядели как подготовка к сегодняшним. «Мне пора уходить» — и дороги открывались передо мною. — Просто пора, стражница.
— Да, ты уходишь, — сказала Ягая сразу. Не думая. Не вздыхая. — Тебе пора, бродяга.
— Наставник, вытащенный из собственного дома мрачной Совой, — невесело усмехнулся я, седлая Харлея. Ягая негромко рассмеялась.
— Хорошо сказал, Ферзь, — она мягко, по-рысьи встала и одним движением оказалась возле меня, пересекши расстояние от крыльца до временной коновязи Харлея. Сняла с плеча свой браслет со змеями и молча надела мне на левое запястье. Я не стал отказываться. Хотя сам бы, скорее всего, не попросил.
Я привязал коня и вошел в дом. Собраться.
Собраться мне довелось быстро. Ягая тенью скользила по избе, куда вошла со двора сразу после меня.
Я не жду, что она попросит остаться. Не жду. Да она и не попросит.
— Присядем, Ферзь, — говорит Ягая. Наготу ее прикрывают только волосы. На крыльцо встретить утро мы вышли с полка…
Эта кожа бела не по-снежному. Белее. Эти волосы не иссиня-черны. Чернее. Эти губы не пунцово-красны. Краснее. Алее. Ярче. Жарче. Горячее. Какая полуночная прорубь отдала блеск твоим глазам, стражница?
Я встаю и иду к дверям…
…И я выхожу из влазни на двор. Оборачиваюсь. Ягая стоит за мной, опершись тонкой, сильной рукой о притолоку. Она не бесстыдна. Но она так и не оделась. Молчим. Только тихо шепчет что-то Синелесье. Не птичьими трелями, не трескотней кузнечиков, не макушками елей. Само.
И я сам ловлю себя на том, что уже почти шагнул назад. В дом.
Рука Ягой легла на косу, и я понял: если я двинусь, только я двинусь к ней — обнять на прощание, резко, как обнимаются, расставаясь навек, — в тот же миг я буду убит. Прощание уже было — в избе. Когда просто, сильно посунулся к ней, обхватил за плечи, потерся лицом о ее черные волосы — ночь ее волос и запах полыни — она провела мне ладонью по лицу.
Все. Я ушел, не оборачиваясь, ведя Харлея в поводу, а за воротами вскочил верхом и ускакал. На восток.
…Темно-синяя листва и фиолетовые стволы деревьев в Роще Прощания. В роще перехода оттуда сюда… А теперь — и навсегда — от нас к ним… Роща, где протекает пограничный ручей Отчаяния, гоня темно-сапфировые волны, с его иссиня-черной галькой и валунами черненого серебра по его берегам. Роща, где навеки задремали бархатно-синие сумерки августовского вечера скандинавских фьордов, шотландских предгорий, славянского ельника в часы заката — да, можно отыскать сравнение, и все же — своя, неоспоримо своя темная синь плескалась между стволов деревьев и перебирала в замшевых пальцах изящной вечерней перчатки темно-синие листья… Невыносимо темно-синяя, вечно сумеречная Роща, сразу падающая на самое дно души и остающаяся там навек. Безысходно, мучительно стремясь все снова и снова возвращаться к этой роще вечных сумерек, Роще Прощания, будет плакать душа осенними ночами — во время сбора урожая и на исходе весны, в тех днях, незаметно ныряющих в лето…
А зимой Роща спит. И не видит снов, быть может.
Я неспешно пересекал Синелесье. Застоявшийся Харлей не настаивал на отдыхе, а я попросту жил в его седле. Мы не торопились, но мы и не останавливались. Поспешали, как и заведено, медленно. Понемногу учусь и я. Даже я.
…И туман провожал меня. Но на этот раз он не стоял стеной, не путал небо и землю, а просто тек по земле, доходя до конских бабок. Обычный закатный туман. На закате же я выехал из Синелесья и углубился в Лес Порубежья, через который мне надо было проехать и выйти в сторону хоженых дорог, селищ, печищ.
…Браслет Ягой начал подрагивать на руке, когда стало садиться солнце. И вскоре после того, как солнце село окончательно, меня поймала Ланон Ши.
Ланон Ши, мечта, смертная боль поэтов, музыкантов, филидов — тех, кто искренне может любить, кто обладает Силой, не будучи сидом или нежитью. Но она не желала больше ждать поклонения и добровольной смерти — она была голодна и пела для меня. И в ночи, стоя возле окаменевшего Харлея, я увидел ее — поющего охотника за чужой кровью. «Чужой», как отстраненно… Моей! Да и откуда она взялась, черт бы ее подрал?! Или для Кромки нет разницы, какие именно нежити и где бродят по ней? Ирландская Дини Ши на нашей Кромке, наша ли Ягая на их стороне… Видимо, Кромка не имеет ни границ, ни различий, просто за Кромкой люди, а на Кромке — нежити, сиды, незнати, соседи, Народ Холмов и прочие.
Битвы тут быть не могло — пение Ланон Ши, имя ее и облик ее попросту сковали мне руки и ноги. Более жертвенно я бы не выглядел и связанный по рукам и ногам. Каприз прекрасной кровососки оставил мне речь, и я сказал. Что мог сказать ей я, наставник Ферзь? Правду. Сидам лучше говорить правду. Ее сияющие глаза, острые зубы, пышное облако паутинно-светлых волос, фарфоровое лицо были уже в шаге от меня, когда я сумел-таки высказаться. Напоследок. Не от тоски, не от страха. Я сказал то, во что мне оставалось верить на последней поляне в моей жизни, под пристальным взглядом идущей, плывущей над травой гибели:
— Посуди сама. Неужели я прошел через границы, скитался по Мирам, сражался и убивал, не любил, не дышал, нашел свой дом, из-за меня гибли и погибнут еще люди — и все это только для того, чтобы насытить собой какого-то певчего упыря?!
Она остановилась на миг. Я так и не узнал, что она хотела мне сказать в этом Лесу Порубежья. Над моим плечом прогудело, лопнул твердый, загустевший янтарем от песни Ланон Ши воздух, и стрела-срезень, с острием в пядь шириной, ударила Ланон Ши прямо в переносье и словно расколола ее прекрасное фарфоровое, матово-белое лицо, лицо японской куклы, на части, как кукольное же. На кровавые осколки. Вот и все. За моей спиной никого не было. В Лесу были я, Харлей и мертвое тело убитого наповал сида. Я вскочил в седло и проехал дальше, на миг остановившись над телом убитой «прекрасной возлюбленной», не слезая с седла, выдернул из ее головы стрелу и положил ее в переметную суму. Черно-оперенную аршинную стрелу-срезень, вылетевшую из пустой чащи за моей спиной.
Я не позвал ее. Не поблагодарил вслух. Не надеялся на то, что она когда-нибудь придет еще раз, когда будет нужна. Мне просто повезло. Вот и все. Так было надо. Принял это и поехал дальше.
Меня ждало мое додзе. Мой дом. Уные. Ярослав. Дед и моя суровая собака. Мой Мир.
…Я пришел в себя. Я лежал на тропе, которая вела к торной дороге. М-де. Екарный бабай, что это вообще было-то? Что это была за махровая, беспросветная лирика? Чья?! Я ли вообще это был?! Я ли это был или это был вырванный и рассмотренный мной кусок чужой жизни? Что за перемены я чувствовал? Ушли ли они или просто затаились до времени? И не кончится ли моя жизнь на Кромке, если так уж все пошло и так я им необходим? Или все это вообще приснилось? Как бы то ни было, это был самый прекрасный сон, что я видел в жизни.
…Но браслет Ягой тяжело лежал на левом предплечье.
Глава XXX
Вопрос о том, что же это было, еще долго мучил меня. Честно признаться, такого поведения и такого взрыва эмоций я от себя не ожидал. Словно я врезался в чужую жизнь, примерил чужую роль, с непривычным действием и репликами. Но, если уж говорить правду, жалеть было не о чем, а стыдиться нечего.
Придя в себя на тропе, я оседлал непривычно терпеливого Харлея и, забыв даже и закурить, поехал домой.
Да не себе же врать! Несмотря на все свое искреннее служение Ярославу, я несколько раз был готов к тому, чтобы повернуть коня и ускакать обратно, на Кромку. Как? Не знаю! Разве что вывернуть наизнанку колдуна. И что-то подсказывало мне, что в этом действе очень большую помощь мог бы оказать подарок стражницы. В общем, как и со всем в этом мире — было бы желание.
Желание было… Ехал я нарочито неспешно, прячась от самого себя, словно бы боясь, что меня не успеют догнать, если захотят, а я уеду себе в Ростов и за мной навеки захлопнется дверь. Дверь на Кромку. Быстро же наглеет человек — недавно я был вне себя от счастья, что живу при дворе Ярослава Хромого, теперь же мне было мало этого, Кромку мне подавай! Мерзкие мы все же твари — люди.
Потом я понял, что если меня захотят догнать, то сделают это в лучшем виде, хоть здесь, хоть в Ростове. По крайней мере для Совы не проблемой оказались сотни верст и тысяча лет, о чем тут еще говорить…
До города я добрался без приключений, хотя и затратил времени на дорогу куда больше, чем на путь к колдуну. Разленился ты, Ферзь, а точнее — разнежился у стражницы. Работать тебе, видать, лень. А может, и служить уже невмоготу? Нет, такого вроде бы я за собой не заметил. Недаром же мое додзе так властно манило меня к себе даже от Ягой.
В общем, я пришел к выводу, что все это мне не снилось, а было на самом деле. Имело, так скажем, место быть. По меньшей мере в пользу этого говорил тяжелый золотой браслет. Не колдун же меня опоил, а потом расщедрился на такой подарок, чтобы придать всему этому достоверность? Нет, конечно. Такой браслет стоит куда дороже, чем вся его изба со всем содержимым. Значит, был на Кромке, был у Ягой, правда, так и не выяснил, для чего же она приказала Сове выдернуть меня из двадцать первого века. Но этот вопрос, видимо, из разряда тех, на которые нет ответов. На том я и утешился. Хотя, конечно, мне очень льстила мысль, что, может статься, я — единственный, кто подходил стражнице Кромки, потому меня и переправили сюда, к Ярославу? Может быть, конечно. Еще один вопрос без ответа. Да и ладно. А если браслет все же подсунул мне колдун, опоив предварительно? Куда ему золото копить, да и наверняка у него и золота до черта, да и относится он к нему не так, как обычные люди. Так что вариант с шуткой колдуна со счетов сбрасывать не стоит. Но в это отчаянно не хочется верить…
Двор мой встретил меня многоголосым гулом, который я заслышал еще до того, как открыл ворота, в котором, как бубенчик, порой прорезался голос чиновника для особо мелких поручений. Я несколько удивился — что за столпотворение у меня дома в мое отсутствие? Я открыл калитку и замер — на дворе у меня оказались все мои уные, которые голосили, как на торгу. Чего они тут делают? Им же должны были передать, что занятий некоторое время не будет? Я шагнул на двор, ведя Харлея в поводу, и кто-то крикнул: «Наставник Ферзь!» — и наступила гробовая тишина. Уные молча смотрели на меня, и я не понимал, что было в их глазах. Ожидание? Обида? Радость? Все вместе?
— Для начала — всем доброго дня, — начал я.
— Здравствуй, наставник! — загомонили уные радостно.
— И теперь один-единственный вопрос — что вы все тут делаете? — осведомился я с некоторой толикой раздражения, мне хотелось побыть одному со своими мыслями. Уные молчали. — Хорошо, еще спрошу — разве вам не передали ждать моего вызова у Ярослава на дворе?
— Передали, наставник, все передали, но тебя не было чуть ли не целую седмицу, — заговорил Ратмир, пряча глаза, — мы стали волноваться за тебя, — последнее он произнес чуть слышно, но остальные уные закивали.
— Приятно, конечно, что вы волновались, но почему у меня дома? — Я говорил сухо и резко, но в душе что-то сладко пело. Меня ждали! Меня искали, волновались за меня! Не знаю, почему, но это очень растрогало меня.
— Ну, мы сначала ждали, как велено, а потом терпежу не стало и пошли сюда, в додзе. Думали, может, что Поспел знает. Может, ты что-то велел передать, наставник. Думали уже к колдуну ехать, поспрошать, куда наставник наш пропал, — это говорил уже не Ратмир, а другой уный, Семен, парень резкий и жесткий. Такой мог бы и в самом деле у колдуна спросить, где бесценный наставник.
— Ладно, ладно. Все понял. Сегодня занятия не будет, а вот завтра жду вас тут, как всегда, в полдень. Можете идти.
Уные поклонились мне, я ответил коротким поклоном, и скоро двор опустел. На ступеньках крыльца остался лишь Поспелка.
— Наставник, я их гнал со двора, а Граф так даже и кусался, пока его в доме не заперли. Они меня не слушались! — крикнул он в отчаянии, видимо думая, что я стану ругаться. А ведь точно — я же его оставил тут за старшего, а тут нате вам — полон двор народу! Странно все это для меня, необычно и ново — люди привыкают ко мне, даже привязываются, волнуются…
— Ты, Поспел, все верно сделал, вины твоей ни в чем нет. А что не послушались они тебя, не расстраивайся. Собирай на стол, сейчас станем обедать. А я пока Харлея поставлю, — я повел коня в конюшню, а Поспелка метнулся в дом.
Конюшня была вычищена, вычищена была и Хонда, поприветствовавшая нас с Харлеем радостным ржанием.
— Спасибо за уход, Дворовый, — сказал я, не ожидая ответа.
— Как же — «Дворовый»! — возмущенно отвечал нежить. — Я тут и повернуться боялся, твой малец целыми днями по двору бегал, то конюшню чистил, то кобылу, то двор мел, то додзе твое! Я уж думал, что Хонда заговорит, так он каждый день возле нее крутился! То чистит, то гладит, то гриву чешет! Так скоро я тебе и не нужен стану! — Но недовольство Дворового показалось мне нарочитым, да так оно и было, как мне кажется.
— Ты не можешь стать ненужным, Дворовый, — негромко сказал я, — а на мальца не серчай, он мои приказы исполнял. Правда, на свой лад.
Дворовый лишь тяжко вздохнул, но ответить не пожелал, на том наша беседа и кончилась.
Тут дверь избы распахнулась со страшным грохотом, и на двор вылетел Граф. Подвывая, он кинулся к конюшне и теперь бросался на меня, виляя хвостом и крутя задом, как обыкновенная дворняжка. Он одновременно и лизался, и кусался, а со всем тем еще и завывал, как выпь на болоте, в финале упал на спину, и мне пришлось почесать ему пузо. После чего он, наконец, пришел в себя и снова стал суровой, нелюдимой собакой, которая и последовала за мной к избе, как пришитая.
В доме меня ждал новый сюрприз — за столом вместе, как сроду так привыкли, сидели Дед и Поспелка.
— Здрав будь, Ферзь, — усмехнулся Дед.
— И тебе, Дед, поздорову, — отвечал я растерянно, — что, уже познакомились?
— Да я думал по первам припугнуть мальца, ан не берет его страх. Я уж и так и сяк — нет, да и только. И днюет, и ночует, так и отстал я от него! — с удивлением в голосе рассказывал мне Дед, но я видел, что в его бороде прячется улыбка. Поспел же этого не видел и теперь имел глубокий, чистый помидорный цвет.
— Поспел — сын воина, так что, Дед, дивиться тут нечему, — отвечал я как можно серьезнее. Дед мгновенно понял мой посыл и притворно заохал:
— Вот оно что! А я-то, старый дурак, все гадал, что ж не так идет, другому бы уже седым стать впору, а этому все трын-трава…
Но тут Поспелка поднял голову:
— Да страшно было, страшно! А по ночам особенно! Но я же пообещал присмотреть за домом, вот и оставался тут. Но я боялся, наставник! — и со стыдом посмотрел на меня, видимо ожидая, что я его тотчас же и выгоню с позором.
— Услышать и убежать — не позор. Увидеть и убежать — вот настоящий позор, — трансформировал я выдержку из бусидо на славянский лад. — Ты же и слышал, да не побежал, да и увидел, не побежал. Так что ты молодец, Поспелка.
На том дебаты на тему достойного и недостойного поведения были завершены, и мы, наконец, приступили к обеду.
После еды я достал было сигарету, но вдруг понял, что курить мне попросту не хочется. Обычно я всегда брал себя в руки и все же закуривал, но тут я повел себя трусливо, малодушно поддался нежеланию и курить не стал. Вот до чего доводит общение с колдунами и нежитью! Кстати, о колдунах. Даже на Кромке я принимал снадобья, и с каждым днем комок в груди будто бы начинал понемногу разжиматься. Я старался не думать про это, боялся сглазить. Но дышать и впрямь становилось легче.
Пока я размышлял о своем моральном падении и думал, что все же покурить-то, хоть и не хочется, а надо, в ворота резко застучали. Граф ответил басовитым «Гав!», я же крикнул: «Заходи, открыто!» Во двор вошел молодой парень и, поклонившись, сказал:
— Здрав будь, наставник Ферзь! Ратьша-тысяцкий велел тебе сказать, чтобы ты немедленно к нему шел, ежели не болен! К нему в дом, не в княжий терем, — уточнил паренек, прежде чем я спросил.
Комментарии тут были бы излишни, я кивнул посыльному и немедленно, как и было велено, пошел на конюшню и оседлал Хонду, решив дать Харлею выходной, а заодно и Хонду хоть немного выездить. До дома Ратьши я добрался быстро, без приключений, разве что на баб не смотрел, как обычно. Не хотелось, черт его знает почему. Старею, что ли? Но тут взгляд поневоле упал на браслет. Нет, не старею. Скорее, понемногу в ум вхожу.
Перед воротами тысяцкого я спешился и громко постучал в воротину. Сбоку открылась калитка, выглянул лохматый мужик, с профессиональным подозрением покосился на меня, кивнул и оттянул одну воротину. Я степенно прошествовал в дом и, привязав Хонду у коновязи, смиренно встал у крыльца. Как-никак, не к соседу в гости пожаловал. Да и собаки Ратьши, подошедшие меня понюхать, к вольности поведения не располагали. В открытом окне появился Ратьша и ворчливо спросил: