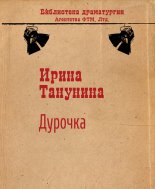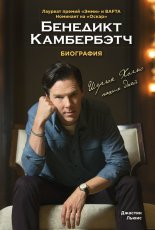Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
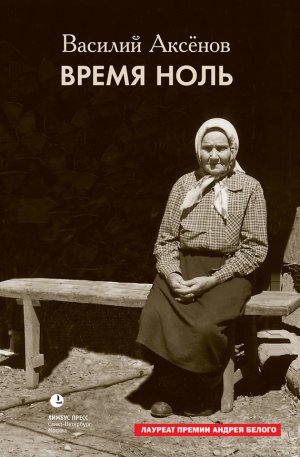
Спустился я вниз. Пошёл в туалет. После: опять на час-другой там задержался, в гарнизоне.
Подсел, к себе возвращаясь, за столик к Мурене, поговорить с ним остро почему-то захотелось. Говорю, говорю. А тот, Мурена, только улыбается. Ну, думаю. Смеются друзья мои по гарнизону. И говорят:
– Да он глухонемой… Мы от Иркутска вместе едем.
Пошёл я себе дальше. Ну, думаю.
Прихожу. Сажусь на краешек полки. Слушаю:
– А если дурачком окажется монарх, или злодеем? – спрашивает Ваза На Тумбочке.
Попала ей под хвост шлея, думаю.
– Промысел Божий – значит, – отвечает ей пожилая женщина. – Это нам, гражданам нашей страны, зачем-то нужно, значит. Это глубинно, не так просто… мистично.
– Значит, тогда, по вашей логике, и демократия нужна зачем-то, – говорит Ваза На Тумбочке. Как победительница, улыбается.
– Может быть, – говорит пожилая женщина. – Но это скучно. Служить серой, хваткой массе, облепившей все доходные места в государстве. Другое дело – Тому, на самом деле, как сказал Олег, что или Кто тебя выше.
– Весь мир живёт уже при демократии… цивилизованный. А мы… как дикие.
– Не весь. И мы не дикие… И что значит цивилизованный? – говорит пожилая женщина. – Культура – душа, а цивилизация – метод. Культура неповторима, а цивилизацию вон шлёпай да шлёпай, перенимай, тиражируй и пользуйся… А демократия – то, что выше её содержателей и акционеров, подстригается, а то, что ниже, поощряется, с жалкой попыткой это приподнять. Но подстричь первое для демократии желательнее, чем приподнять второе. Высокое по духу – достояние аристократии. И это вечное заигрывание с народной волей, это духовное холопство. Демократия в аду, говорил святитель Иоанн Кронштадтский, Царство на небе. Нам – или Монархия, или уж Диктатура: власть милостью Божией или власть Божиим попущением.
– Ну, я не знаю, – говорит Ваза На Тумбочке.
Добропорядочный муж её плечами только пожимает: мол, ну о чём и с кем тут толковать.
– А если воля эта зла вдруг пожелает? – говорит пожилая женщина. – Распни, распни-то… Уже было.
Хорошо, думаю, что я ей место уступил – не забываю.
– Да, наш народ ещё, конечно, не дозрел… Ему диктатор ещё нужен, – говорит Ваза На Тумбочке.
– Кто вам сказал? – спрашивает пожилая женщина.
– Везде же пишут… Да и так ведь видно. Дикий. Завистливый, – говорит Ваза На Тумбочке. – Сдохла корова у меня, пусть и у соседа тоже сдохнет… Или увидел у соседа – пусть бы сдохла.
– Привыкли к бесправию и жестокости, к рабству и деспотизму.
Господи, да это ж он сказал, безмолвный подкаблучник. Смотри, задело за живое.
– Ну почему же, – говорит пожилая женщина, в отличие от меня, не малодушествует. – Я знаю много таких людей, которые только пожалеют, мало того, ещё и денег соберут, чтобы купить пострадавшему новую корову. Наоборот, других, как раз вот меньше мне встречалось… Это, наверное, что хочешь увидеть, то тебе и покажут… исполнитель-то – угодник… Да и России есть чем погордиться, в лучшем смысле. Было.
– Салтычихой? – это уж Эдик разошёлся.
– Своим судом, например, финансами, рабочим законодательством, не говорю уже – Святыми.
– Ну, это уже церковь.
– А церковь что, чужие сохраняли, иноземцы, не все же поклонились… И церковь… И наш народ, конечно, всякое случалось, но не таскал всё же на пиках половые органы принцессы, как было в разлюбезной Франции, храмы отстаивал, священников… К тому же, если уж вам так слово это нравится, – говорит пожилая женщина, – юридическая Россия имела самый демократический в мире уклад… И негодны-то мы, может, и негодны, но только мы и не надеемся на свою годность, а уповаем на милосердие Божие. И забывают почему-то, что Салтычиху осудили и срок тюремный, кажется, назначили ей, так вот.
И я не вытерпел, вступаю в разговор:
– Демократия ваша – это когда правит кухарка, а заправляет всем кто-то невидимый, кто не несёт ни за что никакой ответственности, а всё сваливает на кухарку, и творит втихаря своё корыстное или гнусное дело. Монархия, – говорю, – лучше, чем демократия, обеспечивает условия для развития культуры и национальной безопасности. Демократия – это не власть народа, к вашему сведению, а прелюбодеяние народа с властью. Не помню, кто это сказал, но прямо в точку. Я не людоед, но мне не нравится американский образ жизни. Пусть живут, как хотят или могут. Но зачем навязывать это другим с бомбой в руках?! И демократы, а не монархисты, казнили Сократа!
– А чем мы лучше или хуже других?.. Надо просто брать у цивилизованных народов оправдавшую форму правления и устанавливать её у нас, – говорит Ваза На Тумбочке – спихнуть бы, думаю, чтобы разбилась. И:
– Нет, – взрываюсь. – Мы не лучше и не хуже. Мы – другие. У нас другая территория, другой климат, у нас другая история – поэтому нам нельзя брать чужую форму, а надо восстанавливать свою. И при демократии, как говорил Лев Тихомиров, послуживший в своё время делу революции, толпа всегда выберет Варавву и разбойников, а Христа отправит на распятие. И почему мы должны черпать идеи у господина Бзежинского и иже с ним, а не у Менделеева, к примеру, Столыпина и Чаянова. Русский человек падок почему-то на всё заграничное, и чурается своего русского, – выпалил это, поднялся и пошёл в сторону гарнизона – как будто час настал – отправился на службу.
Пришёл, наверное. Пришёл, конечно. Нигде не загостился. Как бы где ни засиделся, всегда домой возвращаюсь – в моём характере, – пусть уж к утру, но доберусь.
Проснулся утром. У себя. Ое-ёй, – лежу, думаю. Мысль тяжелая – вдоль всего тела протянулась – как кабель свинцовый – от головы до пяток; полка, боюсь, бы не обрушилась.
Всё по-прежнему. Никто новый в вагон не вошёл, никто из него не вышел. Тут, у нас, по крайней мере, в нашем околотке; как там, в другом конце, не знаю, там как чужая сторона; в лицо всех уже, конечно, знаешь, но на брудершафт с ними, как говорится, не пьёшь.
Будто сроднились все – общаются, как родственники; угощаются и угощают; рецептами кулинарными и лечебными делятся.
Васенька общим стал ребёнком. Белобрысый, хитроглазый. Всех маток сосёт. И ладно. Смешливый. Захохочет – горох по вагону будто посыпется. Зуб передний мышка уташшыла, и за другим скоро придёт – тот уж шататса. Говорит с посвистом – как несмазанный подшипник.
Бабушку его все уже зовут по имени и отчеству: Матрёна Тимофеевна, Матрёна Тимофеевна. Васенька только: ба-а Мотя. Наша, сибирская. С Саян. Старообрядка. В теле. Дородная. Бела, высока – красива. Ей борода моя по нраву – вчера ещё выяснил – про троеперстие рассказывал ей что-то, на что она мне отвечала: тремя перстами соль в шшапотку брать да шти ею-де солить. Редко когда за это мне не достаётся – за бороду. Ну, то ли дело, дескать, не скоблёный, и посмотреть, мол, не противно. А мне и мило.
Мурена – тот оброс уже, как кактус; щетина редкая – как иглы на морском еже. Не пойдёт и не побреется. Не вижу, когда он ложится и когда встаёт, не вижу тоже. И в туалет чтобы ходил, я не заметил. Будто прибили его к месту. Доедем, отдирать надо будет. Сидит, всё время улыбается. Хороший.
Слышу:
– Многие из родовитого русского барства: князья Голицины, Гагарины, – говорит пожилая женщина. – Нарышкины… И Пушкин по касательной прошёл: ноготь длинный отрастил себе на пальце… Бог гения миловал. Но похоронен был он всё же с перчаткой, как брат. И в это же ведь время жил Серафим Саровский… Захват власти, реформация церкви на протестанский лад и устроить жизнь как у немца… Ох, ох бедная! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступов и обычаев, сокрушался когда-то ещё протопоп Аввакум… Безмолвное повиновение царям и гражданским властям, от них учреждённым, любовь к ближнему, трезвая жизнь и удаление от разврата и соблазна – так всё это можно же делать и в лоне Православной церкви, зачем для этого вступать в тайное общество?.. Общечеловеческие ценности, в которых нет места Православию и патриотизму – что это такое?.. Рыцари-филалеты – друзья истины – какой вот только, мартинисты, иллюминаты, каббалисты-розенкрейцеры, особо не афишировавшие своей деятельности, спириты, теософы, антропософы, толстовцы… бесы в ступе…
– Что, и Толстой?
– По крайней мере, в каком-то из своих писем, не помню сейчас к кому, он признавался: что, сам он того не зная, был и есть масон по своим убеждениям, и с детства питал глубокое уважение к этой организации, полагая, что масонство сделало много добра человечеству. Это декабристы-то, Временное правительство?.. Как посмотреть… Достоевский так никогда бы не высказался. На самом деле цель всех этих деятелей – разрушение национального самосознания народа, удар против государственности, национальных основ и Православия… Софианцы, если к ним ещё присовокупить толпу рот открывших простаков, кокаинистов, Анну Шмидт, Незнакомку, Маргариту Кирилловну – тварные воплощения и не подозревающей об этих воплощениях Святой Софии, это додуматься же надо… то получается притон и дурдом вместе взятые – логовища мысли с браком трёх, любителей ночных фиалок и Дионисова действия – вся эта помойка – чего же ждать-то ещё было?! Только того, что настучит Господь по голове нам. Настучал – семьдесят лет ходили очумелыми, теперь ещё не отошли.
– Государство должно защищаться от таких любителей играть в тайны и придурков полоумных, которые доигрываются до кошмаров. А после, – говорю я с полки, не слезая, – гад гада пожрёт. Добрые люди предостерегали и увещевали, тот же Достоевский, нет же, продолжали бесноваться. Это понятно. Это как стоять на полянке и дуть на надвигающую грозовую тучу. Всему тому должно было случиться. И император это понимал, так мне кажется… Влюблённые в себя и в свой пафос либералы всех мастей, от благодушных до язвительных и шибко суетливых, сидя на палубе в шезлонгах, покуривая сигары и покачиваясь в такт своей болтовне, начинают раскачивать корабль, а потом из трюма вырываются разбуженные качкой политические отморозки и довершают дело либералов, сбрасывая с палубы прежде всего их, этих самых попустителей и вольнодумцев. Мне ближе по душе люди, которые страдают от затей этих умников, а после ещё и разгребают результат их умствований…
Уж вы вейте верёвки на барские головки; вы готовьте ножей на сиятельных князей; и на место фонарей поразвешивать царей, тогда будет тепло, и умно, и светло. Слава!.. Подгуляла я, нужды нет, друзья, это с радости. Я свободы дочь, со престола прочь императоров… Я, порядка оборона, всюду озарю светом факелов Нерона Конституции зарю…
– Братки-франкмасоны от русского барства и прогрессивной интеллигенции, – говорит пожилая женщина, – рукоплескали каждому политическому убийству – шелестели, как тараканы на полатях.
Лежу, думаю: ое-ёй. И думаю:
Когда-то, был я тогда ещё молодой и ещё более глупый, чем сейчас, получив литературную премию Андрея Белого – капитана коробля «Арго», тогда неофициальную, сразу от неё не отказался, хотя неловкость какую-то от этого и испытывал – интуитивно. А теперь не знаю, что и делать. На подобные акции – публично отказаться – я, конечно, не способен, это уж надо так маленько мне, чтобы и море стало по колено… Но готов повторить за Николаем Степановичем Гумилёвым: «Я традиционалист, монархист, империалист и панславист. У меня русский характер, каким его сформировало Православие». И формула моих убеждений: «Славянское ощущение равенства всех людей и византийское сознание иерархичности при мысли о Боге». При чём же тут Андрей-то Белый – ведущий символист, поклонник Штейнера?
Вот ты кличешь: «Где сестра Россия, где она, любимая всегда?» Посмотри наверх: в созвездьи Змия загорелась новая звезда.
Спустился я вниз. Сходил помыться. Задержался после у братушек-солдатушек – не они ведь расстреляли Гумилёва. Побыл у них. Вернулся. Слышу:
– Какой у вас знак? – спрашивает жена Эдика.
– Что вы имеете в виду? – переспрашивает пожилая женщина.
– По гороскопу.
– А-а. Я не знаю.
– И напрасно.
– Давид идёт в пустыню, молиться Богу, а Саул – к волшебнице. Каждому своё, – говорит пожилая женщина.
Сижу. Молчу. Вспоминаю вдруг, как – а было это в какой-то из девяностых, самых, пожалуй, откровенно махрово-мракобесных годов на одной шестой части суши – после астрологического, прозвучавшего по телевизору, по первому каналу, никакой другой в Ялани не показыват и не показывал, прогноза, в котором гладко выбритый пророк-астролог, отвечая на вопрос звонивших ему в прямом эфире досужих и любознательных зрителей-слушателей, что с ними может в этот день, в который это всё вещалось, произойти, чего нужно им бояться или ожидать с радостью, накаркал, что можно, например, но лишь до двух часов дня, стукнуть молотком себе по пальцу, а после можно не страшиться этого. Пошёл я, по просьбе мамы – отпуск, как нынче, проводил тогда в Ялани – поправлять калитку в огородчик, и про прогноз совсем забыл, стал гвоздь вколачивать и саданул себя по пальцу, после чего и молоток бросил и завыл, как зверь, от боли, но взглянул тут же на часы – показывали они мне без трёх минут два.
И тут, тьпу-тьпу, чего бы не услышать – на что бы доброе, то ж на худое закодируют. Поднялся я. Пошёл – тропа уже натоптана.
На боковом месте в гарнизоне сидит, вижу, струльдбруг. Меня будто ждёт, или – смерть. Не я её посланник, слава Богу. В нижнем фланелевом белье – в вылинявших голубых кальсонах и в заправленной в них бледно-розовой рубахе, ещё шнурком коричневым перепоясанный. В кроссовках, ему великоватых, явно. Щуплый. Как шкет. Сильно подвяленный – как вобла. Жилы на жёлтой, тонкой и пупырчатой, как у обшипанного гуся, шее – словно тросы – будто не голову поддерживают прямо, а Останкинскую башню. Кадык большой, но разглядеть его непросто – замаскированный седыми волосами – как орудие. Ну, думаю. Подсел я к нему, к такому необыкновенному, пытаюсь с ним поговорить – о вечном, может, о любви ли. А тот меня как будто и не слышит. Сидит с открытым настежь ртом – с пустыми дёснами – зубы, чтобы не потерять, зря где попало не таскает – опытный; сидит, не моргает, глаза блеклые – как чистый кипяток, пальцами хочется ему их подпереть – чтобы не выпали; белки у глаз пенистые – уже вскипели по краям-то; челюсть трясётся мелко-мелко – будто она одна ещё живая. Вышел из туалета мрачный поводырь струльдбруга и увёл от меня несостоявшегося собеседника.
Солдаты в карты перекидываются, в подкидного. Я возбуждён – мне не до карт – если бы в пьяницу, сыграл бы. Пиво пьют. С солёными сухариками. Я не мешаю.
– Старше Будённого и Ворошилова, – говорят солдаты. – Он с нами едет от Иркутска. Ещё ЧеКа организовывал в Бурятии… Внук нам рассказывал, который его водит.
Ну, думаю. Мало того, и: ое-ёй! – вдобавок ещё думаю.
Вернулся в свою плацкарту. Слышу:
– Когда Ив Монтан приезжал в Россию, – говорит Ваза На Тумбочке, – если не путаю, на фестиваль… накупил в московских магазинах несколько чемоданов женского белья и сделал, вернувшись в Париж, выставку. Вы представляете, там панталонищи. Как остроумно. Жерар Филипп, по-моему, подал идею. И Жан Марэ… А жёны наших доблестных офицеров в захваченной Германии ходили по театрам в комбинациях и пеньюарах. Вы представляете, позорище.
– Ну, не знаю, – говорит пожилая женщина. – Что уж тут ужасного такого?.. Ну и ходили – жёны победителей могли себе позволить… Жёны-то… Разве полковые?.. Выпила лишнего какая-нибудь да и нарядилась, мало ли… На анекдот похоже больше. После войны тогда, когда фестиваль был, прошло всего ещё только десять-двенадцать лет. Когда милые и изящные француженки подстелились под немцев, не все, конечно, с оговоркой, эти самые, грудастые и жопастые, русские бабы, у них у многих, кстати, и белья-то нижнего, пожалуй, не имелось – на бинты весь израсходовали да на пелёнки, делали всё, что в конце концов освободило ту же самую Прекрасную Францию. Сам континент не делит себя на Азию и Европу, конечно. Бог его сотворил единым. И европейцы, которые очень хотят себя отделить от диких русских, должны быть довольны, что огромную часть Азии заселили русские, продвинув племя европейское за Урал, а не заселили эту часть, богатую ресурсами, японцы или китайцы. Если бы случилось так, то результаты Второй мировой войны оказались бы иными, и где бы сейчас была эта Европа?.. И остроумный ваш Жерар Филипп?.. И Ив Монтан. И прочие с чемоданами русского нижнего белья… эстэты. Трудились бы сломя голову, играли бы на подмостках Парижского провинциального театра в Третьем рейхе, исполняя роли положительных эсэсовцев из пьес, написанных отставными ветеранами из Вермахта, партайгеноссе. Представить можно. Всё под Богом… А эта выходка – с нижним бельём – хамство, по меньшей мере. А офицеры наши и были в большинстве своём, кстати, доблестными – не захватили, а освободили.
– Французы и немцы от мира сего, – говорю я. – А мы, русские, нет.
Ушёл. Пришёл. Слышу:
– Уж сам интеллигент из интеллигентов, Антон Павлович Чехов, говорил, что не верит в интеллигенцию, лицемерную, по его словам, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верит даже, когда она страдает и жалуется, потому что её притеснители и гонители выходят из её же рядов. Наши интеллигенты, если и приходят в Церковь, то воображая, что они, умники, честь оказывают Богу, писал архиепископ Никон… Это же от душевной пустоты. Но в семнадцатом году, к сожалению, интеллигенция, эта голова, оторванная от туловища, победила Монархию и Церковь… и Народ.
– А Михалков интеллигент? – спрашивает Ваза На Тумбочке.
Ну что, думаю, прицепилась она к Михалкову. Кто он ей, и кто она ему? Спихнуть бы её, точно, пусть на осколки бы рассыпалась, а тумбочку – перевернуть – так, террорист, в себе я разъярился. Эдик и в драку, защищая, не полезет.
– Если считать только по законченному высшему образованию, как это принято у нас, то да. А вообще – аристократ, который служит своей родине своим творчеством… мало того – и как мужчина… парней и девок народил вон.
– Русская интеллигенция, – вставил я, – десятилетиями копила взрывчатые вещества, о чём говорил человек, хорошо её знавший, и играла кубиками пироксилиновых шашек. Случайная искра взорвала всё… Ей, интеллигенции, да и всему народу, в 1905 году был преподнесён урок. Не поняли. Разбесновались ещё больше, хлопая в ладошки и поощряюще улюлюкая террористам-революционерам, гадая, кто будет следующей их жертвой… понося при этом почём зря нормальных граждан, патриотов… Того же Победоносцева – и очернили уж – до сих пор не отмыть. Только Радзинского послушай… певец-историк.
– Да, – говорит пожилая женщина. – У меня была бабушка. Белошвейка. Жила в тогдашнем Петербурге. Влюбилась в человека, который приходил и делал ей заказы. Грамоты не знала. Так вот, у каждого заказчика она спрашивала, как пишется нужное ей слово, тот на листочке ей его написывал, и, в конце концов, вышила на платке признание в любви, заключив это словами: если вы не можете ответить на моё чувство, верните мне платок, сказав мне, что я его обронила. Что это, интеллигентность, или нет?.. Так что тут не всё так просто. А была она из архангельских крестьян. В крестьянстве, как и в казачестве, было много людей, про которых можно сказать: интеллигентный – но вернее-то: аристократ. Остальное всё – посредственность или ущербность.
– Так а там дальше-то? – спрашивает Ваза На Тумбочке.
– Что дальше?
– Тот заказчик?
– Стал моим дедушкой… Заказчик. Строил мосты по всей России. В двадцать первом расстреляли.
– Да?.. А у Эдика бабушка была дворянкой… В Польше.
Ушёл я. Пришёл. Слышу:
– Рабское сознание русского народа – утверждение это исходит от людей с рабским сознанием, – говорит пожилая женщина.
– Ну почему же. Это ж очевидно.
Ушёл я. Тут поотсутствовал, а в гарнизоне поприсутствовал. Вернулся. Слышу:
– Реинкарнация – это да, а воскресение – это смешно, – говорит Эдик, дворянский, мать честная, отпрыск, только что выдернув нос из газеты.
– Ну, если нет воскресения, то радость только в одном – есть и пить, – говорит пожилая женщина.
– Не только в этом… Хорошая работа, заработок и красивый отдых, – говорит Эдик.
– Понятно.
– А почему воскреснем обязательно? – спрашивает Ваза На Тумбочке. – Не перейдём в другое тело? Это ж понятней и логичней…
– Или в камень, а то и в помёт… А потому что умрём, – отвечает ей пожилая женщина. – И терпение, это к тому нашему разговору, совсем не есть пассивная слабость или тупая покорность, как думают иные люди; напротив – оно есть напряжённая активность духа, по Ильину. Был у нас такой философ. Дворянин, кстати. Русский. Аристократ. Терпение есть поистине лествща совершенства… Сила наша в Православии, и утрачивая его, мы становимся презреннейшими из людей, ничтожнее всех ничтожностей Европы, говорил упомянутый тут молодым человеком Лев Тихомиров. Каждый, кого видишь православным, говорил он, мужик или купец, священник или наш брат, образованный, – несокрушимый перед всеми Европами. Но как только теряет веру – непременно оказывается ничтожнейшим, всемирным холуем.
– Ой, вы, – говорит Ваза На Тумбочке, – не наблюдали наших за границей. Быдло же быдлом. Мы с Эдиком в таком случае всегда переходим на другую сторону улицы. Так за них стыдно.
– Не наблюдала, не была там, – говорит пожилая женщина. – Стыдиться надо за себя, а за других нечего.
– А за себя-то что стыдиться?.. Мы там ведём себя корректно. И по-английски оба говорим.
Пересел я. С бабушкой потолковал задушевно: соседка – там, в её таёжной саянской деревне, – отдала ей петуха, принесла его домой Матрёна Тимофеевна, в курятник посадила; а он такой – и носится, и кукарекат; рассказала соседке, забрала та петуха обратно – такой петух-то и самой мне, дескать, нужен – яички к Светлому Воскресению пригодятся, мол. А я ей, Матрёне Тимофеевне, про комаров и про деологов; ну и ещё – нет, не кержак, мол, а – никонианец; молись больше, кайся, милый, Осподь, быть может, и помилует – Матрёна Тимофеевна мне напоследок. Пообещал ей – буду, мол, молиться, а каяться, дескать, по этому поводу – вряд ли.
Пошёл я, отыскал, по её, Матрёны Тимофеевны, просьбе, в вагоне, в чужом его конце, Васеньку – её ходули худо ходют, так-то пошла бы, разыскала, и ухи бы засранцу надрала, мол, – а он устроился там среди девок ладно, смешит их своими рассказами про баушку Мотю, про дедушку Порфирия и про сибирскую деревню, – отнял, привёл его к Матрёне Тимофеевне. Ругает та его – волком римским и никонианцем – при мне прямо. Ладно, думаю.
Странность какая-то со временем: то вдруг отстанет от меня оно, а то обгонит; ни там, ни там порой, гляну, его не замечаю; то вдруг в окошко постучит мне – на стук-то тут же обернусь. Ну, думаю.
Лёг спать. Лежу. Помню, что думаю:
Господи, если в Твоём Замысле – извести с лица земли Россию и заселить её китайцами или другим каким народом, экономистами и физиками, а я буду этому отчаянно противиться, Ты не сочтёшь это за богоборчество?.. Насели их, Господи, в другом месте, а меня и Родину мою помилуй… И дядю Колю Нестерова вижу. Идёт он. Рука на фронте исковеркана – околеват, мёрзнет то есть, так и не диво – утренник ядрёный; изо рта у него, у дяди Коли, – отпыхиватса; засунул её, руку калеченную, под полу ватника – отогревам; корову, говорит, хожу-ищу; третью ночь домой не заявлятса; отелилась, и ночевать, поди, осталась в ельнике с приплодом; хромат дядя Коля – на фронте ногу ему изуродовало. Ну, думаю. И говорит мне:
– Молодой человек. Олег. Вставайте.
– О… О-оо! – говорю я.
Веки разорвал. Глаза открыл. Смотрю:
Доронина.
Ну, думаю.
– Вас проводник уже будил… А туалет уже закрытый… Жалко.
Слетел я с полки. Как десантник. Сел на нижнюю. Сижу. С краюшку – примостился.
– Бельё-то сдайте.
Встал я, собрал бельё постельное в кучу, унёс его. Отдал проводнику.
Вернулся.
Вчера с солдатами – я про маленько – да и больной ещё, социофобией, и непричёсанный – чувствую себя газетой, Эдиком прочитанной и скомканной. И что тут сделаешь. Сижу. Вижу:
Матрёна Тимофеевна в зимнем пальто с лисьим воротником и в тёплой, оренбургской, шали. Вовсе теперь большая – как стог сена. На ногах войлочные сапоги. Вокруг неё – гора разных сумок и чябодан с дерявенским харчем для голодаюшшых питерцев. Васенька – в кроличьей дохе и в шапке. В руках у него – клюшка хоккейная. Сидеть ему мешает рюкзачок – дедушка, наверное, сшил – из толстого брезента. И резко веет нафталином.
Ну, думаю.
Муж и жена по брачному контракту – в коже.
Зубной пастой шибко пахнет, жевательными резинками.
– Там же тепло, – говорит жена Эдика. – Жарко будет.
– Жар костей не ломит, – говорит тётя Мотя. – Лучше жарко, чем холодно.
Вижу, что гарнизон пустой, осмелился – и спрашиваю:
– А где ребята?
– Сразу после Москвы сошли, – говорит пожилая женщина, похожая на Доронину. Улыбается. – Ещё ночью. Вам вот оставили.
Смотрю: бутылка пластиковая на столе, два литра – пиво. Нет, думаю.
Мурена встал, вижу. Стоит в проходе. И кто же отодрал его от места? Солдаты, думаю, когда выходили. И гвозди где остались – в скамейке или?.. Совсем оброс – стоит – как ёлка. И улыбается – хороший.
– «Навалочная», – говорит пожилая женщина.
– А нам ещё, – говорит туго и хрустко обтянутая кожей Ваза, – ждать Петербург – Варшаву… Должны встречать – перевезут… Эдик, ты всё проверил?
Кивнул Эдик носом – стряхнул с него клочок газеты.
Остановился поезд.
Все засуетились.
– Спасибо, – говорит пожилая женщина. – А то бы мне наверх тут не полазить.
– Не за что, – говорю.
– Всего хорошего. Ангела-хранителя.
– И вам – с Богом.
Место освободилось. Достал я из-под лавки рюкзак. Пошёл было. За мной – никого. Вернулся. Засунул бутылку пива в рюкзак. Пошёл. Ну, думаю.
Вышел из вагона – в знакомую и приятную для меня петербургскую морось. Радостно. Но как-то.
Иду по перрону, думаю: про дверь, с одной стороны которой Ялань, а с другой – Санкт-Петербург. Переживаю – невозможно.
Вдруг вспоминаю почему-то случай с Алексеем Степановичем Хомяковым, десятилетним мальчиком, впервые приехавшим в Петербург со своим братом. Тогда Петербург показался им языческим городом, в котором от них потребуют переменить веру. И поклялись они друг другу лучше претерпеть мучения, чем изменить Православию. К чему и вспомнил?
Начнём с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих…
Ну, всё не так, конечно, всё иначе, однако:
Время настигло – взяло меня под руку; иду рядом с ним – покорный, как прирученный.
И забыл, совсем забыл сказать:
По каким-то – для меня одних, а для него других – минутам, подходил ко мне отец, большой, громоздкий, трогал меня своими толстыми, как гильзы от крупнокалиберного пулемёта, пальцами за плечо, гладил ли ими меня по затылку – я отстранялся – и просил: спой, мол, сыграй мне песню эту – про геолога. Так не хотелось мне, но делать было нечего, и пел я:
– Я уехала в знойные степи, ты ушёл на разведку в тайгу… Мы геологи оба с тобой.
Видел отца при этом я – нехотя, искоса, не понимая: он умилялся.
«Отец!» – произнеслось в сырой приневский воздух.
Утро туманное, утро сырое.
И сам – почти как шансонье. Только – романтик. Пристало к языку; скоро, не скоро ли отвяжется.
Шагаю.
Милиционеры – смотрят на меня – мало ли; ходят парами – будто дружат, а глазами – во все стороны; в чёрных куртках.
Утро туманное, утро сырое.
Метро ещё не открыто. Знаю. Да и не хочется в него спускаться – после Ялани-то да при таком заболевании тяжёлом и неизлечимом – социофобии. И – обещал. И так желанно мне, ох как желанно. Жизнелюбив – иду, пока – как Каин.
Вышел на Невский. Низкие тучи – над ним, над проспектом – наискосок к нему переползают. Да и – над городом – скребут, вылизывают – любят. Чухония. У нас в Сибири – там так в августе, после Ильи. Солнце – взошло, наверное, – но где оно? – в Сибири.
Дышу – нравится; лёгкие – наполнились – вдыхают.
Ялань – дверь – Петербург. Не забываю. Толку-то. В Ялани точно уже солнце. Висит низко над Камнем. Если небо не в мороке.
Машины – много их – пугаюсь: одичал; ещё – народу-то – толпы.
Иду, иду, иду – Невский.
Рюкзак за спиной – чувствую.
Повернул на Литейный. Прошёл.
Нева. Пересёк её по мосту. Река. Без волн. Ровная. Под опорами – только. Позаглядывал.
Есть, думаю, там, в рюкзаке, но – не буду. Ни грамма – про алкоголь.
Вспомнил:
Одноклассница моя, Таня Фоминых – живёт в Ялани, замуж не вышла, бобылиха, – ухаживала за дядей Колей Нестеровым. Не по родству – по доброте, участливая. Он умирал. Недолго. Тихо умер – уснул. Был у него сын. Есть. Сорок с лишним лет назад осудили его – за драку в клубе: два зуба выбил лектору из Елисейска – толковал тот про присутствие в космосе спутника и отсутствие там Бога – от несогласия. Зуба – два. А срок – восемь. Злостное. Отсидел где-то, в Ялань не вернулся. Мать его, жена дяди Коли, умерла. Не зажилось ей что-то – рано. Тётя Катя. Помню – смирная. Сам дядя Коля – жить остался – незаметно тоскуя. И от сына – ни ответа, ни привета. Всё время в глаза почтальонши заглядывал – украдкой – напрасно, только – пенсия. Ну а зачем она – дышать и без неё, мол, можно – воздух-то, а деньги? – горе… А потом – зашла Таня к нам, рассказывает – лежит он, дядя Коля, на деревянном диване день, лежит два – и не живёт – не хочет, и не умирает – не может: смотрит – глазами, а тайком, может – и сердцем. В потолок. В матицу. Видит. Приношу, говорит Таня, ему бульон куриный в кастрюльке, тряпкой обернула, чтобы не остыл, и письмо. Письмо, говорю. От Степана. Вот, говорю. Прочитать? Нет, кивает-отвечает, не надо. Туда глазами опять – в матицу, нам это – в матицу, ему – кто знает? Бульон оставила. После зашла – поел – хороший признак. Письмо рядом. Не распечатанное. Долго лежало. Умер. По письму-то он, Степан, по адресу, – в Анадыре. После уж его, письмо, открыли: дескать, соскучился – и по родителям, и по Ялани. И – извините – просит, дескать, слёзно. Извинили – наверное.
Иду, мушку выглядываю сбоку – не колет. Но вижу: мама – в окно с веранды смотрит – на солнце-то – вроде не морочно.
Дошёл до «Лесной». Подступил к общежитию. В окне свет. Сел во дворе на пень спиленного когда-то кем-то тополя. Сижу.
Насиделся. Пошёл в общежитие. Пора, думаю, сам себя пересидел, и чай она уже попила, наверное, на работу идти собирается. Можно и тут дождаться, но – не терпится: застать-то тёпленькой – родная.
– Вы к кому? – спрашивает вахтёрша.
Поджилки у меня затряслись, подлее подлого, хоть и готовился, – чуть не консьержка же – испугался.
– В триста шестнадцатую, – говорю.
– К кому?
– К Арине.
– Она уехала. Её тут нет.
– Куда?
– Не знаю. Замуж вышла, – в журнал уткнулась – в вахтенный, смены дежурств ли – думаю об этом.
Стою. На улице уже. Улица. Пень, на котором только что сидел, вижу. Деревья – пока не спиленные – в них ещё лето. Но вот к чему он, пень-то, тут – не помню, в нём уже лета нет, в нём – просто время – может, поэтому. И как-то, в воздухе-то, сыро-сыро. Машина подъехала к подъезду. Остановилась. Ну а о ней-то – уж и вовсе – перед сознанием – как промелькнула.
Пошёл. Иду. Ноги свои – понимаю. Про солдатскую бутылку пива в рюкзаке вспомнил – думаю. Не буду – решил – твёрдо.
На метро, думаю, или – пешком? Пешком – лучше: не умрёшь – на ходу не умирают – падают. Сесть, может?
Вороны – в тополе – давно проснулись.
Иду. Вспомнил: может, сниму с подружкой комнату – конечно!
Купил в метро карточку. Звоню.
Мужской голос:
– Только что ушла.
Иду. Снял рюкзак. Мост переходил пока – выпил.
Пиво – как вода – толку-то.
Пошёл. Зашёл. Сто граммов коньяку заказал. Мало. Двести. Ну – вроде. И душа так – трепещет – как от радости. Хотя – больно. Ну так ещё тогда – двести. Теперь – конечно. И тротуар уже – помогает, способствует – пружинит мягко под ногами.
Иду. Думаю: Молчунья – увидеть её должен – то… как-то… это… язык не произносит… но ведь не правильно… когда увижу уж, тогда…
Опять Невский.
А дамы! О, дамам ещё больше…
Опять – Гоголь, Достоевский. Ну, думаю, но – уже как-то. Но тут-то – Пушкин.
Прошёл под арку. Милиционер – смотрит, искоса – как на что-то.
Позвонил по местному.
Вышла. Та же. Чувствую: вернулся мой затылок, попытался вставиться – не получилось – упал на пол. Ну, чувствую.
– Ты уже замужем? – спрашиваю. Едва-едва с языком справился.
Бровями —?! – вопросом на вопрос.
– Вахтёрша так сказала.
– У-у?
– А голос в телефоне?
– Мужчина?
– У.
– Снимает… комнату… рядом… смежную. Какой-то родственник хозяйки.
– Тебе никто он?
– Нет.
Стою. Молчу. Помню, что коньяку выпил. Но как-то… А-а – клопами – сказать об этом, промолчать ли? Ей не будет это интересно.
Окно напротив – озолотилось: солнце прорвалось из-за туч; угасло, там, в Ялани, оно уже пятый час как светит, в упор уже на Камень смотрит… если не морочно, конечно.
– Родишь мне дочь? – спрашиваю.
Зрачками – долго медлила, но: да – ответила.
– Назовём её Анастасией.
Зрачки расширились. Веснушки потемнели.
– Вечером встретимся. Пойду.