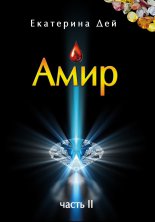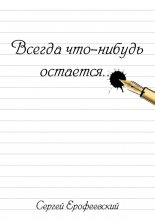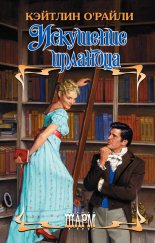Каменное братство Мелихов Александр

Она смотрела на меня с неподдельным состраданием, забыв мою ладонь в своей ручке.
Тем не менее за весь вечер не случилось ничего, что можно было бы назвать предательством, и Рижского проспекта по дороге к «Техноложке» я по обыкновению во все не заметил. Но когда на Троицком за уютно горящими окнами помещичьего желтого дома скорби замаячила громада Измайловского собора, я поднял глаза и обнаружил, что купола его небесно-голубые, а разбросанные по ним шестиконечные звезды и кресты на куполах светятся золотом. Я даже не знаю, память мне это открыла или глаза – что могут видеть глаза! – но я оглянулся и, увидев, что темный проспект пуст, пал на колени на хрустнувший ледок и прошептал: «Любимая, прости, что я снова ж иву».
И впоследствии, пускаясь в путь от «Техноложки» до Старо-Петергофского, я всегда заглядывался на этот купол, который все светлел и светлел с продвижением весны. И наш дружеский поцелуй при встрече тоже все удлинялся и удлинялся, и я уже придерживал ее за талию, хотя и упитанную, но ощутимо расширявшуюся к бедрам.
Однако я тут же переходил к хозяйственным делам, выкладывал какие-то продукты, в том числе увесистые, чтобы как-нибудь по рассеянности не сесть ей на шею. Она и к этому относилась с полной непринужденностью – за что-то хвалила, за что-то журила: зачем брал такой дорогой сорт, можно было в полтора раза дешевле, и тому подобное, а морковку надо обязательно не только щупать, но и сгибать, видишь, какая она вялая, но только когда я принес замороженных кальмаров, приняв их за морского окуня, она вскинула на меня свои припухшие глаза с такой смесью восхищения и сострадания, что мы как по команде заключили друг друга в объятия и принялись целоваться уже по-настоящему, и руки мои наконец-то обрели то, о чем они давно мечтали, только коже пришлось обойтись без кожи, потому что стрелка интегрального индикатора стояла на нуле, если здесь вообще уместно слово «стояла».
Итоговая стрелка ожила лишь опять-таки в холодной постели, когда моя Пампушка – теперь это слово сделалось ласковым, и я его уже не избегал – была вновь явлена мне не губами и руками, но самым моим эрогенным органом – памятью.
Однако я не был уверен, что показатели останутся на высоте, когда желанный образ обретет плоть, перейдя из возвышающей памяти в опускающие руки. Поэтому я почел за лучшее заглянуть в аптеку – нынче все стимуляторы в упор глядели на нас, прильнув к стеклу. Еще в студенческие годы бывалые люди учили меня, как нужно покупать презерватив: «Просто скажи: за четыре копейки». Я дождался пустоты у прилавка и, не поднимая глаз, пробурчал: «За четыре копейки». «Чего за четыре копейки?» – заорала на всю аптеку толстая дура в белом халате, и мне пришлось с ненавистью выдавить из себя: «Презерватив». «Нету!» – торжествующе завопила мегера, и я, навеки опозоренный, не поднимая глаз, выскользнул прочь.
Хотя теперь я покупал бы эти штучки, может, и не без гордости. А вот до того, чтобы публично, да и даже наедине попросить виагры, я еще не дозрел. Конечно, я мог бы взять себя в руки и спросить напрямую, но зачем мне загаживать свою память мелкими унижениями? Я подумал и решил прикинуться глухонемым. Я привлек внимание молодой продавщицы осторожным мычанием, показал пальцем на губы, отрицательно покачав при этом головой, и положил перед нею записку: «ВИАГРА». Сколько, спросила она, и я, забыв, что я еще и глухой, показал два пальца.
От виагры у меня почему-то раздулась физиономия, но, к счастью, не только она: в конце концов все получили то, к чему стремились, – и руки, и кожа, только последняя стрелка словно одеревенела и почти ничего не чувствовала, однако она меня и волновала меньше всего, ибо собственной души у нее не было.
Понемногу, правда, и она ожила. Моя хлебосольная хозяюшка, не столько сладострастно, сколько радостно вышептывая какие-то простодушные нежности («заинька! миленький! дружочек!..»), умела ласкать не хуже, чем готовить, – вторая таблетка уже не понадобилась. И я даже научился уворачиваться от немедленно наваливающейся тоски. Не замирать, как это бывало у нас с Иркой, а поскорее вставать – будто бы гигиены ради, затем одеваться – будто бы простуды ради, и садиться за стол – будто бы голода ради. Лучше испытывать стыд за свою неблагодарность, чем раздражение за то, что моя подруга сразу же начинает говорить с обычной комнатной громкостью: я же понимаю, что единственная ее вина заключается в том, что она не Ирка. Если бы она замирала, прильнув ко мне, было бы еще хуже. В первый раз она меня смягчила лишь простодушным признанием: «Больновато, у меня все там ссохлось».
Зато за столом я с удвоенным вниманием расспрашиваю о ее делах – мне они и правда интересны, я ведь и впрямь очень хорошо к ней отношусь. Я действительно одобряю, что она быстро решилась расстаться с мужем-пьяницей, не стала повторять ошибку мамы, отдавшей половину жизни алкашу и эгоисту (теперь-то я знаю: алкашу и следовательно эгоисту), я верю, что ее мама и впрямь должна была быть незаурядным человеком, если сумела выбиться из глухой деревни в учительницы начальных классов, да еще и добиться того, чтобы бывшие первоклассники сбросились на ее престижное погребение. Я действительно испытываю нежность и сочувствие, когда заботливая и нежная хозяйка моего убежища сетует, как ей влетело за то, что, в очередной раз заглянув в чью-то карточку, она посоветовала пациенту пойти к другому врачу. Уж сколько зарекалась, но когда она видит, что человек идет не туда, не подсказать выше ее сил.
Ну а тревоге ее за путешествующего по крышам сынулю я не просто сочувствовал – я прямо-таки дивился, как редко она позволяет ей выбиться наружу, – только поплюет через левое плечо, только постучит по дереву, только побормочет: «У него длинная линия жизни, у него длинная линия жизни, мамочка не допустит, мамочка не допустит…»
Я и к самому сынуле отнесся с искренней теплотой, когда – предварительно позвонив, что я особенно оценил – он забежал на минутку, что-то забрать. Обтягивающая вязаная шапка, которую он почему-то не снял и дома, делала его голову еще более похожей на шар, чем она смотрелась на фотографии деисусного чина. Он был и весь кругленький и очень живой, словно капелька ртути. Он выдвигал один за другим все ящики, что-то напевая под нос, но кратковременное общение с Орфеем временами обостряло мой слух до такой степени, что я иногда разбирал и то, что люди напевают про себя. Песня оказалась очень современной – вместо мелодии напористый бубнеж – и политически актуальной (отдельные слова бубнились мрачнее и октавой ниже, как бы в скобках): «Зачем ты под черного легла (легла, легла), испортила чистую белую кровь? Зачем ты под черного легла? (Тупая ты м…а!) Ведь в Купчине много нормальных пацанов».
И тут же начинал еле слышно голосить тоненько: «Эй зачим? Ти жь нормальний таджьжикский подруг, зачим ти под белий полёжьжиль? Испортиль чистий таджьжикский кров, зачим ти под белий полёжьжиль? Ведь в Купчин так много таджьжикский герой, зачим ти под белий полёжьжиль?»
Но он, похоже, просто кого-то передразнивал.
Я уже готов был и ему подыскивать оправдание – ну мало ли, что человек не работает – хочет быть поближе к небесам.
А как-то я позвонил Виоле после сравнительно долгого перерыва – я по-прежнему старался работать как можно больше, – и она обрадовалась совершенно по-деревенски: «Ой, а мне как раз приснилась собачка – так ластится, ластится!.. Я проснулась и думаю: наверно, ты придешь! Это примета такая: увидишь собаку – придет дружок».
«Собачка», «дружок»…
Но я лишь вздохнул растроганно: дитя. Заметив свое отражение в зеркале, она тут же начинает натягивать щеки назад, грустно размышляя вслух: «Приклеить их, что ли? Или намазаться яичным белком, напудриться и больше не улыбаться?..» Так что, когда она при не успевшем закатиться весеннем солнце пришла на раскисшее кладбище в коричневом фетровом горшке, я почувствовал лишь спазм нежности и сострадания за ее нелепый вид. Чучело, сам собой ласково проговорил без звука мой язык.
После этого я перестал и отводить глаза, когда она поднималась не сразу же вслед за мной, а продолжала нежиться на разбросанной постели, напоминая мне какое-то трогательное морское животное, вроде тюленя, перетекающего при повороте с боку на бок. И когда она меня напутствовала в дверях: «Ходи осторожно!» – я видел, она замечает, что я прощаюсь более растроганно, чем прежде.
Зато на кладбище эхо моей лжи во спасение продолжало разноситься громче прежнего. Бывшая Старенькая Девочка Маргарита Кузьминична стала появляться гораздо реже, бодрая, пополневшая и порозовевшая, и каждый раз увлеченно рассказывала о каком-то новом розыгрыше ее разрезвившегося супруга, при жизни все-таки гораздо более серьезного. Леночка тоже посветлела и натягивала свою бейсболку уже не так низко, но со мной здороваться стала смущенно, будто провинилась в чем-то не очень важном. Зато Лидия Игнатьевна кивать мне начала очень царственно, но милостиво. Капа высохла еще больше, но сквозь ее исхудалость как-то проступило, что она совсем девчонка. Антохина жена напиталась сарказмом ко всему человечеству и обращалась со мною будто с сообщником. Вдова Жореса, похоже, начала презирать меня за некультурность, поскольку я был вынужден почтительно кивать всем чокнутым дамочкам, поджидавшим меня у моего незримого Тадж-Махала, чтобы сбивчиво или, наоборот, на пять с плюсом пересказать мне содержание их бесед с покойными мужьями, и мне оставалось лишь с тоской поджидать того цунами безумия, которое обрушится на меня, когда эхо разговоров с мертвыми докатится до и без того двинутых поклонниц Любимчика.
Однако корреспондентка желтой газетенки «Эзотерический Петербург» добралась до меня раньше.
По мобильному, между прочим. Достала у кого-то.
Я умолял ничего не публиковать, я твердил, что проделаны лишь первые опыты, что мы пока еще не можем отделить реальные сигналы от самовнушения, и даже пообещал ее первую поставить в известность, когда появятся серьезные результаты, и все-таки сияющая Старенькая Девочка, радостно размахивая треклятой газетенкой, уже через два дня поджидала меня на последнем кладбищенском снегу, исклеванном капелью с деревьев, словно отслужившая деревянная мишень.
УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ СВЯЗЬ С ПОТУСТОРОННИМ МИРОМ!
Эта радостная весть занимала четверть небольшой полосы. Половину же оставшейся площади занял мой портрет. Мерзкая девка скачала из интернета фотографию, где я был заснят на трибуне, – выходило, что я проповедую с трибуны эту дурь и городу, и миру.
У меня прямо сердце оборвалось: что скажут коллеги, мне же на людях нельзя будет показаться!.. Господи, да ведь наш директор еще и зампредседателя по борьбе с лженаукой!
Моя добрая Пампушка, понимавшая, что именно она меня во все это втравила, расстроенно уверяла, что этот листок никто не читает, однако борцы с лженаукой, оказалось, хорошо следили за вражеским лагерем. Через каких-нибудь пару-тройку дней директор, встретив меня в коридоре, вместо обычного любезного рукопожатия бросил коротко: «От кого, от кого, а от вас не ожидал», – и его хрящеватое лицо сделалось совершенно инквизиторским.
Повздыхав с полчасика за рабочим столом, я отправился к нему объясняться. Он непримиримо смотрел в дареного коня из уральского малахита – чистый инквизитор, только остроконечного капюшона не хватало. Но ко гда я начал сбивчиво рассказывать о кладбище, о вдовах, о психозах, вызываемых непосильным горем, он вдруг бросил на меня тревожный взгляд и сделался необыкновенно предупредителен.
– Ничего, ничего, вы, главное, больше отдыхайте, – ласково повторял он, бережно, за локоток провожая меня к дверям, и я понял, что он считает меня тронувшимся.
Хороший все-таки у нас народ – необыкновенно приветливыми сделались все. Хотя контактов со мною стали избегать.
То есть пошли навстречу моим желаниям: любые контакты мне были в тягость, ибо требовали осточертевшей корректности.
Я расслаблялся только у Виолы, проникаясь к ней все большей и большей теплотой и благодарностью. Однако из-за ее простодушия моим чувствам был нанесен удар прямо под дых.
В какой-то момент мне стало неловко, что я не приглашаю ее к себе, и мы договорились после работы встретиться под колоннадой Александринки. К тому времени снег уже сошел, но когда я вышел из метро «Гостиный двор», он повалил громадными хлопьями, мохнатыми, как морды эрдельтерьеров, а когда мы с нею дошли до статуи дворника у моего подъезда, мы и сами уже не уступали им мохнатостью.
Взаимные отряхивания помогли нам переступить порог без натужных слов и жестов, а ее простодушный возглас «Это все твое?..» окончательно растопил лед вслед за снегом.
– Нет, это такая коммуналка… – начал я и осекся, ибо хотел завершить словами: «населенная призраками».
Квартиру эту в эпоху расцвета мне дали на большую семью как крупному деятелю науки – директор не поскупился на эпитеты, и за этим, теперь нелепо длинным, столом вершились когда-то счастливые обеды. Ирка всего лишь любила застолья с интересной выпивкой, а дети всего лишь присматривались, кому живется весело, вольготно на Руси. Не знаю, как так они не разглядели, что веселее всего живется нам с Иркой.
Я пошел ставить чай, чтоб хоть минуту побыть одному, но Виола последовала за мною и снова ахнула: сколько посуды! Да какая интересная!
Правильно углядела: Ирке обязательно требовалось, чтоб было интересно, отовсюду она привозила какую-нибудь умилявшую меня кухонную белиберду.
А Виола уже углядела Иркин любимый тонкий поднос, вырезанный из одного куска мореного дуба, и – и меня передернуло: она начала составлять на поднос Иркину сахарницу, Иркины блюдца, чашки, как будто нарочно выбирая именно те, вокруг которых мы с нею засиживались за вечерним чаем в годы нашего счастья. Хотя и в годы горя любая трезвая ее минута тоже становилась счастьем, которое мы старались растянуть далеко за полночь в неостановимых разговорах смертельно соскучившихся друг по другу влюбленных – не наговорились за сорок лет…
А теперь чужие руки как ни в чем не бывало…
Мне как свело губы судорогой, так я их и не мог разжать, – только что-то мычал в нос на сначала недоумевающие, а потом и встревоженные вопросы.
Я и глаз на нее не мог поднять.
И наконец она что-то поняла и сникла.
Собрала и снесла на кухню недопитые чашки, пошумела водой – я не мог оторвать глаз от Иркиной клеенки, тоже голубой в цветах, только желто-белых, может быть, даже в ромашках.
– Так я пойду?..
– Ммм, угумм, – я не мог ее видеть, я разглядывал ромашки.
Моих сил хватило приложиться губами к ее теплой и, кажется, немного увлажненной щеке, но поднять на нее глаза от ромашек (любит – не любит, любит – не любит…) я так и не смог.
Поднял я их только перед зеркалом в ванной, собираясь почистить зубы. Поднял и тут же опустил. Потому что мне было стыдно смотреть себе в глаза. Ведь не виновата же она, что она не Ирка… И не в музей же ее привели… Когда мне хотелось прильнуть к ней, как к теплой печке, я готов был отодвинуть память о той, кого не забуду до смертного часа, а когда понадобилось самому оказать снисходительность…
Какая же я свинья!
Вроде бы я отстал от нее всего минут на двадцать, не больше, но она уже успела распухнуть от слез. Хотя и переодеться в свои маки тоже успела.
Раскаяние – стимулятор покруче виагры. Собирая губами соленую влагу с ее горячих щек, я с забытой страстью стремился поскорее добраться под укрывшееся под маками теплое, шелковое, мягкое, женское – и внезапно наткнулся на что-то морщинистое и царапучее.
– Мне у нас в поликлинике поставили пиявок для разжижения крови, пришлось пластырем заклеить, – она пыталась осторожненько отвести мои руки. – Тебе противно?
– Нет-нет, что ты! – я был даже рад доказать ей свою преданность, смыть вину кровью.
Что и случилось. На простыне осталось такое кровавое пятно, будто я лишил ее невинности: своим неистовством мне удалось сдвинуть пластырь с ее изъязвленного крестца. И я почувствовал, что моя вина действительно смыта нахлынувшей нежностью.
Ее я тоже еще не видел такой счастливой и заботливой, и мне впервые захотелось не просто приласкать ее, но как-то воспарить.
– Интересно, – элегически начал я, – почему женщины оказываются такими важными для нас? Даже важнее, чем дети.
– Заинька, ты будешь огурцы?
– За детей хочется быть спокойным и только, а женщины просто-таки возвращают нас к жизни. Как это у них получается?
– Огурцы тебе сделать с подсолнечным маслом или со сметаной?
– Со сметаной, – пришлось спуститься за стол.
– Я все думаю – сказать, не сказать…
– Конечно, сказать.
– Я три дня назад была на осмотре у нашего гинеколога, и она меня спросила: вы живете половой жизнью? Я застеснялась и сказала «нет», все же знают, что я не замужем… И сегодня она с такой улыбочкой мне сообщает, что под микроскопом у меня нашли живого сперматозоида.
Она была и смущена, и горда одновременно. А когда я сказал, что останусь ночевать, от счастья зарделась как девочка и, мне показалось, бросила на маму признательный взгляд. Хотя ее серобуромалиновые глаза так и оставались красными и еще более припухшими, чем обычно, и я избегал на них смотреть, опасаясь, что это меня снова может оттолкнуть.
Я совсем забыл, как удобно засыпать, положив ногу на теплое бедро, высоковатое, правда, но совершенно свое. И все равно Ирка впервые мне приснилась именно в ту ночь. Приснилась очень обыденно: что-то говорит, почему-то отворачивается… И только когда я увидел на ее кровати россыпь черненьких шестиугольников, мне вдруг пришло в голову, как мне будет больно их видеть, если она умрет. И сердце так стиснуло, что я наконец догадался: ей самой слишком больно на меня смотреть из-за того, что я вынужден жить с чужой тетенькой – она женщин после сорока всех называла тетеньками. Так ты не уходи, не оставляй меня, всхлипывая, как ребенок, молил я, пытаясь заглянуть ей в глаза, но она все отворачивалась и отворачивалась, и наконец я заметил, что у нее перерезано горло, и даже не только горло, а очень аккуратно обведено узкое алое кольцо вокруг шеи.
Проснувшись, я долго грыз руки, где днем под одеждой будет не видно, изо всех сил стараясь не трястись, чтоб не разбудить Виолу, и в конце концов почувствовал, какая она горячая. И так меня пронзило жалостью к ней…
Такая пышная, горячая – и такая беспомощная! Вот спит и даже не знает, что и во сне согревает постель. Именно оттого, что согревает, сама о том не ведая, было особенно невыносимо.
А лавина, запущенная «Эзотерическим Петербургом», пришла-таки в движение. Уж не знаю, как они раздобывали мой телефон, но мне звонил и «Московский комсомолец», и «Комсомольская правда» (комсомольцы, беспокойные сердца), а уж всяким «Читинским вестникам» и «Колымским буревестникам» я и счет потерял. Отвечал я всем одно: первые опыты, еще ничего не ясно, а уж что они дальше плели, я старался не узнавать, репутация все равно уже погибла, и меня теперь страшили только физические контакты: прознают поклонницы Любимчика и разорвут, как вакханки Орфея. Чтоб не портил песню, дурак.
Так что когда глубокой ночью меня подбросило курлыканье домофона, я ужасно напрягся.
– Кто там? – зарычал я в трубку, стараясь, чтоб вышло страшно и злобно, и обмяк, когда услышал жалобный акцент типа «зачим ти под белий полёжьжиль»: я из двасить симой квартирь, лямалься, пустить…
Я про себя, разумеется, выругался, но, тем более разумеется, его впустил. Думал, до утра не засну, но вспомнил горячую Виолу и тут же отключился – она умела примирять с действительностью. С нею было невозможно поговорить о чем-нибудь волнующем – она не столько слушала, сколько умильно меня разглядывала, приговаривая: какой ты красавчик! А какая у тебя шейка! У, а какие ручки! И я сначала досадовал, а потом начинал снисходительно улыбаться.
Так с улыбкой заснул и на этот раз.
Правда, когда назавтра поздним вечером нежно, будто бокал, тренькнул звонок и я через глазок распознал на площадке человека восточной внешности, я чуть не заорал через дверь: нет здесь твоей мамы, твоя мама в Таджикистане! Но воспитание позволило мне заорать лишь классическое «Кто там?!».
И мне ответили со всей возможной в разговоре через дверь вежливостью… на английском языке. Насколько можно было разобрать через металлическую дверь, с хорошей, впрочем, акустической проницаемостью, это был английский выговор, если я что-то понимаю в английских выговорах.
– Good night, Mr… – и я расслышал свое имя. – Can I talk to you?
В некотором обалдении я открыл дверь.
– Плииз, кам ин, – с трудом выговорил я на своем конференшн-инглиш.
Это был английский джентльмен, если я что-то понимаю в английских джентльменах.
– We ofer you a contract for research in Turkey.
– Уот шуд ай ду?
– You have performed an acoustic exploration of underground tunnels for Rosatom, we want you to do the same for us. We’ll pay you good money. Advance payment including travel expenses I can make right now.
Да, это был истинный джентльмен, невзирая на черные персидские глаза и нос, изогнутый крючком настолько, что у кончика он немножко загибался уже обратно к лицу и над губой нависал именно крючком, можно зацепить и подвесить, тем более что гость мой сложения был очень изящного, словно тринадцатилетний подросток. Это было особенно заметно из-за того, что дело двигалось к лету, и он был без пальто.
– Сит даун, плииз. Уот ду ю уонт? Кофе, тии?
Но он желал лишь выдать мне аванс. Узнав сумму, я окончательно утратил чувство реальности. И в этом мороке меня уже нисколько не удивил его рассказ, в котором я, возможно, не все понял, однако даже того, что я понял…
Мой гость принадлежал к Братству Подземных Дервишей, считавшему, что истина сокрыта не в высоте, но в глубине, а потому не возводивших минареты, а пробивавших колодцы в самых безводных местах, где можно было углубляться бесконечно. Официальный ислам преследовал Братство, и оно укрывалось от него в своих веками разраставшихся катакомбах, пределы которых теперь никому неизвестны, и обетах молчания перед всеми, кроме собратьев (нарушение обета каралось смертью предателя и всех членов его семьи). Братству удалось так глубоко законспирироваться, что даже Кемаль Ататюрк во время борьбы с дервишскими орденами его не преследовал, считая слухи о Братстве чистыми легендами.
Однако Братство живет, и, завоевывая все более и более могущественных покровителей на земле, все глубже и глубже зарывается в землю. И в последние десятилетия духовные вожди Братства все более и более уверенно заговаривают о том, что наша планета – живое существо и лишь наша тугоухость мешает нам расслышать удары ее сердца.
Мой фононный фонендоскоп и должен нащупать пульс Земли.
Простенько и со вкусом.
Но Братство Подземных Дервишей все-таки не «Росатом», я тоже должен соблюдать правила конспирации. Гость считает, что за ним хвоста не было, однако береженого Аллах бережет, я должен добираться до Турции хитроумным маршрутом, стараясь следить, не мелькает ли поблизости какая-нибудь повторяющаяся фигура, не интересуется ли кто моим багажом, – в общем, если хоть что-то покажется мне странным, я должен немедленно возвращаться в Петербург и ждать новых указаний. Если же переезд пройдет благополучно, мне следует поселиться в Анкаре в отеле «Барселона», по-турецки «Барсело», и ждать – мой гость заедет за мной в самом скором времени.
– Простите, а как мне вас называть? – спросил я его на своем уродском английском.
– Зовите меня просто: Пасынок Аллаха.
Ведь Stepson означает Пасынок? По-турецки же я запомнить не сумел. Может быть, этому помешал внезапно проглянувший сквозь его джентльменство неподвижный взгляд коршуна.
Конспирация и опасность пленили меня более всего: гибель в столь диковинном обрамлении идеально завершила бы путь строителя Тадж-Махала. Другое дело, вся эта история начинала казаться мне бредом, чуть только я пытался улечься в постель, однако плоская пачечка новеньких купюр по пятьсот евро каждая всякий раз оказывалась на месте, упорно не превращаясь в пригоршню золы.
Зато на самом видном месте мне предстал скромно переливающийся диск Марии Каллас. Я и без нее избегал музыки бог знает сколько времени, она размывала мою решимость, а уж от красивых женских голосов отшатывался почти как от порнухи. Но в ту ночь наушники словно приросли к моей голове, и я до первых мусорных баков не мог оторваться – признаюсь: не просто от божественных звуков, заполнивших весь мир, – от того божественного создания, которому этот голос принадлежал. Я в четвертый раз упивался арией «Каста дива» и приходил в бешенство, что какой-то греческий барыга посмел отказаться от моей богини – да он должен был почитать за величайшее счастье простаивать ночи под ее окном!
Уже и в постели эта неземная красота продолжала звучать во мне, но что-то меня все же толкнуло, пробудившись, поспешить не к рабочему столу, а к надгробной плите.
Под раскисшими листьями еще доживал свой век слежавшийся снег, ноздреватый, словно облизанные коралловые глыбы. ИРИНА… Желобки в мраморе – теперь это было все, что осталось от Ирки для моих пальцев. И когда их томление было вновь убито каменным кладбищенским холодом, я вдруг почувствовал стыд за ту ночь, которую провел с великой певицей. Ведь обычно я закрываю глаза, стараюсь забыть о внешнем облике певцов – никто из них не стоит своего голоса, – а тут, обмирая в океане божественных звуков, я не забывал вглядываться в ее фотографии, и более всего меня притягивали самые будничные обличья, где она казалась исхудавшей и даже не очень красивой – вот такой я бы ей служил особенно преданно! Предавая этими грешными помыслами память об Ирке…
Да, я почувствовал мучительный стыд, какого совершенно не испытывал из-за тех часов, что проводил в постели с моей милой Пампушкой, – не стыдился же я того, что ем, пью, дышу! Я и сам не думал, что секс может быть чисто дружеским занятием – как рукопожатие, как приятная болтовня, как совместный просмотр хорошего, но не великого фильма…
– Заинька, а можно я с тобой поеду? – Виола смотрела на меня так робко, словно я был строгим папашей, а она провинившейся школьницей. – Я четыре года никуда не ездила, поднакопила кой-чего…
Почему именно перед женщинами так приятно щегольнуть широтой души?
Я протрещал пружинящей пачечкой евриков:
– Я угощаю. Русский офицер с женщин денег не берет.
Я хотел добавить: «как сказал гусар, переночевав у проститутки», но вовремя вспомнил завет Козьмы Пруткова: не шути с женщиной, твои шутки глупы и неприличны.
– В общем, собирайся, нужно ехать в ближайшие дни.
Она совершенно по-детски захлопала своими крошечными ладошками, припухшие глаза вспыхнули радостью – и тут же приняли строгое выражение заботливой мамаши:
– Спрячь, заинька, потеряешь! Скажи – ведь то, что мы встретились, – это же чудо? Почему вы, ученые, не верите в чудеса?
– Потому что мы перестаем считать их чудесами, как только они случаются.
В нашем гнездышке, невзирая на теплые дни, продолжали топить, и моя раскрасневшаяся Пампушечка вся была в испарине, но это лишь усиливало мою нежность: ведь испарина это жизнь. А жизнь такая хрупкая!..
Чтобы оторваться от «хвоста», если таковой за нами увяжется, а еще больше забавы ради мы двинули в Турцию через Балканы, намереваясь там сделать несколько заячьих скидок – внезапных прыжков в сторону.
Будапешт, как и прежде, был красив до чрезмерности, но все-все-все отзывалось болью – и на этот дворец мы смотрели вместе с Иркой, и на этот собор тоже, одно было внове – деньги: и апартаменты мы сняли с маленькой Венецией в упор за окном, и ужинать отправились в шикарный ресторан. Фуа-гра в вишневом соусе все-таки была отменно хороша, хоть я и опасался назвать ее виагрой, а меж столиками еще и прогуливался скрипач, косивший под Листа (не под моего же ночного спутника…). Когда ему подавали, он исполнял гимн той страны, откуда, по его мнению, происходил даритель (оказалось, американский гимн начинается как «Хаз-Булат удалой…»). Видимо, я наградил «скрыпача» так щедро, что он потрясенно спросил: «Рууские?..» – а когда я неохотно кивнул (бог его знает, какое эхо мы по себе оставили, дураков ведь нет, помнить, что творили сами), он заиграл и даже запел песенку Крокодила Гены: «Я играю на вармошке…».
А Београд – не знаю, кто придал слову «Белград» больше звона – фарцовщики и проститутки, превратившие гостиницу «Белград» в гнездо роскошного порока, или власть, приравнявшая Югославию к недосягаемым капстранам. Но тамошний вокзал с площадью пришелся бы впору любому областному центру. Правда, скучнейшее здание по соседству было украшено аршинными буквами «БАС». Я было подумал, что это опера, но оказалась автобусная станция. Хотя более по-нашенски прозвучало бы будущее турецкое ОТОБУС.
Масштабная трущобность, не с халупами, но с почерневшими многоэтажными домами, правда, впечатляет – величие упадка можно воспеть. Сербы, остро чувствующие бренность всего земного, свой дом так и называют заранее: куча.
Улица Гаврилы Принципа – тоже правильно, славен тот, кто позволил народу прогреметь. В бешеной суматохе прострелить живот беременной жене завтрашнего императора, затем продырявить горло ему самому, чтобы он захлебывался кровью: «Софочка, не умирай ради нашего ребенка!» – потом страшное избиение, отрезанная рука, годы в кандалах, смерть от чахотки в будущем лагере смерти – стильно, черт возьми! И какое эхо – тридцать лет войн, горы тел, курганы пепла, – нет, даже я не хотел бы такого пиара для своего Тадж-Махала. Но соблазн большой, большой… Ничто не звучит громче крови.
Одних помыслов о ней хватило, чтобы отель ошарашил роскошью публичного дома эпохи Мопассана, – многосборчатые, налитые малиновым абажуры, гипсовые ню, которые хочется назвать нюшками, всесторонне зеркальный душевой батискаф, космическое изобилие кнопок, из коих ни одна не работает…
Правда, моя неизбалованная Пампуша всплескивает руками: «Я так еще никогда не жила!» Она большой молодец, что не грузит своим беспокойством за рискового сынулю ни меня, ни его, ни себя – побормочет что-то типа «мамочка, помоги!», позвонит на секунду и опять оживает; в постели она посапывает так уютно, что и я незаметно засыпаю. Завтра нам предстоит отрываться от погони в Хорватии.
Рокоча чемоданными колесиками по пыльному летнему перрону (советское ретро), перешучиваемся, кто из пассажиров – путников – сошел бы за нашего преследователя. В песни западных славян не годится ни один, но обыкновенность – лучшая маскировка. Мне слабо верится, что кто-то нас выслеживает, и все-таки ветерок приключения б од ри т.
Пытаемся разгадывать надписи и объявления: излаз, полазек, меньячница, колосек, железничка… Понятно, почему тепловоз просто воз – он возит, но почему вагон – кола? Оттого что с колесами?
Обовештенье об изменама – более или менее понятно. Понятно, и почему крепкие напитки жестокие. А дозволение курить – дозвольено пушенье – даже открыло нам, что общего между сигаретой и пушкой. Правда, связь между пушкой и пампушкой так и осталась тайной.
Поезд – тоже эхо запущенных советских электричек, заглушающее всегда бодрящее чувство нездешности, да и немытые окна не позволяют пейзажу расцвести заграницей.
Зато Загреб оказался солнечным и жарким европейским городом. Но стоило нам миновать конный памятник какому-то бану, как мы очутились в тесном овраге среди старых домишек, от которых наконец-то пахнуло поэзией, не выдохшейся и в двухвагонном поездочке, шустро вилявшем меж кустов, то выныривая над зеленой долиной, то заныривая в ущелье. Дверь в кабину машиниста была открыта, и мы более с недоумением, чем с тревогой, наблюдали, как они с нашим проводником оживленно болтают, сидя боком к движению и лакомясь чипсами из общего пакета. На дорогу никто из них ни разу даже не покосился. Я уж было решил, что вместо них работает какая-то автоматика, но сразу же по прибытии в Анкару мне бросилась в глаза новость в интернете: сошел с рельсов поезд Загреб – Сплит.
В тот раз, однако, мы прибыли в Сплит без происшествий, в непроглядной жаркой темноте – только над крышами сияла светлым камнем квадратная венецианская кампаниле. Набережная с пальмами и праздничной летней публикой, фланирующей над черной водой, тоже по-ресторанному сияла, но когда мы, рокоча колесиками, свернули вправо на широкую и прямую как стрела безлюдную улицу, мощенную полированным мрамором, – только тут мы поняли, что такое настоящее блистанье сказочной танцевальной залы.
Пророкотав по камню темных изломанных улочек, мы замерли на площади вполне венецианской, будь она выточена из того же светлого камня резцом, а не высечена топором. И, замерши, разом услышали позади топот чьих-то ног. Тут же тоже стихший. Так и пошло: мы идем – его не слышно из-за нашего рокота и наших шагов; остановимся – преследователь пробежит шага три и тоже затихнет. Я хотел было резко броситься назад, чтобы его застукать, но Виола в меня вцепилась: ты что, он, может, только этого и ждет! «Ну да, с ятаганом», – хмыкнул я, но нервировать верную спутницу не стал. Наконец мы укрылись в крепостной стене, откуда можно было выглядывать на улицу через бойницу, однако никого так и не высмотрели, хотя Виола вглядывалась нельзя прилежней. Она, пожалуй, осталась бы и на ночное дежурство, если бы я не соврал, что шаги преследователя – это было наше собственное эхо: у него бывает такое запаздывание. А почему не отзывался рокоток чемоданов – у него были неподходящие частоты: нынче вранье без научных терминов не катит, – этому Виола меня учила и сама же клюнула.
За дни наших скитаний я проникся к моей пышной подружке еще более теплыми чувствами: она не только не докучала мне своими тревогами, но и вообще возникала, только когда я в ней нуждался. А когда на меня наваливалась тоска при мысли, какое это было бы счастье, если бы рядом была Ирка, – да что рядом – если бы она вообще хоть где-нибудь была!.. – Виола незаметно тушевалась, покуда я сам про нее не вспоминал. И на душе становилось немножко даже горячо от нежности и благодарности.
Но не мог же я ей рассказать, отчего мне не оторвать глаз от метровой надписи «ЯДРАН» на борту прогулочных суденышек: Ирку когда-то по-детски тешило, что южные славяне называют Адриатическое море Ядран-морем. Зато в Задаре я уже высказал вслух, что тянущиеся вдоль побережья длинные острова похожи на флотилию китов, заросших лесом, а в сказочном Дубровнике – что он представляется мечтой каменного века о будущей Венеции: роскошные изысканные формы не выточены резцом, а высечены рубилом.
Перед ночлегом в Дубровнике нам пришлось отрываться от невидимого преследователя лабиринтом крутых каменных лесенок – моя простодушная Пампуша, оказывается, прекрасно умела заказывать «апартаменты» по интернету. Там же она выловила нам до Черногории и водителя вместе с машиной, утратившей в каких-то испытаниях множество мелких деталей, но сохранившей пламенный мотор, – если за нами и тянулась слежка, то на бешеных зигзагах каменного карниза над сверкающей морской синью мы наверняка от нее оторвались. Юный джигит за рулем тоже бросал на дорогу лишь редкие равнодушные взгляды, а больше либо трепался по мобильнику, либо через плечо пытался поговорить с нами, что Виола тщетно старалась пресечь, тыча указательным пальчиком: «Вперед, вперед!» – как бы грозя ему, но на самом деле, к чести ее, просто нервно, а не истерически. Я же, наоборот, чувствовал себя как на крыльях – плечи сами собой расправлялись, когда, прижимаясь к стеклу, я прозревал ту высоту, на которую мы были вознесены над сияющим зеленым ковром побережья, оскверненного, увы, скукой курортных строений, чью ординарность не могла скрыть даже высота.
В стремительно густеющих сумерках удалось разглядеть, что горные обнажения сложены из громадных глыб, будто из неправильных самодельных кубиков.
А в ночном отеле Подгорицы европейская ординарность уже порадовала, особенно мою встрепенувшуюся спутницу – она тут же превратилась в хлопотливую хозяюшку и принялась готовить предутренний чай. «Ты ручки помыл?» – ее потянуло еще и на роль заботливой, но бдительной мамочки, которой я принялся старательно подыгрывать.
Мы проспали завтрак, и сразу же по нарастающей жаре отправились есть младу ягнятину, печену на дровах, и пшенично брашно. «Хвала, што не пушите». Выяснилось, что тиквице это кабачки, что идти «право» по-черногорски означает идти «прямо», а наше русское «право» здесь называется «десно». Цивилизация и тут себя предъявила тупыми коробками, растоптавшими лишь местами еще проглядывающее трогательное захолустье, где каждый хозяин соображал, как бы ему украсить свой черепичный домишко, – цивилизованным же людям соображать не надо, любую коробку доставят с конвейера.
Хижину очень даже можно воспеть, но невозможно воспеть комод.
А какие были орлы! «Черногорцы, что такое?» – Бонапарте вопросил…
«Титиготи, тё такое?» – произносил один малыш от двух до пяти, приведший мою Пампушку в прекрасное расположение духа, она так потом и восклицала, когда что-нибудь привлекало ее внимание: титиготи, тё такое?..
Она, как всегда, с точностью до минуты почувствовала, что я хочу побыть один, и отпросилась побродить по магазинам, а я остался в культурном центре – на одной вывеске «Народно позориште» – театр, на другой «Живот и литература».
Даже деревья не радовали – какая радость видеть орла в бетонном курятнике? Но забрел в овраг – и так сразу дохнуло сырой царапучей жизнью!
Зато Национальный музей оказался областным краеведческим. Так и у нас было бы, объяви себя моя родная область отдельным государством: местный пед сделался бы Национальным университетом, его декан президентом Национальной академии, а единственный член Союза писателей национальным классиком. А я так всю жизнь и просидел бы на Паровозной. Народы-малыши могут пробиться в Большую Жизнь только в могучих империях, поодиночке они обречены на прозябание в захолустье. Если повезет, комфортном, но все равно убогом в сравнении с роскошными звуками – Воиславовичи, Черноевичи…
Так захотелось хоть какой-нибудь шири! Я с тоской огляделся окрест себя и над унылыми крышами всемирного спального района углядел вершину холма, навостренную к небу темными веретенами кипарисов. Провлачившись по жаре мимо унылых бетонных опор стадиона, я выбрел к скальному обнажению – сразу стало веселее, когда появилось куда карабкаться по горячим каменным глыбам, задыхаясь от щекочущего смолистого запаха горящего янтаря.
Овивающая гору спиралью парковая дорожка среди кипарисов, исполинские ягоды шиповника, оказавшиеся гранатами. Мемориал партизану-борцу: «Они су вольели слободу выше од живота».
Эти комоды, стало быть, оказались выше од живота…
Я побрел в гору по жукам и муравьям поперек дорожной спирали и, уже опять немножко задыхаясь, выбрел на каменное лежбище – выбеленные солнцем и дождями причудливые кости доисторических ящеров. А повыше, среди горечи недавнего пожарища, они превратились в обугленную печеную картошку.
И тут до меня дошло, что за мной следят. И довольно давно.
Пока я шел по дорожке, меня время от времени то обгоняли, то, наоборот, обдавали горячим ветерком разгоряченные бегуны и бегуньи, но лишь с пепельного пожарища я заметил, что одна и та же зеленая футболка пробегает то выше, то ниже уже в четвертый не то пятый раз. А я ведь забрался сюда не по дороге, по скальному обнажению…
Так что и спускаться по нему не имеет смысла, они как-то отслеживают меня издали.
Сделалось интересно. И я снова поймал себя на незамечаемой согбенности. Когда она сама собой расправилась.
Виола, однако, встревожилась не на шутку, а я-то, наоборот, хотел ее позабавить.
– Все, зая, больше я тебя одного никуда не отпущу, – в ее голосе зазвучала четкость. – Машину в отель не вызываем, может, они этого и ждут, будем ловить сами.
Она и на вокзале отвергла всех, кто набивался сам. Я хотел было сказать, что скромность нашего по-спортивному бритоголового водителя (он назвался Драганом) тоже может быть тактикой слежки, но почел за лучшее промолчать. Виола и без того, когда мы уже отъехали километров на десять, вдруг велела поворачивать обратно: забыла паспорт. Заметив, однако, как пристально она вглядывается в заднее окно, я догадался, что она проверяет, не повернет ли кто вслед за нами. И, убедившись, что никто так и не повернул, немедленно отыскала паспорт, даже не заглянув в сумочку.
Драган, немолодой, но бодрящийся, выполнял эти нелепые распоряжения с подчеркнутой готовностью не рассуждать и, тем более, не осуждать, но делать, что велят. Он говорил по-русски совершенно свободно, с едва-едва заметным акцентом, очень быстро взмыв в сферы высокой политики:
– Мы теперь получили независимость, и теперь у нас в стране ничего от нас не зависит. Раньше нас с югославским паспортом пускали в любую европейскую страну, чтобы только оторвать от Советского Союза, а теперь все от нас отгородились, и Россия тоже. А зря. Это Тито со Сталиным ругались – Тито был гроссмейстер, и Сталин гроссмейстер, а теперь гроссмейстер один – Америка. Теперь мы должны собраться вокруг России, иначе все славяне опять будут шестерки. В Сербии вообще запретили военные парады, хотят, чтоб мы были не солдаты, а обслуга.
Сквозь бравый тон отчетливо пробивалась горечь, но жаргонные слова – «шестерки», «обслуга» – он произносил со вкусом: и такое, дескать, знаем. А что ему остается – должен же человек чем-то гордиться, и Виола тоже не решалась ему напомнить, чтобы он смотрел на дорогу, а не проповедовал через правое плечо.
– Почему Россия никого не хочет собирать? В университете Кирилла и Методия открыли кабинет «Русский мир». Я зашел – все стулья завешены газетами, как будто ремонт. Я спрашиваю: зачем газеты? Мне говорят: чтоб кто-нибудь не сел, вся обивка сгнила. Это что, теперь такой русский мир? Мы все скукожились. Кто отделился, от кого отделился – все скукожились. Русское посольство в Скопье как трансформаторная будка, а американское – целый Пентагон! На горе, над рекой, весь город видит! У меня мать македонка, а отец серб, но я все равно всем говорю: у меня национальность – югослав. Хотя это только в Советском Союзе звучало. Как хватали наши товары, за сапогами дрались! Я был коммерческий директор строительной компании, мы строили в Крыму, а теперь водила.
Последний из югославов. Панславизм снизу. Его вполне можно было бы воспеть: человек должен жить с теми, для кого его имя звучит, – но слишком уж меня тянуло сгорбиться, сдвинуть плечи, поникнуть…
А это не к лицу строителю Тадж-Махала. Я прекратил ежеминутными покусываниями проверять, болит ли по-прежнему досаждавший мне в последнее время зуб, и поискал за окном чего-нибудь выпрямляющего, однако зеленая овчина гор как назло отодвинулась к горизонту, а в равнину не то долину за окном я никак не мог заставить себя вглядеться – взгляд тоже скукоживался и прятался в себя. Мне редко удавалось вглядеться в то, о чем уже никогда не придется рассказать Ирке.
И вслушаться тоже, хотя послушать было что. Последний из югославов не собирался сдаваться: все, что заработал в России, он вложил в югославские сапоги, чтобы, где заработал, там и удвоить свой капитал, однако на этот раз драка началась уже в таможне, из которой он вышел без сапог. Не беда, не получилось на земле, он обратился к небу – открыл летную школу на пару со знаменитым асом; но тут к ним прицепилась инспекция по безопасно сти полетов: придиралась к каждой мелочи, покуда партнер Драгана не разбился вместе с самолетом. Ничего, славяне не сдаются! Драган возглавил стриптиз-группу – все культурно, интим не предлагать, но на одном корпоративе у бандитского авторитета…
Здесь Драган вспомнил о присутствии Виолы и перешел от прошлого к будущему: не получилось на земле – он отправится под землю, на свинцовые рудники Замбии, английская компания будет платить ему в четыре раза меньше, чем англичанину, но это же только начало! Местность, правда, отравленная, но негры же как-то выдерживают, значит, выдержат и славяне, он уже сделал прививки от тифа, от туберкулеза, от малярии, принимая душ, нужно не только рот, но и глаза держать на замке, чтоб не попала вода, фрукты нужно есть исключительно вареные, насчет чего прочего и думать забыть, регион стоит на первом месте по СПИДу…
Я слушал и завидовал: мне бы туда, под землю. Только оранжевый отсвет на Виолиных щеках сумел наконец переключить мое внимание. Оранжевое солнце – вот какие тут, оказывается, закаты на полпути из Черногории в Македонию…
Солнце, однако, краснело без оттенка – чего? Морковки? Апельсина?
– Что ты на меня так смотришь? – наконец заметила моя Пампушка и, внезапно смутившись, полезла за зеркальцем.
– Госсподи!.. Что же ты мне сразу не сказал?.. Я же делала витаминную маску из морковки с апельсином и забыла умыться, заторопилась…
Драган приветливо и одобрительно, чтобы не сказать льстиво, смеялся: что ж, ваше дело-де господское. Без пытки унижением до такого смеха тоже не скуко житься.
В ночном Скопье нас приветствовал указатель – ЦЕНТАР. Что ж, мы примерно так и произносим.
Огромные сонные львы при въезде и съезде с моста над черной, играющей огнями рекой.
Для Македонии и мы богачи – нас ждет снятая за копейки двухэтажная квартира на улице Ацо Караманов у подошвы черной ночной горы, увенчанной небольшим светящимся крестиком. По стенам – картины, неважнецкие, зато подлинники.
В телевизоре, как и у нас, кривляются обезьяны, и все-таки через всю их безголосость и безмозглость пробивается какая-то боль, какая-то мечта, какая-то любовь века назад канувших в небытие народных песнопевцев.
С так и не переставшей удивлять меня чуткостью Виола отправила меня в уединенную спальню на втором этаже, где в широченной прохладной кровати (уютно гудел кондиционер) перед моими закрытыми глазами один за другим принялись наливаться светом и меркнуть слайды – тонко вычерченные на белом лица, лица, лица, никак не позволявшие себя как следует разглядеть. Задержался один только Ленин – добрый, мудрый, он и проводил меня в сон, из которого меня вырвала…
Нет, это была даже не боль, боль все-таки сосредоточивается в одном месте, а у меня вся голова была заполнена ею, как колокол звоном. Я не посмел включить свет, но поплыл к лестнице с такой бережностью, будто нес до краев наполненное блюдце царской водки. И сумел-таки донести его, не расплескав, по скрипучей лестнице, нашаривая ногой каждую следующую ступеньку.
– Зуб?.. Глазной?! Это же страшно опасно!!
– Таблетку, – стараясь не раскрывать рта, еле слышно промычал я.
Таблетка подействовала быстрее, чем моя растрепанная перепуганная спасательница сумела найти в интернете, по какому телефону здесь вызывают скорую помощь, и мне удалось уговорить ее подождать до утра. Зато утром она уже знала и как вызывать такси, и как добраться до «стоматолошки». При наших деньжищах это ничего не стоило.
Таксист, узнав, что мы из России, пришел в восторг: «О, Россия! Супер! Путин!» И тут же на смеси русских, английских и македонских слов принялся сокрушаться, что албанцы наглеют, недавно убили четырех рыбаков, а власти боятся их трогать, косовский отряд захватил целую деревню, а когда ее окружили, натовцы их вывезли на автобусах да еще заставили подписать перемирие в их пользу…
– Мы везде видели их минареты, – подпевала ему мамаша раскаявшегося скинхеда. – Торчат, как ракеты.
Да, да, межконтинентальные, обрадовался панславист, они еще запустят их на Европу!
В общем, и здесь надежда одна – Россия. Хорошо мы, видно, прогремели, если до сих пор разносится эхо. Но меня больше волновало, как бы нечаянно не стиснуть зубы.
Стоматолошка укрывалась в длиннющем супермаркете меж лифчиков и туфелек. Ждать пришлось совсем недолго, но из медицинского журнала на низеньком стеклянном столике мы успели узнать, что кесарево сечение по-македонски – царский рез. А рядом с кассовым аппаратом стояла табличка «плакаjте».
И еще мимо стеклянной двери по просторам супермаркета понуро прошагал я сам. Мне редко приходилось видеть себя в профиль, да еще и во время ходьбы, и, тем не менее, не узнать меня было невозможно. Но я был в таком напряжении из-за ночной нечеловеческой боли – сейчас вернется, сейчас вернется… – что встреча не произвела на меня особо сильного впечатления, мне и мерзкий писк сверла слышался райской музыкой, а сверлильщик в полумаске виделся светлым ангелом. Когда спасительное истязание закончилось, он через пень-колоду объяснил мне по-английски (мнимая славянская полупонятность только сбивает с толку), что под зубом образовался гнойный мешок, но он его вычистил, однако, если снова заболит, нужно немедленно спешить к нему, я уже и так был в двух шагах, еще бы сутки…
Мне это не понравилось. Недостойно строителя Тадж-Махала загнуться от гнойного мешка. Вот если Подземные Дервиши, оберегая свою тайну, отсекут мне голову ударом ятагана и закопают в своих таинственных бескрайних подземельях – это будет стильно! Прямо зачесалось поскорее с ними свидеться, пока не приключился какой-нибудь новый конфуз.
И все-таки вынырнуть из боли и тревоги не так уж плохо.
Столица Македонии город как город, только крепость за рекой – Скопско Кале – отзывается поэзией. Вообще-то для меня это убожество – «человек как человек», «город как город», – но в своем размягчении я поглядываю на тутошние дома как дома довольно снисходительно.
Вывески иной раз и понятны: очна оптика, модный крояч, ковач-оштрач – ничего особенного: кует и острит.
Но вот что машка фризер это мужской парикмахер, никогда бы не додумался. Или извршител – извращитель чего?
Хлеб – леб, понятно. Но почему тушеное месиво из белой фасоли называется тавче-гравче, одному богу ведомо. Из-за примеси латинских букв jована невольно читается как ёбаха. Латинский шрифт на зеленой футболке, обтягивающей пампушистую грудь, уже кажется родным: LOVE–76 (люблю семьдесят шестерых, машинально перевожу я). Зато через блюдо «шпагети» я обнаруживаю связь между спагетти и шпагой.
Групация, тутунска банка – наверно, табачный банк, раз по-украински табак тютюн. Но в самый обидный тупик ставят серьезные плакаты, в которых каждое слово почти что понятно: за добро варенье и подобар метаболизам.
В домашней жизни все проще. Вход – влез, выход – излез, двери – врата, толкай – туркай, фрукты – овочи, чеснок – лук, яблоко – яболко, груша – крушка, бутылка – шише, так отвечает жена, когда муж просит на бутылку. Ложка – лажица, было бы забавно, если бы тысячу лет назад я не спрашивал у Ирки в Новгороде, почему ложка называется лжица. И она ответила с невыразимой нежностью: это ложица…
И сразу подступили слезы. Когда же это кончится?..
Нет-нет, пусть подступают, не будет слез – не будет ни жизни, ни любви. И все-таки жизнь не должна состоять из одних слез.
Или должна?
Шоколадный поп-корн зовется просто и выразительно – чоколадни пуканки, печенье-колачинья явно дружит с калачом, а наше печенье с их жареным мясом. Спина-назад понятно с чем, и палец-прст тоже – с перстом. А вот омилена-любимая никак не тянет на Ирку, разве что на Виолу – она и правда ужасно милая.
Как все люди на земле, македонцы жаждут быть воспетыми, и что обиднее всего – уже есть и песня, прогремевшая громче некуда, про македонскую победоносную фалангу, – и славянские македонцы изо всех сил стараются убедить хотя бы себя, что самые победоносные из эллинов – их пращуры: на центральной площади исполинский Александр Македонский с мечом в руке на вздыбленном бронзовом коне скачет в бессмертную славу среди салютующих струй, окруженный чужими царями на беломраморных тронах и чужими бронзовыми полководцами на смирных выезженных жеребцах, которых македонцы тоже стараются загнать в свое стойло. (Центральный памятник Виола называет просто Лошадью – лошадь для нее интереснее Медного всадника.)
Улица Ацо Караманов сама пытается идти в лиственную, всю в камуфляжных темных пятнах и полосах хвои гору, и мы бредем к нашему временному дому по пыльной жаре, стараясь хотя бы в тенистых дворах меж домами-коробами укрыться от созерцания каменных ящиков, ящиков, ящиков… И такая охватывает отрада, когда наткнешься на чудом уцелевшую черепичную развалюху среди крошечного садика.
Да, да, тысячу раз да: воспеть хижину проще простого, ящик или аквариум – никогда. Но тупицы преследуют и растаптывают все, во что человек вложил хоть искру выдумки.
– Может быть, здесь было землетрясение? – Виоле не хочется жить в мире, в котором заправляют тупицы.
– Какое землетрясение может сравниться с деятельностью строителей нового мира? Землетрясения и пожары в сравнении с ними просто хранители культурного наследия.
Моя взопревшая, как и я, спутница, в огромных темных очках напоминающая умную стрекозу, гораздо больше поглощена все-таки конспирацией: время от времени она смотрится в зеркальце, чтобы, не оглядываясь, убедиться, что слежки за нами по-прежнему нет. И все же раз в полчаса она наставляет меня, чтобы один я никуда не выходил, она слышала по телевизору, как убили Бандеру – прыснули в лицо какой-то отравой. Мне это кажется чепухой, но все равно приятно почувствовать себя столь значительной персоной.
– Им выгоднее меня не убивать, а через меня выйти на след Подземных Дервишей, – для поддержания игры возражаю я, но мою защитницу голыми руками не возьмешь.
– Ты не знаешь исламистов, зая! Для них убить неверного – самое хорошее дело.
В итоге, когда улицами КАПЕШТЕЦ и ПИТУ ГУЛИ мы добираемся до нашей прохладной двухэтажки, мне уже снова хочется побыть одному. Виола скрывается в душе, а я ускользаю на горячую улицу. И тут же немножко обмираю: что-то мне не попадался на глаза мой квантовый пылесосик…
Рядом с нашими чемоданами его и впрямь не было. Стекавшие по лбу горячие струйки пота заледенели: фонендоскопчик-то восстановить можно, но на это потребуется месяца три-четыре, а Дервиши за это время вполне могут устроить секир-башка: а, гяур лукавый, тенге взял, а теперь выкручиваешься?..
Я начал стучаться в душ костяшками, с трудом удерживаясь, чтобы не замолотить кулаками. К счастью, чуткость моей Пампушки пришла мне на помощь и здесь: шум ливня стих.
– Чего тебе, зая?..
– Ты не видела мой фонендоскоп?
– Я его на всякий случай в стенной шкаф спрятала!
Уф-ф… Оказывается, мне не так уж и хотелось знакомиться с ятаганами поближе.
Узеньким переулком меж укрытыми за деревьями довольно шикарными, хотя и без выдумки, виллами (смотреть на цветы я не могу по-прежнему) я пробираюсь к шоссе. Сажусь в красный двухэтажный автобус – неважно куда, главное – в гору. Надпись на билете тоже намекает на что-то понятное до ломоты в висках: билетот поништи го во правец на стрелката или каj возачет. Но выхожу уже среди маленьких домов, в которых все родное вплоть до надписей на калитках: «Опасен пес».