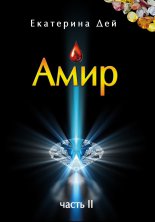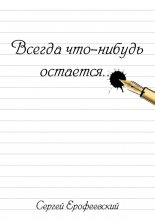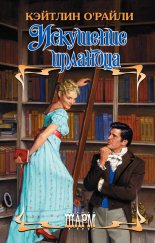Каменное братство Мелихов Александр

Ради всего святого не обращайся в левоохранительные органы – это было бы осквернением тех высоких минут, которые у нас все-таки были.
Ничья МуслиматОн перечитал это письмо дважды, потом трижды. Затем раскрыл черно-зеленый Коран. Начинался он так.
1. Открывающая книгу(1). Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
1 (2). Хвала Аллаху, Господу миров
2 (3). милостивому, милосердному,
3 (4). царю в день суда!
4 (5). Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
5 (6). Веди нас по дороге прямой,
6 (7). по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, –
7. не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.
Андрей ощутил тоскливое предчувствие, что не сумеет здесь найти разгадку, какая сила овладела его возлюбленной: если даже эта разгадка где-то там и таится, он все равно не сумеет ее распознать. Он был не слишком высокого мнения о своем уме и до сих пор не особенно переживал по этому поводу: ему казалось, есть вещи поважнее ума. Но сейчас он почувствовал мучительное раскаяние, что никогда не пытался выучиться каким-нибудь хитроумным штукам, которые сейчас, может, и пригодились бы!
Следующая главка начиналась еще более загадочно:
2. Корова
Почему корова? Он перевернул страницу и прочел, уже не замечая цифр:
«Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их – завеса. Для них – великое наказание!
И среди людей некоторые говорят: „Уверовали мы в Аллаха и в последний день“. Но они не веруют.
Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают.
В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! Для них – мучительное наказание за то, что они лгут».
Сердце Андрея захолонуло – а ну как это про нее?.. Конечно, она никогда не лжет намеренно, но здесь же и говорится о тех, которые обманывают самих себя…
А вот и еще: «А когда говорят им: „Уверуйте, как уверовали люди!“ – они отвечают: „Разве мы станем веровать, как уверовали глупцы?“».
Нет, она точно не станет верить как все прочие, не из такого теста она родилась, да и не из теста она вовсе, а из света и воздуха!
Андрей раскрыл книгу наугад – богобоязненным там были обещаны сады, где внизу текут реки, – они там пребудут вечно.
Нет, это не для него. Он не понимал, как можно блаженствовать, если у тебя нет никакого дела. Если бы он даже встретил в раю свою бедную любимую девочку – ну, и на сколько лет хватило бы их счастья? На год, на два? А ведь впереди была бы веееееееееееееееееееееечность!..
Нет, без общего дела любые отношения зацветут, как застоявшаяся вода в трюме…
Он написал заявление об уходе, а потом отработал полную смену – сколько можно кидать людей!
Дома же он набрал номер ее мобильного телефона, и тот заиграл под диванной подушкой. От нечего делать он начал смотреть, кому она звонила, и наткнулся на знакомое имя: Зульфия Обручева.
Ее голос был таким нежным и сострадательным, что у него впервые за много лет навернулись слезы. А то он как-то окаменел в бесконечном ожидании чего-то непоправимого. Конечно, вы можете зайти, говорила она, посидим, выпьем чайку, все хорошенько обсудим…
Она говорила с ним как мама с ребенком, и оттаявшее сердце сжалось, что он так давно не бывал у стариков на Рессорной, только слал бабки да отписывался, что его бросают из рейса в рейс. Но решись он их навестить хоть на три дня, он бы извелся, каждую минуту представляя, что она там еще сотворит без присмотра, а они бы изводились, не понимая, что такое на него нашло. Да и сейчас как им покажешься – щеки ввалились, желваки окаменели, глаза горят безнадежным мрачным огнем… Это ж для них будет тихий ужас.
«Рассвет» был затерян среди унылых блочных коробок на улице Дерюченко и походил на серую авторемонтную мастерскую без вывески. Но на беззвучный звонок коричневая стальная дверь немедленно открылась. Зульфия под своим хиджабом цвета лилового подснежника оказалась еще более милой, чем ее голос, что с женщинами бывает чрезвычайно редко. У нее было совершенно русское доброе лицо с чуть заметными материнскими морщинками у очень светлых, почти светящихся глаз.
– Легко нас нашли? – дружески, словно они были двадцать лет знакомы, спросила она. – Мы на всякий случай вывеску не вешаем из-за скинхедов.
В прихожей на цветном коврике стояли две пары пляжных пластиковых тапочек, и он с тревогой сообразил, что нужно разуться, а в целости своих носков он не был уверен, поскольку следил за ними сам. К счастью, носки оказались в приличном состоянии, и он поспешил влезть в холодные тапочки, дабы показать, что умеет уважать чужие обычаи.
Однако Зульфия смущенно сказала, что тапочки эти только для туалета, у них принято различать чистое и нечистое.
– Вы не бойтесь, у нас везде ковры, не простудитесь, – ободрила его Зульфия, и он заторопился сообщить, что совершенно не боится никакой простуды.
Идти действительно пришлось исключительно по коврам через большие комнаты, обставленные скромно, но чисто. Первая из-за ярких пластмассовых игрушек была похожа на детский сад, вторая из-за школьной доски – на классную комнату. Странно было видеть нездешние узоры арабского письма написанными мелом неумелой рукой.
В обычном канцелярском кабинете (только книги на полке стояли непривычные: Аль-Бухари Сахих, «Сады праведных», «Поминания Аллаха», «Права человека в исламе»…) Зульфия усадила его в кресло за стеклянный журнальный столик и в своем просторном лиловом облачении принялась его потчевать – ставить электрочайник, заваривать пакетный чай в цветастых чашках с блюдечками, расставлять чашки, подвигать ему вазочку с простеньким печеньем… Он и забыл, сколько теплоты может излучать самая незатейливая женская забота, и ему хотелось, чтобы она хлопотала и хлопотала, а что-то обсуждать – глядя на нее, он окончательно понял, насколько дела важнее слов.
И тоже не слова, а звучание ее голоса убеждали его, что она верит в то, что говорит. Уютно расположившись в кресле напротив, не притрагиваясь к своей чашке, она объясняла ему, какое это несчастье, что Муслимат не хотела по-настоящему вчитаться в суры Корана, тогда бы она избавилась от своей нетерпимости, ведь в Коране ясно сказано, что если бы пожелал Господь, то все люди уверовали бы, мы не делали тебя хранителем их, говорил Всевышний, и ты над ними не надсмотрщик, призывай к вере в Аллаха с мудростью и добрым словом, не ругай их богов, иначе они будут ругать твоего…
Наверно, в черно-зеленой книге все так и было сказано, да только кто же живет книгами. Если человек хочет рубить головы, он ищет топор; если хочет строить, ищет… Да тоже топор, топором можно и рубить головы, и обтесывать бревна. Вот и любая книга такой же топор.
– Вы не представляете, куда она могла отправиться? – неожиданно прервал он Зульфию. – У мусульман бывают монастыри?
Получилось даже невежливо, но Зульфия смотрела на него с прежней теплотой.
– Нет, нет, лучший мусульманин тот, кто живет с людьми и терпит от них, лучшее служение Богу – через служение людям. Один человек все время находился в мечети и молился, а пророк спросил: кто же его кормит? Ему сказали: его брат приносит и ему еду, и кормит его семью. Тогда пророк сказал: его брат и есть лучший мусульманин.
Андрею страшно не хотелось уходить от этих светящихся глаз, от этого убежденного и вместе с тем мягкого голоса, от этой маленькой, но все-таки женской заботы – словно от теплой русской печи на безжалостный мороз, но когда-то же надо было подыматься!
На мгновение я вновь вынырнул на матовой набережной Обводного и порадовался, как же я был прав, все эти дни без Ирки избегая женщин: я чувствовал, что они могут поколебать мою волю.
Вот и Андрей покосился уже каким-то особым взглядом, пересекая соседнюю комнату. За длинным столом там весело болтали другие молодые женщины в самых разнообразных хиджабах. Ближайшая к нему была в черном с лазурными цветами и новогодними блестками, попадались и веселенькие в цветочек, а один вообще красовался как-то даже залихватски, можно сказать, набекрень. Есть же счастливые люди – их женщины и в хиджабах, и смеются…
Однако тут до него дошло, что если не половина, то каждая третья из них – русские. Так что же получается – мы такие уроды, что нам наших женщин и удержать нечем?! На что же тогда мы вообще годимся?..
В нем впервые за все эти годы проснулась гордость: раз так, мы можем и перебиться. Одно дело, ты летишь к любимой женщине, которая ждет твоей помощи, другое – она выбирает других.
И когда за ним с лязгом захлопнулась стальная дверь, он внезапно обнаружил, что в мире еще сохранилась весна с ярко-синим небом и ослепительными облаками, со сверкающими зелеными звездочками молодой листвы на деревьях, с детским гомоном на сохнущих песчаных дорожках. Один пацанчик ревел во все горло над опрокинутым самокатиком, и охваченный забытой нежностью Андрей положил ладонь на его теплую стриженую головенку: что ты плачешь, голубчик, чем тебе помочь? Но мальчишка злобно отбросил его руку и принялся вопить еще пуще прежнего, адресуясь, по-видимому, к кому-то поважнее и понужнее.
И с Андреем приключился внезапный конфуз, какого с ним не случалось лет, может быть, с двенадцати – он разрыдался. Он стремительно зашагал прочь, стараясь спрятать мокрое лицо себе за пазуху, но содрогающееся тело спрятать было невозможно. Он уже хотел перейти на бег, как вдруг на его пути вырос зачуханный мужичонка:
– Слышь, друг, помоги на пиво…
– Отлезь!.. – зарычал Андрей и только чудом не отправил его в нокдаун.
Мужичонка испуганно шарахнулся, чем немедленно привел Андрея в чувство. Он нащупал в кармане сторублевку и, не глядя, протянул ее назад.
– Куда ж так много, – растроганно прозвучало оттуда, и Андрей почувствовал, как купюру осторожно тянут из его пальцев.
Сразу вот так взять и уехать ему показалось все-таки не очень красиво, он отдал ключи от опустевшего дома своей любимой ее замужней сестре, с которой его богиня на его памяти встречалась только раз, да и то очень кратко и холодно, и отправился на побывку к старикам на Рессорную. А оттуда – на Охотское море.
Когда-то, еще на практике, он разговорился на ветреной вечерней палубе с очень серьезным очкастым парнем во фронтовой плащ-палатке, и тот рассказал ему, что на биологической станции всегда требуется водитель катера наблюдать за косатками. Тогда это ему показалось не очень интересно, а теперь вдруг забрало, хоть он почти все и забыл. Вроде как косатки, облеченные вроде бы в один и тот же черно-белый камуфляж, бывают при этом типа компанейские и одинокие; компанейские всегда плавают стаями, одними и теми же маршрутами, едят, что отцы-матери ели: привыкли кормиться тюленями – значит, человека уже не тронут, разве что сам разляжешься на тюленьем лежбище, – ну и все такое. А бывают косатки-одиночки, которые все время ищут нехоженных-неплаванных путей и перекусить могут, кем им на ум взбредет. Они могут вести себя совершенно по-разному, иногда даже как акулы – заранее никогда не угадаешь. И прослушивать их очень трудно – они больше слушают сами.
Бродяги и домоседы настолько чужды друг другу, что даже и не скрещиваются. За домоседами наблюдать не очень трудно, хоть и опасно: нужно все время идти параллельным курсом как можно ближе, а десятиметровые самцы, бывает, примут за врага, кинутся и носом опрокинут катер. Нет, домоседы человека не тронут, тут обычно убивает холод, а вот как наблюдать за косатками-бродягами – их, кстати, англичане и называют китами-убийцами, – еще никто не придумал.
Так теперь он этим и займется, опыт у него уже есть.
Это было последнее, что я расслышал в его душе. А от его одинокой косатки до меня не донеслось ни единого звука, – лишь напрягаясь изо всех сил, я еле-еле сумел разобрать, что она плещется где-то на Северном Кавказе.
Если бы каждый раз не приходилось подавлять ужас, доктор Бутченко меня бы даже забавлял: с первых слов обычно прорывалось простое человеческое удивление – ничего не понимаю, давления нет, а наполнение пульса неплохое, – но он тут же спохватывался и пытался восстановить свой жреческий авторитет потоком заклинаний: токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсическая энцефалопатия, токсическая кардиомиопатия, печеночная дефицитарность, протромбиновый индекс, эуглобулиновый лизис, зондовое питание…
– Вы замечали у нее нарушения памяти – двадцать раз рассказывает одно и то же, и ей тоже можно двадцать раз рассказывать одно и то же?
– Да, было такое.
– Вот видите – алкогольная энцефалопатия.
Наверно, и не без того. Но когда она мне жаловалась, что никак не может запомнить, кто умер, а кто жив, мне это казалось нежеланием мириться со смертью, и более ничем.
В сверкающем аэропорту Минвод я долго стоял, облокотившись на круглый столик и уже не понимая, в какой я стране. Если бы передо мной на тарелке лежал чиз-кейк, а не плоский бледный пирожок с сыром и какой-то зеленой веточкой, я бы окончательно забыл, что я на Кавказе. Я не хотел доедать этот пресный вкусный пирожок, ибо, доевши, необходимо было что-то предпринимать, а что – я не знал.
Если я даже каким-то чудом отыщу эту вечно неутоленную бабочку-одиночку, каким таким словом я ее обольщу? Ведь никакого дара слова у меня нет, брал я только хитростью и удачей, и покровительствовал мне никакой не Орфей, а всего только Гермес. Разве что Орфей за меня перед ним походатайствовал…
Среди озабоченной толпы одиночество всегда ощущается острее, но здесь меня окружали люди, среди которых даже по случайности не могло оказаться никого своего. И я воззвал к Орфею: помоги мне сделаться здесь своим хоть для кого-нибудь!.. Нет, для того, кто мог бы мне помочь!
Внутри я обращался к нему на ты, без условностей.
И ср а зу…
– Почему такой грустный, отец? – меня бы покоробило от такой фамильярности, если бы в этом голосе вместе с сильным кавказским акцентом не прозвучало столько искреннего сочувствия и почтения.
На мой столик напротив меня оперся юный, однако небритый до крайности мужественно горный орел в круглой черной тюбетейке и черной же кожаной куртке. Он походил на абрека, но голос его сразу вызывал доверие. Я вообще люблю кавказский акцент – он всегда вызывает у меня представление о чистосердечии и вере в какую-то высшую справедливость.
– Идрис, – он протянул мне твердую руку через пирожок более чем уважительно.
Я назвался тоже по имени, однако он почтительно, но твердо потребовал присоединить отчество, и с этой минуты называл меня только так.
– Я смотрю – такой культурный отец стоит такой грустный, никого не встречает, никуда не идет, ничего не кушает… Я подумал: наверно, какие-то неприятности. Вы же не местные?
– Нет, из Ленинграда, – я побоялся, что девичья фамилия Петербурга будет воспринята как попытка возвыситься – и только тут до меня дошло, что из моего голоса после разговора с Орфеем исчезла осточертевшая мерзкая сипота.
– О, такой культурный город! Не был никогда, только в Москва-Шмосква катаюсь туда-сюда. А в Ленинград – нету времени. Потом документы-шмокументы начнут спрашивать… – Он безнадежно-презрительно махнул рукой, словно речь шла о не заслуживающих внимания склочниках. – А вы зачем к нам приехали? Какие-то неприятности, правильно говорю?
– Правильно, – вздохнул я и, с недоверчивой радостью прислушиваясь к звучности своего голоса, рассказал историю бедного Андрея, выдав его за своего друга.
Да он и вправду сделался мне другом за те часы, пока я вслушивался в его судьбу.
Идрис сочувственно покивал, проникновенно поцокал языком, ответственно подумал. И просветлел в своей непроглядной щетине:
– Здесь один только человек может помочь. Мухарбек. От него никто не ушел с пустыми руками. Вдова, сирота – всем что-то дает. Как, Мухарбека не знаете? А говорят, Ленинград культурный город… Вы не обижайтесь, вырвалось.
– Нет, это вы не обижайтесь. Но я вообще далек от политики, а тут с этими неприятностями совсем отстал… Это что, президент?
– Какой президент-шмузидент!.. Президента сегодня назначили, завтра отчислили, а Мухарбек всегда Мухарбек. У нас так рассказывают: стоит на остановке девушка без платка. Мужчина ее спрашивает: ты почему без платка? Она говорит: ты что, отец мне, что замечания делаешь? Он говорит: а если бы отец сказал, ты бы надела платок? Она говорит: не надела бы. «А если бы Мухарбек сказал?» – «Если бы Мухарбек сказал, и ты бы надел платок».
Я грустно посмеялся – мне было совсем не до смеха. Идрис тоже это понял.
– Все, докушивайте ваш пирожок, допивайте ваше кофэ – пойдем к Мухарбеку. Я в его экскорте сопровождения. Через весь город прошли на сто восемьдесят.
Я выразил унылое восхищение.
В углу провинциальной площади столпились лакированные, как гондолы, черные иномарки величиной с прежнюю карету скорой помощи – опять забыл, как их называют, эти кроссинговеры… Идрис поставил меня у одного из них и куда-то исчез. Я некоторое время ждал в полном отупении, как привязанный пес у магазина. А потом снова взмолился: Орфей, родной, шепни за меня словечко!.. И тут же Идрис вновь возник передо мной, окончательно просветлевший:
– Я же говорил: Мухарбек никого не оставит без рука помощи.
Раздался различимый лишь своими сигнал «по коням!», во главе колонны возникла милицейская мигалка с сиреной, прокладывающая нам дорогу среди плебейских жигулей и самосвалов, и мы рванули. Я хотел пристегнуться, но Идрис остановил меня со снисходительной улыбкой: это у вас в России надо пристегиваться…
Замешкавшиеся на спуске в кювет самосвалы просвистывали в сантиметре от моего локтя, да еще и сами кроссинговеры иногда вступали в состязание друг с другом, и то мы принимались кого-то медленно обгонять, то нас кто-нибудь, но если в эту минуту начинала маячить встречная машина, выбившийся из ряда джигит запрыгивал обратно в колонну, хотя место для него там не всегда отыскивалось. Однако в сантиметре от чужих бамперов все пока что хоть с трудом, но втискивались. Я понял, что если буду напрягаться и обмирать каждый раз, когда окажусь на волосок от гибели, то доеду до места уже совершенно седым, и решил положиться на судьбу. Тем более что скорость ни разу не дошла до гордых ста восьмидесяти, а колебалась в районе скромных ста шестидесяти пяти.
Мимо проносились начинающие темнеть холмы, из которых время от времени вырастала мохнатая гора до неба, но все-таки не до снегов, а иногда за окном оказывалась равнина с унылыми полями пожухлой кукурузы. В ординарные советские городки мы не заезжали, пронзая разве лишь их обочины.
– Это ничего, – ободряюще улыбнулся мне Идрис сверкнувшими из черной щетины зубами. – Вот когда я из Москва иду на новой машине – за один ден доезжаю.
Я почтительно покивал, стараясь не отвлекать его от дороги, но он не удержался, чтобы еще раз не прихвастнуть:
– Последний раз за шестьсот тисач машину взял, а продал за миллион.
– Да-а… Мне год надо работать.
Все же голое восхищение показалось мне слишком формальным, и я поинтересовался сочувственно:
– А милиция в Москве не цепляется?
Мой вопрос доставил Идрису двойное удовольствие:
– Если, бывает, цепляются, я звоню нужный человек: я от Мухарбека. Он спрашивает: какой район? Потом звонит начальник милиции: ты что, хочешь себе какие-то неприятности? И все, выпускают. Но я больше люблю, когда все цивилизованно: ты человеку даешь денги – он к тебе не привязывается. Надо чтобы – как это по-русски? – авторитет какой-то люди уважали. Он сказал: ты вот так делай, ты вот так – и все тихо-мирно. А то что бывает? Твой родственник кого-то убил, его родственники тебя убили – кому хорошо? Мой дядя еще при советской власти был очен большой человек – главный инженер, с московский диплом, паритийный, и получился такой случай: у них на фабрике наградили комсомольскую бригаду, что они хорошо план перевыполнили. Наградили поехать на автобусе куда-то – не помню, я еще маленкий был. И они, эти комсомольцы, ждут автобус, а у шофера в этот ден кто-то умер, и он не приехал. А комсомольцы подумали, это мой дядя виноват, они сидят, пьют и его ругают. А тут идет его сын, мой двоюродный брат. Они на него напали: твой, говорят, отец такой-сякой, и начали его бить. Бьют, бьют, он видит – сейчас упадет, тогда со всем убьют, он вытащил ножик-складишок, такой, как мой мизинец, и ударил одного в живот. Тот даже не по смотрел, моего брата только мать одного этого комсомольца у них отобрала, объяснила, что мой дядя не виноват. И этот раненый еще пошел пить, а оказалось, у него… Как это называется по-русски, когда кров не из живот течет, а наоборот, в живот? Да, правильно, внутреннее кровотечение. И он начал падать. Пока вызывали доктора-шмоктора, пока кров искали – у него была какая-то неправильная кров, – он умер. Суд присудил как не умышленное убийство при самооборона, дал год условно, а родственники того сказали, что кого-то убьют из дядиной семьи. И дядя с моим двоюродным братом уехали скрываться в Казахстан, строили коровники. Как такое может быть – с московский диплом чтобы строил коровники! Пока младшему сыну исполнилось четырнадцать лет. Тогда к их дому подъехали три человека в масках и застрелили его из ружья, моего двоюродного брата, и уехали. Тогда дядя написал Мухарбеку, что не хочет больше кров. Написал: они потеряли сына, мы потеряли сына, хватит искать кров. Мухарбек собрал два семья и сказал: кто простит кров, это самый дорогой человек для Аллаха. Так и закончили, цивилизованно. Мухарбек всегда был в большом авторитете, он же из рода святого шейха…
Идрис произнес какое-то имя из двух частей, но я расслышал только вторую – Хаджи, а переспросить посте снялся, чтобы окончательно не уронить репутацию Ленинграда как культурного города. К тому же Идрис больше не называл святого по имени, но именовал просто Устазом – явно с большой буквы. Устаз, как я догадался, означало учитель: у кого нет Устаз – у того устаз шайтан, разъяснил мне Идрис. Он так увлекся рассказом, что даже отстал от колонны, сбавив скорость до жалких ста пятидесяти.
И вдруг у меня перед глазами плеснуло желтое пламя. А в следующую секунду я уже снова откинулся на сиденье, держась за лоб, которым впилился в переднее стекло, и не вполне понимая, что такое гневное несет мой сосед: он же не имел права там ставить машину, ишак, без задние огни, еще за мостиком, хорошо, успел тормознуть, если бы мы врезались, он был бы виноват!..
– А что, нам бы на небесах от этого было легче?
– Зачем сразу на небесах? Я уже переворачивался, и ничего. Только ключица сломал, и нога треснула. Ну, еще туда-сюда, голова немножко сотряслась…
Идрис оказался прав: не надо драматизировать, уже назавтра лоб у меня почти не болел. Но для разрядки бесстрашный джигит все же поставил какую-то современную тупейшую эстраду. Я потерпел-потерпел и попросил чего-нибудь местного. Идрис послушно включил захватывающую дух необъезженную музыку, под которую задыхающийся от страсти мужской голос повторял и повторял какое-то слово – наверняка «Любимая! Любимая!», – я был готов впивать его и впивать без конца, а когда голос все-таки умолк, я сумел выговорить лишь после длинной паузы:
– Про что эта песня? Про любовь, наверно?
– Нет, про Мухарбека. Он за нее тот, кто сочинил, машину подарил. Он сам и поет.
– А что за слово он повторяет?
– Отец, отец.
Подъехали мы к резиденции Мухарбека в полной темноте, которую не могли разогнать даже бесчисленные горящие окна, – я совершенно не представлял, что нас окружает. Зато три длинных двухэтажных здания из светлого кирпича, окруженные неприступной кирпичной стеной, были видны яснее ясного.
Листовые железные ворота медленно отворились, и мы въехали в театрально сияющий двор, такой длинный, что столпившиеся в дальнем конце сверкающие колымаги заняли только половину пространства. Нас встретили приветливые женщины в платках и, отделив меня от Идриса, повели, мне показалось, в банкетный зал, окружив такой нежной заботой, что я уже не знал, куда деваться, – мне нечем было им ответить – оставалось утешаться тем, что на меня работает обаяние Орфея. Бочком, бочком я отправился искать туалет, и они тут же выпустили меня из своей ауры, деликатно намекнув, что мне нужна дверь возле лестницы. В этом интимном уголке все было абсолютно по-европейски, только на полу стоял кувшинчик с изящным носиком из «Тысячи и одной ночи».
Чтобы прийти в себя, я поднялся на второй этаж, где у входа в сверкающий зал с дворцовым паркетом стояла корзина с голубыми больничными бахилами. Натянув бахилы, я вступил в дворцовый блеск. Вдоль стен шли застекленные книжные шкафы, и я прильнул к ним, как к весточке из прежнего мира. Похоже, сюда была целиком закуплена какая-то районная библиотека – в алфавитном порядке шли сочинения Бабаевского, Гегеля, Гоголя, Гюго, всех Ивановых, Каверина, Нексе, Проскурина, трех Толстых, Митчелла Уилсона, Эренбурга, Языкова и Бруно Ясенского. Его роман «Человек меняет кожу» был популярен у нас на Паровозной. Могли вдруг напористо предложить: «Скажи: человек меняет кожу!» А когда ты в растерянности повторял, тебе отвечали с торжествующим смехом: «С моего двадцать первого пальца на твою поганую рожу!»
Идрис, однако, не позволил мне долго бродить по этим Елисейским полям – он почтительно сообщил, что меня хочет видеть Мухарбек.
Мухарбек был в расширяющейся кверху круглой твердой папахе из серого шелковистого каракуля, и лицо его с коротко остриженной серебряной бородой выражало такое приветливое достоинство, что все бесчисленные президенты, каких мне случалось видеть по телевизору, годились ему разве что в шустрые референты. Как он только сохранил все это в казахстанском изгнании?
Не сохранил – где почерпнул?
Уж не знаю, что здесь действовало – чистое великодушие или обаяние Орфея, но прежде всего хозяин заверил меня, что я могу оставаться в его доме сколько мне пожелается и о малейших неудобствах должен тут же сообщать лично ему (я изобразил невозможность желать еще чего-то сверх благ, уже мне дарованных). Что же до беды моего друга, он попробует что-то сделать, но обещать невозможно (я изобразил, что понимаю это как нельзя лучше и буду бесконечно благодарен даже и за бесплодные усилия).
Потом меня накормили за отдельным столом вкуснейшей вареной бараниной с горячими полулепешками-полупирогами, – мне показалось, с творогом и зеленью. Черноглазый парнишка лет шестнадцати ухаживал за мной с такой проникновенной заботой, как будто я был… Даже не могу подыскать, кто – у нас так не ухаживают и за родным отцом.
А оказавшись в своей комнате, я снова перестал понимать, в какой я стране – хорошая европейская гостиница, и все тут.
Мухарбек внушил мне такую надежду, что тревога даже не приближалась к моему ложу: я заснул, чувствуя себя почти счастливым. И, что еще более удивительно, таким и проснулся. Не сразу вспомнив, что ночью я уже просыпался от выстрелов – не столько пугающих, сколько вызывающе бесцеремонных, – палили то одиночными, то очередями, то соло, то дуэтом, то трио. Я было поднапрягся, но, видя, что никакой суматохи в доме не наблюдается, а значит, отбивать штурм не требуется, заснул снова.
Завтрак мне был подан, чуть я высунул нос, – опять горячие лепешки и воздушное печенье, напоминающее наш хворост, только очень крупный и незакрученный. Парнишка – его звали Иса – снова ухаживал за мною так, что я чувствовал себя жуликом, которого принимают за кого-то несравненно более заслуженного: мне снова приходилось утешать себя тем, что служат не мне, служат Орфею.
После завтрака Идрис предложил мне навестить могилу Устаза, которую он назвал не то зерат, не то зиерат. Разумеется, я согласился.
– Да, а почему ночью стреляли? – спросил я как можно более небрежно, чтоб не подумали, что я испугался.
– Праздник вчера был. Свадьба. Ребята немного посалютовали, туда-сюда.
На улице было пасмурно. Двор Мухарбека восстал на вершине каменистого холма, который не сразу решишься назвать горой. Остальные дома крепкого красного кирпича, окруженные садиками и подворьями, в которых ощущались коровы и овцы (кое-кто из них бродил по склонам, пощипывая наметившуюся первую травку), расположились пониже. Среди них виднелась и мечеть, не слишком большая, но очень красивая – с золотящейся кровлей, синеющими изразцами и, чувствовалось, совсем новенькая. Другие холмы позади нее таяли в тумане.
– Мухарбек построил, – с гордостью указал на мечеть Идрис.
Когда мы на нашей карете миновали вторую компанию мальчишек в тюбетейках, я сообразил, что, может быть, неприлично являться к святыне с непокрытой головой, и спросил у Идриса, не найдется ли у него лишней тюбетейки. Вместо ответа он притормозил у третьей компании и, приоткрыв дверцу, подозвал ближайшего пацана; затем, не говоря худого слова, снял с него головной убор и спокойно газанул. Мальчишка пытался за нами бежать, но не человеческим ногам тягаться с автомобильной промышленностью Запада.
Поколебавшись, я решил-таки уважить местные обычаи и пристроил черную бархатную шапочку у себя на макушке.
К могиле Устаза от мечети вела прямая эспланада, мощенная керамической плиткой; сама могила была окружена просторной кованой решеткой и тоже покрыта позолоченной выпуклой кровлей с полумесяцем на вершине. Надгробие же было очень скромное – узкая заостренная стела темного мрамора с арабской вязью и золотым полумесяцем.
Засмотревшись, я снова пропустил начало и уже не решался спросить, когда это было – при Советах или при государе-императоре: «…Начальники сам банидитничал хуже абреков… Сам банидитничал, а всегда кто-то наш виноват – то абреки, то боевики, то вакхабисты, сами хуже вакхабистов… Народ стал прятаться в горы… Устаз стал за них заступаться…»
– Что интересно – он сам знал, куда его отправят. Пришел, сказал жене: собирай вещи, поедем Сусольск… есть такой город?
– Наверно, Усть-Сысольск? – мне показалось, на родине акцент у Идриса усилился.
– Да, наверно. Усть-Сусольск. Приехал и сам пошел в тюрма. Они говорят: как, мы ничего не знаем. И тут пришла бумага: взять в заключение. Но во время намаз он всегда молился во дворе. Камера закрыта, а он во дворе. Чтоб небо было сверху. Начальник бежит, охрана ругает: ты такой-сякой, я тебя самого посажу – а Устаз уже сидит на нары, четки перебирает. И сейчас, из могилы, помогает народу. К нему приезжают больние, парализованние, слепые, всякие, и он всем помогает. Иногда даже обидно бывает: про это им говоришь, а люди думают, ты какие-то сказки рассказываешь. Можете сами у него что-то попросить – увидите, обязательно подаст рука помощи.
И я взмолился со всей страстью: «Пускай Ирка воскреснет!» И только на следующий день сообразил, что я имел в виду не просто «выживет», а сделается такой, как раньше. В сказках всегда так – в просьбе открывается какой-то второй, издевательский смысл. Есть анекдот: муж и жена попали в аварию – на муже ни царапины, жена в реанимации. Выходит врач: «Ну, что – лобные доли разрушены, говорить не будет, будет мычать, пускать пузыри. Позвоночник сломан, ходить не будет, только под себя. Зато остальные органы в порядке, лет двадцать еще проживет». Муж начинает сползать со стула, и тут доктор ободряюще треплет его по плечу: «Да пошутил, умерла, у мерл а».
А что, если бы Ирка ожила и сделалась трезвой и деловой бизнес-вумен?.. Что тогда?
Лучше уж положусь на Орфея, он издеваться не буде т.
– …Распорядился снести, – вновь услышал я голос Идриса. – Зачем такое – народ ходит, чудеса происходят, приказал: снести. Прислали бульдозер. И только бульдозерист взялся за рычаг, его самого разбил паралич. Так и умер.
– Что ж он не попросил, чтоб святой исцелил?
– Наверно, не догадался. А святой всегда учил: надо прощать. Он был ужасно мудрый. Его один раз спросили: что такое воровство? Он сказал: если берешь и оглядываешься, значит воровство.
В его голосе звучала такая уверенность в своей правоте, что, подогреваемый затлевшей тюбетейкой, я решился проверить давно блуждающий слух, что у немусульман красть-де разрешается.
– Какой ишак такое сказал?! Устаз говорил: украдешь у мусульманина, он тебя еще может простить на тот свет. А немусульманин уже никогда не простит. Хотя хороший человек и немусульманин может попасть в рай, – поспешил успокоить он меня.
– А как же мы у пацана забрали тюбетейку?.. И даже не оглянулись.
– Так это мой племянник! Нет, у чужой нельзя. А вы хотите посмотреть фотография Устаза? Мухарбек дал ученым денги, они собрали целая книга святых шейх.
Книга оказалась не толстая, но роскошная, с золотыми тиснеными узорами. Зато фотографии были подлинные, черно-белые, не огламуренные даже слишком шикарной глянцевой бумагой. А уж лиц такого благородства и достоинства у нас и отыскать невозможно – у нас просто-таки нет миссии, в которой бы человек мог ощутить такую свою высоту.
Нельзя просто возвыситься духом – нужно, чтоб было куда возвышаться. А если возвышаться некуда, если ты сам мера всех вещей – тогда и пеняй на себя, что остался карликом.
После этого я тоже возвысился до второго этажа и собрал все, что писали о Кавказе наши классики от звонкого Марлинского до богоравного Толстого, – и уже к полуночи держал в руках изумившее меня открытие: у кавказцев, как мы их изображали, отсутствовала метафизика.
Если выражаться по-умному. А если по-человечески, горцы были гордые, меткие, бесстрашные, но они никогда не размышляли ни о чем высоком. Даже Толстой расщедрился на одни только детские воспоминания. Этот богоискатель и богоборец, духовные искания русских героев изливавший десятками страниц, прорезая прозу неразбавленными дозами Евангелия, на Кавказе не расслышал и слабого эха Корана.
Можно людей, оказывается, воспевать и так – как тигров, как ланей, как татарник, – не слыша главного – мечты о чем-то неземном, без которой человек невозможен.
На следующее утро стыд за нашу глухоту мешал мне смотреть в глаза не заботливым – нежным хозяевам. И незримо присутствующий всюду Мухарбек немедленно это почуял. В мой еврономер, откуда я старался не казать носа, почтительно постучался Идрис и осторожно спросил, не хочу ли я отдохнуть в «Горный ключ». При советской власти паритийные начальники отдыхали, а теперь Мухарбек, кого хочет, посылает бесплатно.
Мучительно ощущая, сколь далеко моим благодарностям до горского чистосердечия (одно утешение – они служат Орфею, а уж он-то заслужил!), я поспешил согласиться.
До «Горного ключа» мы успели промчаться через несколько миров. То нас выносило на обледенелую дорогу, слева от которой бешено мчалась обмороженная трава с забившимся кристаллическим снегом, а справа, будто с самолета, открывалась меж невесомыми облаками изумрудная долина, прорезанная поблескивающими паутинками речек; то мы неслись не ущельями – щелями, стены которых уходили неизвестно в какую высь, заходя друг за друга, нависая над нами то одной, то другой стороной, – каменная халва сменялась круто замешенным каменным тестом, распахиваясь в осыпи, над которыми чудом удерживались прозрачные рыбьи хребтики еще не одевшихся листвою деревьев. А бешеная речка, взбитая, словно безе, сумевши отыскать защищенную заводь, отпечатывалась в памяти неземной прозрачностью и покоем…
«Горный ключ» встретил нас гвардейским строем торжественных кремлевских елей, за сетчатой оградой сменившихся тонкими, солнечными даже в подступающем сумраке, совершенно летними соснами.
– За территория лучше не надо ходить, – извиняющимся тоном попросил меня Идрис, как будто чувствуя себя лично за это ответственным. – Правда, если что, всегда надо сказать: я гость Мухарбека, не надо всякие неприятности искать, можно так и здоровье потерять… Но бывают такие ишаки – никого не уважают, туда-сюда…
Ему было совестно, что среди его соплеменников встречаются подобные уроды.
– Конечно-конечно, везде бывают дураки, – поспешил утешить его я, про себя-то думая, что Орфей не даст меня в обиду.
Но может быть, его власть на ишаков не распространяется?
Партийные начальники были по-ленински скромны: полированная мебель и сама-то по себе сегодня смотрелась довольно убого, а уж в возрастных язвах, обнажающих ее опилочную природу… Но зато в окне!..
На первый взгляд казалось, что это наш простой среднерусский холм, приходящий в себя после жестокостей зимы, покрываясь по черно-рыжему легким зеленым напылением. И только когда взгляд замечал ближе к макушке четырехгранную каменную башню величиной с мизинец, до тебя доходила огромность этого склона. А когда я вышел на противоположную веранду, я обмер, чтобы так больше и не ожить.
Это были сияющие изломы вечных снегов. Громадность, изящество, тяжесть, легкость, неземная чистота снега, подкрашенная еще более неземной чистотой заката, – что тут могут слова! Сразу после завтрака (здесь кормили тоже в стиле партийного ретро – без выкрутасов, но и без надругательства, здесь сохранился даже полузабытый компот из сухофруктов) я садился на венский стул, чью неудобную сквозную спинку переставал ощущать уже через мгновение, и исчезал, оставались только они, горы.
Но во мне, даже исчезнувшем, немедленно прорастали два разных слуха – первый слышал все, что стоит слышать, а второй – только то, что было обращено ко мне. Первый слышал даже грозное шуршание снежных лавин, для второго и тектонические катаклизмы, громоздившие эти хребты, совершались в абсолютном безмолвии, – зато первый был глух для вульгарного тарахтенья поселкового мопеда, в котором второй отчетливо разбирал мечту о гордом верном скакуне. Но они оба, слух здешний и слух нездешний, подобно верному скакуну, вскидывающемуся на посвист хозяина, разом подбрасывали меня с венского стула при первых же звуках необъезженной музыки, которую в пору моего детства именовали то кабардинкой, то лезгинкой.
Я так и не понял, что здесь делали эти школьники и школьницы, но когда гордый горский танец захватывает не сценических красавцев и красавиц в роскошных одеяниях, а обычных девчонок в платьицах и туфельках и обычных мальчишек в джинсиках и кроссовках – только тут-то и раскрывается его собственная красота: в танце открывалось столько восхитительных мелочей, которых никогда не разглядишь на сверкающей эстраде. Вот какими они приоткрываются в собственной мечте: мужчина – огонь, напор, полет, женщина – царственность, невесомое скольжение и ускользание, – и его огненный вихрь каждый раз разбивается о ее нездешнюю кротость…
Я готов был забываться перед этими танцами так же бесконечно, как перед горами. Не уставая дивиться, что, покинутые духом танца, огонь и царственность немедленно обращаются в обычных мальчишек и девчонок. Хотя и не совсем обычных. Поднимаешься по лестнице и слышишь, как мальчишки гурьбой с воплями катятся сверху, – заранее хочется прижаться к стене, чтобы не сшибли. Но в последний миг они видят взрослого и даже, по их меркам, может быть, и пожилого человека, и – мгновенно рассыпаются, осторожно проходят мимо, почтительно здороваясь.
Девочки, конечно, по лестнице не носятся, но если столкнешься с ними в дверях – даже с большими, почти девушками, – никакими любезными ужимками не заставить их пройти первыми: старшего надо пропускать, и никаких галантных гвоздей.
Мы все стараемся их развить до нашей высокой цивилизации, а сам-то я где бы предпочел жить – в мире, где у каждого по три мобильных телефона, или в мире, где уважают старших? В мире, где моя жена ходила бы в платке, или в мире, где она валяется у сортира с задранным подолом?
Моему обращению в ислам, кажется, воспрепятствовал только Идрис. Он явился утром столь ранним, что наверняка выехал глубокой ночью, и поинтересовался, как мне здесь нравится, без обычной сердечности.
Возле Мухарбека кто-то… Как это называется, когда слушает и про все докладывает? Да, вспомнил: стучит. Кто-то настучал, и жена моего друга куда-то ушла, спряталась. Мухарбек еще будет ее искать, но мне надо уехать. Прямо сейчас. У меня ведь мало вещей – надо сейчас же все собрать и уезжать. А то эти вакхабисты могут подумать, что я хочу чего-то разузнать про их база, а им, если вобьют в голова, ничего не докажешь.
И прощаться тоже не надо, выходим через задний двер.
Я решил не испытывать пределы влияния моего покровителя и последовал совету Идриса. Хотя и тревоги особой не испытал.
Так я снова оказался в сверкающем аэропорту, тут же переставши понимать, выезжал я отсюда или мне все это только привиделось.
Мы снова стояли за тем же самым столиком, ожидая объявления. Билетов до Петербурга не было, но для гостя Мухарбека местечко, разумеется, нашлось.
– Идрис, простите, вы не забыли передать тюбетейку вашему племяннику? Чтоб у него не осталось обиды против меня.
– Нет-нет, он спасибо просил передать.
И тут раздались выстрелы. Два подряд. Они были не столько громкие, сколько пугающе бесцеремонные. Все замерли, и тут же многие, подхвативши детей и вещи, ломанулись к выходу. А я во главе немногих неверной рысью устремился туда, где только что раздавалась стрельба, не слушая Идриса, умолявшего: не надо туда ходить, что я скажу Мухарбеку?..
Два охранника в черном что-то делали с распростертой на полу женской фигурой, укутанной во что-то еще более черное, кромешное, как ненастная ночь в погребе. Видны мне были только полуприкрытые глаза, но я и так знал, что это моя искательница подлинности в мире подделок.
И пуля оказалась неподдельной.
А прежде чем нас оттеснила милиция, мой обострившийся слух разобрал:
– Что за птвоюмать – пластилина нет!..
– Как нет, она ж провода при мне соединяла, я еле среагировал!..
– Провода есть, а пластилина нет.
– Вообще нет, ни одного сникерса?
Я сразу понял, что речь идет о взрывчатке.
Мне казалось, я был готов к такому финалу, и все-таки пальцы не сразу попадали на нужные кнопки, когда я звонил Беллиной сестре прямо из аэропорта, представившись сотрудником фээсбэ и, чтобы не сорвался голос, изображая удвоенный служебный напор. Она была потрясена, но не удивлена. Выразив беглое официальное сочувствие, я спросил, не знает ли она, кто такой Андрей.
– Ваша сестра звала его перед смертью. Может быть, это ее соучастник? Мы должны его допросить. Вы знаете, о ком идет речь?
– Н-не знаю…
– «Нне знаете» или не знаете? Если скрываете, вы тоже становитесь соучастником.
– Так звали ее мужа, он теперь где-то на Охотском море. Он сам ее потерял. Он мне иногда звонит, спрашивает…
– Вот так-то лучше. У вас есть его телефон?
– Нет, он сам мне звонит. Там мобильный не берет.
– Когда позвонит, скажите, что мы его разыскиваем. Как его отчество, фамилия?
– Я даже не знаю – Андрей и Андрей, мы почти не общались.
– Муж сестры, и вы с ним не общались?
– Если бы вы знали мою сестру… Я и с ней почти не общалась.
– Так вы поняли? Когда он вам позвонит, непременно передайте ему, что случилось, и скажите, что мы хотим его видеть, он может обратиться в местное отделение фээсбэ. Иначе вы подпадаете под статью о неоказании помощи следствию.
– Я обязательно передам.
Кажется, я немножко отвлек ее от потери сестры и мог уже не сомневаться, что она все ему передаст.
Проваленная операция была успешно завершена.
Или я сотворил еще одну глупость? Так у несчастного Андрея оставалась хотя бы надежда, а теперь… Я плохо соображал. И, не отходя от автомата, набрал доктора Бутченко. На этот раз я действительно был готов к худшему.
Однако голос доктора вибрировал оптимизмом и нескрываемой гордостью. Лейкоциты изумительные, нейтрофилы просто зашибись – хочешь сегментоядерные, хочешь палочкоядерные, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, СОЭ – те вообще хоть на выставку. Но после выписки все-таки не помешает сирин в таблетках недели три-четыре.
– Как, речь идет уже о выписке? – безнадежно переспросил я: мне было ясно, что Орфей еще не знает о моем провале.
– Да, можете ее забирать хоть завтра.
– И она что, в сознании, разговаривает?..
– Разговаривает как мы с вами, все помнит. Смотрит телевизор, читает газеты. Про вас постоянно спрашивает.
– Неверо… Так что же, все-таки чудо?..
– В медицине чудес не бывает. А бывает правильно и своевременно оказанная терапия.
Что еще выдумали – чудо!.. А инфузионная терапия? А комплекс аминокислот? А введение глюкокортикоидов? А глутаргиновая гепатопротекция? А коррекция электролитного баланса аспаркамом? А витаминотерапия? А сирин в качестве гепатонефроцеребропротекторного средства?
– В общем, можете ее забирать.
Во дворе мне навстречу просияла одна из тех соседок, которых Ирка каким-то чудом ухитряется различать: