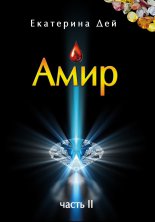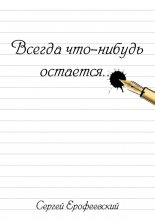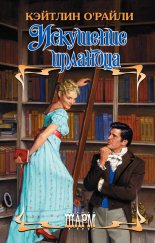Каменное братство Мелихов Александр

Двигаюсь еще выше в заросшую гору по утоптанной дорожке, которая с каждым десятком шагов становится все уже, уже, то слева, то справа открываются проплетенные колючками бездны, и вот я карабкаюсь по узенькому руслу пересохшего ручья, глубоко прорывшему напичканную булыжниками и каменными пластинами, прошитую корнями землю, и мне в лицо тычутся то пучки зеленых игл, то когти сплетающихся кустов, и я уже опасаюсь остаться без глаз, тем более что русло часто взмывает вверх до того круто, что иной раз приходится переходить на четвереньки, и когда мне наконец приходит на ум, что спуститься будет не так-то просто, я понимаю, что для этого мне пришлось бы половину пути съезжать и оказаться внизу с головы до ног перепачканным и ободранным.
И я среди остервенелого птичьего щебета и редких брызг маковой крови (кровь земли, пробившаяся к небу, вспоминаю Пасынка Аллаха) продолжаю карабкаться вверх – авось куда-нибудь да выберусь.
И тут, как гром среди ясного неба, грянул гром, разом расколовший и небо, и землю. А за ним обрушился ливень – исламисты не дремали.
Ледяные струи секли бичами, но я не чувствовал боли, ибо уже скользил вниз по рыжему мылу, в считаные минуты обратившемуся в рыжий шампунь, и я уже лежал на брюхе, вбивши пальцы в ил и песок, а несущаяся с горы жидкая грязь молотила по мне камнями. Последний булыжник бухнул меня по темечку так гулко, что голова переполнилась звоном.
Боли я снова не почувствовал, только звон, но все-таки понял, что вот-вот сейчас меня оторвет и покатит – какие овраги и обрывы меня ждут внизу, я помнил смутно, но туда мне совершенно не хотелось. Я вырвал пальцы из грязи (меня тут же поволокло вниз), но, прежде чем мое тело успело набрать неуправляемую скорость, я ухватился за деревце на краю арыка и сумел выползти из остервеневшего потока на проросший кустарником склон.
Но даже и там путь наверх показался мне менее опасным. Цепляясь за кусты поближе к корню, переводя дух под деревьями, не замечая ни ледяных бичей ливня, ни жгучих скорпионов терновника, я карабкался и карабкался, пока не выбрался на большую поляну, откуда мне открылся исполинский крест, чья вертикаль напоминала железнодорожный мост, поставленный на попа. Но мне было не до крестов: оскользаясь по кипящей траве, я ринулся к скучному одноэтажному дому с выбитыми рамами. Ветхая деревянная дверь оказалась незапертой, и я, задыхаясь, ввалился внутрь.
Дом оказался без крыши и без пола, и у противоположной стены в совершенно сухой зеленой футболке стоял человек с прозрачной пластиковой бутылочкой в руке. Увидев меня, он набрал воды в рот и раздул щеки, чтобы прыснуть мне в лицо, как это делают гладильщицы, желающие увлажнить проглаживаемую скатерть.
Ночевали мы с моей начальницей службы безопасности на границе с Албанией на берегу необозримого горного озера в напоминающем фабрику плоскокирпичном византийском монастыре, под окошками которого всю ночь издавали пронзительные крики бесноватые, чью душу, невзирая на святое место, никак не желала покидать нечистая сила (крик петуха обратил их в царственных павлинов, попрошайничающих у кухни, словно простые куры). Я же попросил рыбу по-далматински: какая разница, с беконом, не с беконом – звучит интересно, это важнее всего. И пускай себе рыба пахнет копченой ветчиной – красивые звуки все перевешивают.
Виола не готова для звуков жизни не щадить, ей надо, чтоб было реально вкусно, но сейчас для нее главное, чтобы исламисты меня не отравили. В магазинах она всегда выбирает пакеты и бутылки из самого заднего ряда, а на каждом ночлеге заглядывает в стенные шкафы и заставляет меня ежеминутно протирать руки спиртовыми салфетками – вдруг где-то мне подсунули под руку сибирскую язву. Святость места тоже не гасит ее бдительности, тем более что остановились мы в гостилнице для черни – вернее, гостилница вовсе даже столовая, а гостиница – это хотел. И я не хотел спорить, у нас впереди была Атина.
Лишь когда синие дали и зеленые близи, необъятные просторы и каменные теснины, снежные языки вершин и вскипающие яблоневым цветом долины, сверкающие солнечные заливы и черные ночные проливы наконец-то остались позади, – только тогда телохранительница согласилась выпустить мой рукав.
Но и в Афинах, уже отстиранного, отглаженного и отдезинфицированного, она не отпускала меня буквально ни на шаг, то и дело разнеженно сокрушаясь: паразит, а не ребенок! И поглаживала меня по обнаженному и успевшему загореть предплечью: «Какие у тебя хорошенькие ручки! А шейка! Так бы и скушала!»
Город как город девятнадцатого века – это, конечно, не такое убожество, что век нынешний, и все-таки город как город есть город как город: если бы над ним не парил на скале Парфенон, сказочно прекрасный даже с перешибленным хребтом, я бы туда и вовсе не заглянул, несмотря даже на то, что в туалете здесь просят не бросать хартию в унитаз. Но сердце у меня сжимается при взгляде на храм храмов из-за того, что мы у его подножия когда-то побывали вместе с Иркой. Распоясавшаяся прислуга, захватившая всемирное достояние, дабы выторговать за наш счет какие-то свои тридцать драхм, перекрыла паломникам доступ к их мечте, ради которой те одолели тысячи верст, и нам пришлось сидеть в кафе у подножия Акрополя, бросая замирающие взгляды в божественную вышину.
Но мы все равно были совершенно счастливы, ибо Иркин ужасный и отвратительный недуг на несколько дней вернул нас друг другу. Поэтому тяжесть не спадала с моей души, даже когда мы с моей живой подругой рассматривали сказку вблизи и я понимал, что ее легкость не была бы столь божественной, если бы в ней не ощущалось преодоление громадной тяжести.
Легкость без победы над тяжестью – легковесность.
И когда поздним вечером – то темным парком, то сверкающей ресторанчиками улочкой – среди праздношатающейся толпы мы с Виолой обходили кругом священный холм, именно парящая стройность тяжести наполняла мою душу томлением восторга.
Единственное, что меня отвлекало, – я ежеминутно легкими щипками проверял, не восстановилась ли чувствительность левой щеки, одеревеневшей после моего приключения с глазным зубом: ударившего меня в левую щеку я теперь мог и вовсе не заметить. Меня нынче и это не беспокоило – только бриться было странно: как будто водишь электробритвой по пустоте, звук есть, а ощущения нет.
– Как это христианская вера победила греческую? – размышляла вслух моя Пампушка, возбужденная родиной Сократа и Аристотеля. – У христиан же сначала не было таких храмов, правда, заинька?
– Греция изображала загробный мир слишком страшным. Этого люди не прощают.
Мы уже не можем вспомнить, где мы видели кремацию кожи – умащивание кожи кремом, однако кремация меня тоже не забавляет. Развлекли меня только «миасные блюда» русского меню в увешенном косами перца и чеснока греческом ресторанчике: «соленая свинина со специями поддерживается в воздухе в кишечнике», «телятина проката с цементом», «надутые губы: жарить», «ароматические углеводороды с небольшим количеством муки в кастрюле» – и завершающий салют: ракетный классический салат и выстрел из ликера.
Ничего удивительного – почему не объединить ликер с выстрелом, если на здании банка пишут «трапеза»?
Свой квантовый пылесосик, чтоб не вводить похитителей в грех, я теперь таскал за плечами в тинейджерском рюкзачке, а в ресторанчике не снимал его с колен: поставил на пол – значит забыл. И, может быть, это его близость позволила мне расслышать в ночном уличном шуме нарастающий рокоток, как будто мы со своими чемоданчиками пробирались к нам же самим сквозь праздничную толпу. А когда мы вышли к ней, рокоток обратился в самоходную инвалидную коляску, на которой подергивался еще один бесноватый с совершенно гладкой головой, бледной и длинной, как надутый гондон – старшие мальчишки у нас на Паровозной не могли найти им лучшего применения, когда эти дефицитные изделия откуда-то попадали к ним в руки.
Внезапно коляска вильнула и довольно-таки больно наехала мне на ногу, прямо на мизинец. Бесноватый был настолько потрясен своей неловкостью, что еще больнее схватил меня за руку и, вымыкивая, по-видимому, какие-то извинения, долго тряс, вонзив в меня свои когти, пока Виола не вырвала мою руку с такой силой, что мне сделалось даже совестно – нельзя же обижать инвалида. Он и замычал особенно страстно и, мотая длинной белой головой, словно не в силах примириться со случившимся, резко свернул в темный переулок и со стремительно слабеющим рокотком покатил вниз от Акрополя.
Я потер намятое им предплечье, и Виола кинулась на него как тигрица:
– Ну-ка, покажи, что у тебя там?..
– Да ничего, ерунда, царапина.
– Как это ерунда?! У тебя же кровь!
Она оттащила меня к кустам и впилась в мою ранку страстным поцелуем. Потом сплюнула, потом опять припала. Наконец, насосавшись и наплевавшись, она потащила меня в ближайший бар, где прополоскала себе рот порцией шотландского виски, а мне приложила компресс из пропитанного виски носового платка.
И после каждые пять минут спрашивала, как я себя чувствую, не поднялась ли температура, – на что я отвечал только одно:
– Умоляю!..
Моя самоотверженная охранница требует немедленно отправиться в Турцию морем из Пирея, из этого бетонного улья, над которым, однако, все еще носится эхо древнего имени, – самолет слишком легко взорвать. Но Эгейское море с его Спорадами и Кикладами меня страшит – мы когда-то пересекали его с Иркой из Чесмы, где нас позабавил памятник Каплан-гирею. С горластыми греческими тетками споро стучали к Хиосу, на глазах рождавшемуся из тумана, темневшему и твердевшему по мере приближения к нему, начиная с неба. Резня на Хиосе длилась так долго, что даже приелась, надоело выбирать, кого зарезать, кого сжечь, кого повесить, кого продать, кому посулить обманное прощение, а на полотне Делакруа этот рутинный ужас сияет роскошью, – нет, не такому учил Орфей. Впрочем, что могут краски, – всемогущи только звуки.
А солнце и там встает, как у нас в степи, – выдувается из моря багровый сплюснутый пузырь и начинает на глазах округляться, раскаляться, начиная с макушки…
И зачем мне на него смотреть, если его никогда не увидит Ирка, как никто больше умевшая петь миру хвалу в своем мудром детском сердечке!
Я собирался при досмотре снова выдать свой фононный фонендоскоп за пылесос, однако им никто не заинтересовался. И вот мы уже плывем над морем, лазурным как небо. И я вглядываюсь в него через иллюминатор до тех пор, пока до меня не доходит, что внизу тоже небо, в котором стынут белоснежные взрывы облаков. Небо вверху, и небо внизу – правы Подземные Дервиши, туда мне и нужно пробираться, в подземную высоту.
А потом открылся измятый лоскутный ковер всех оттенков рыжего – вот она, Анатолия.
Barcelo отель как отель. Роскошный, если вспомнить наши Дома колхозника. Постояльцев награждают сувенирной книжной закладкой с синим шелковым бунчуком; закладка покрыта резными каменными цветами прямиком из Тадж-Махала.
Рядом с отелем стекляшка – станция метро «Малтепе», возле стекляшки наклонен исполинский фаянсовый чайник, из которого поливают газон. От чайника одна улица, обсаженная густыми деревьями, ведет к центру, которого, в сущности, не бывает там, где нет старины, другая – к многоколонному или многопилонному мавзолею Кемаля Ататюрка. Памятники мы видели только ему. У нас был и Ленин, и Пушкин – у них, похоже, только Ленин.
Красные флаги с белым полумесяцем, навострившим зубцы на, казалось, давно покойную пятиконечную звездочку, а в остальном Анкара город как город. Правда, из нашего окна на девятом этаже видна далекая крепость – Кале. А на улицах как улицах попадаются чистильщики обуви, восседающие на низенькой скамеечке за раззолоченным жестяным алтарем. Но единственные здания, стремящиеся к небу не ради экономии места, это минареты.
Правда, и они, похоже, бетонные.
Хакан оптик. В кафе сеется прохладная водяная пыль, но автомобили и здесь такая же язва, как и всюду. Слабый уксус с медом – наслаждение с печалью. Кто подарит миру сахар, получит миндальную халву.
Народ здесь до крайности приветливый. Английского в основном не знают, но сразу же начинают собирать соседей, пока не найдут, кто тебя поймет, и потом смотрят на него с большим уважением. Однако гулять здесь негде, тем более по такой жаре. Разве что по магазинам – там неумолчно гудят кондиционеры. Моя неутомимая Пампушка, взявши с меня клятву без нее не преступать порога (сама она сыну из номера никогда не звонит) и для надежности приковав меня двумя ядрами – одно называется «карпуз» (арбуз), другое «кавун» (дыня), – отправляется на отобус (с тюркскими языками мне в чем-то проще, чем со славянскими: пантолон, куафер), однако напоследок защемляет дверью воздушную черную юбку до пят, которой она обзавелась из страха перед исламистами. Ей приходится вернуться, и она, чтобы смыть плохую примету, осматривает себя в высокое зеркало – в длинной юбке она обретает сходство со всеми императрицами сразу, не хватает только шлейфа с арапчатами. Не исключено, что и царицы перед зеркалом сразу же начинали оттягивать назад пухлые щечки. Правда, блузкой, в тон закладке инкрустированной каменными цветами, Виола обзавелась очень уж азиатской. Равно как и платком, уж очень фиолетовым.
– Никому не открывай! – напоследок напутствует она меня.
И я, наконец-то оставшись один, отдаюсь моей тайной страсти – отсекаю мир наушниками и в трехтысячный раз погружаюсь в золотую реку «Каста дива» Марии Каллас.
Но дивной красоты ее голоса мне мало, мне требуется еще и сеанс, как это называют уголовники: я запускаю на экране череду ее лиц, и даже не знаю, что меня околдовывает сильнее – голос или лицо. Глазам все-таки тоже кое-что открывается – другие глаза. Похоже, я впал в какую-то наркотическую зависимость – с каждым днем мне требуется все более и более сильная доза, а потому слишком быстрое возвращение моей спутницы вызывает у меня все более и более ощутимую досаду. Мне совестно, однако ничего с собою поделать не могу.
К счастью, на этот раз Виола отсутствовала так долго, что сеанс с Марией Каллас довел меня до изнеможения. И я даже начал скучать по своей толстушке.
А потом уже и беспокоиться.
Включил телевизор. И здесь, как и всюду, музыку и пение стремятся вытеснить вспышками света, кривляниями, и все равно гений каких-то забытых Орфеев пробивается сквозь все ужимки и прыжки морозцем по коже. Похоже, только у нас тупицы сумели стереть и самый след веков подлинности…
Не понимаю только, зачем я среди них торчу? Почему так долго не присоединяюсь к тому мраку, в котором растворились все, кого я любил и люблю? Этим я и свой Тадж-Махал сразу же вывел бы под крышу…
Однако вспомнил про исчезнувшую Виолу и перепугался не на шутку. Вроде бы зеленому человеку она ни к чему, но ведь неисповедимы пути исламистские…
Звонить, что ли, в полицию? И что сказать? Черная юбка, цветастая блузка, светлая стрижка под фиолетовым платком? Не надо впадать в панику, этим делу не поможешь.
Но кончилось тем, что я таки в нее впал. Принялся каждую минуту припадать к темному окну, хотя уже знал, что разглядеть мне удастся лишь сияющую в прожекторных лучах крепость Кале; затем я опустился до вышколенных турчанок на ресепшене – в полиции их обращение записали и обещали позвонить, когда что-нибудь выяснится, и мне стоило неимоверных усилий не теребить их каждые три минуты, но справляться лишь каждые полчаса, – словом, когда Виола появилась в дверях с рукой на фиолетовой перевязи, я испытал такое облегчение, за которое отдал бы любое счастье, – гора с плеч…
А рука – что такое рука в сравнении с жизнью!
Однако порыв прижать ее к груди я вовремя пресек, чтоб что-нибудь не повредить.
– Господи, милая, что с тобой?..
– Ничего, зайка, смещение сустава. И перелом лучевой кости, мне на рентгене показали, – она была бледная, осунувшаяся и растрепанная, однако, осторожно опускаясь на стул, старалась улыбаться и не выпускала из здоровой руки обсыпанный кунжутными семечками измятый бублик.
Ей почудилось, что ее преследует какой-то исламист в зеленой футболке, и она решила оторваться от него на светофоре: дождалась, когда все прошли, и уже на желтый свет кинулась бегом через улицу, чтобы проверить, не бросится ли кто следом. Проверить, однако, не удалось: когда она была в шаге от тротуара, а машины уже ринулись вперед, она наступила на край своей фундаменталистской юбки и полетела лицом прямо в поребрик.
Последнее, что она запомнила, – выставленную перед собой левую руку (в правой была сумка). А потом она уже ничего не понимала. Над нею склонялись какие-то усатые исламисты, что-то спрашивали, но она повторяла только одно: «Мне хорошо, не надо меня трогать, куда вы меня несете». И была очень рада, когда ей наконец позволили лежать с закрытыми глазами.
Но потом появились еще два усатых молодых исламиста, которые принялись, невзирая на протесты, перекладывать ее на носилки, потом в какой-то машине ее начало подбрасывать, и она уже не могла удержаться от вскрикиваний, потом ее снова поднимали, разворачивали и вертели, пока она в конце концов не оказалась в каком-то зале, наполненном стонущими, раскачивающимися, окровавленными людьми, и тут уж ей стало больно по-настоящему. Сделайте мне укол, умоляла она, но к ней никто не подходил, только старичок со шваброй говорил ей какие-то ласковые слова, а потом принес ей бублик, который она продолжала сжимать, когда ей без наркоза вправляли локоть и эластичным бинтом приматывали к нему желоб, имеющий форму согнутой руки. А после не взяли ни лиры. И бесплатно доставили в отель.
– Почему же ты не позвонила?..
– А что бы ты мог сделать, заинька? Да я и объяснить бы не могла, куда я попала. А главное – вдруг они бы подслушали? Может, они только и ждали, чтоб тебя выманить?
У нее были добрые губы. Но это что, главное – они были теплые. А рука – без нее можно и вовсе обойтись, я вполне готов ей что-то подавать, мне не жалко. Вернее, именно что жалко. И я с такой нежностью помогал ей установить руку вертикально, зажавши ее меж двумя подушками…
А почему я в подполе, меня нисколько не удивляло, я и оттуда через откинутую крышку очень вразумительно растолковывал Ирке: это же несправедливо, что никто не знает, как я тебя люблю! Но она, неласковая, даже не смотрела в мою сторону, и не открывала глаз, когда я с наслаждением целовал ее в лоб – мягкий-мягкий и теплый-теплый, теплый-теплый, теплый-теплый, теплый-теплый…
И, проснувшись, я заспешил в ванную, чтобы даже и беззвучными содроганиями не разбудить мою горячую страдалицу, а уже там на крышке унитаза исщипал себя до синяков, но сумел-таки не подать голоса, совершенно по-детски взывая одними губами: «Ну как ты могла?.. Как ты могла оставить меня одного?..»
Но моя несчастная толстушка все равно что-то почуяла.
– А я так желала тебе хороших снов!..
Держа забинтованную, как мумия, руку вертикально, будто просила слова, она стояла в дверях в мятой ночной рубашке, с запухшими глазами, с помятой розовой щекой и колтуном на виске, как у Ирки после запоев, и я не мог отвести от него благоговейного взора: ведь колтун это жизнь – чего еще можно желать?
Вот Ирке не нужно было познать смерть, чтобы узнать цену жизни, она всегда умилялась всему живому. По мню, увидела рядом с детской площадкой длинного розового червяка, выползшего на асфальтовую дорожку после дождя, и прямо растаяла:
– Как хорошо, что есть червяки! Сидел, сидел и вылез просохнуть. Что-то тоже соображал, дай, думает, вылезу, погреюсь… Правда, жалко его – он же умрет…
– Почему – погреется и уползет к себе обратно.
– Ну, тогда хорошо.
И вдруг до меня дошло, что эти червяки теперь возятся где-то рядом с ней…
Господи, да ведь и в ней самой тоже!!!!..
А еще и трепанация, у нее теперь какие-то пропилы в головке, прямо среди ее забиячливой стрижки…
Чтобы не завыть в голос, я принялся колотиться головой о черный кафель, но голова только наполнялась звоном – звон был, а боли не было. Моя перепуганная охранительница, что-то испуганно лепеча («заинька, заинька!..»), пыталась подставлять здоровую руку, потом просунула сложенное вчетверо махровое полотенце – звон стал заметно глуше, а потом затих и невыносимая боль понемногу сменилась отупением. Я снова опустился на холодную крышку и обмяк.
Когда нас разбудили радиофицированные стенания муэдзина, я не мог даже понять, спали мы или вообще не спали.
– Почему они поют в нос? – моя бедная толстушка была недовольна качеством вокала.
– Бельканто неугодно Аллаху, молитва не опера, – пробормотал я, а про себя подумал: мы ведь слышим не ушами, а сердцем. Она слышит гнусавость, а я надежду и тоску.
Хорошо быть невыспавшимся, вялым, квелым – радости не чувствуешь, но и боли тоже.
Вовремя наложенный Виолой мокрый компресс позволил моим ушибам остаться почти незаметными для глаз, но, что гораздо более удивительно, пальцам они тоже не откликались. Я помял свою голову там, сям, спереди, сзади и убедился, что и она практически полностью утратила чувствительность. Эта новость тоже не произвела на меня ни малейшего впечатления: утратила, ну так и черт с ней, и без головы люди живут.
Единственное, что я еще был в силах ощущать – благодарность Виоле, которой я, казалось, должен был давно осточертеть, а она, наоборот, становилась лишь нежнее и заботливее со своей единственной действующей рукой. Поэтому за шведско-турецким завтраком у меня сил хватало не только на ее обслуживание, но и на игнорирование ее призывов посидеть спокойно, она-де все возьмет сама, сама намажет, сама облупит… Мне немножко приятно было даже называть здешнюю простоквашу каймаком, хотя настоящий каймак в плоских стеклянных банках был подернут жирненькой запекшейся корочкой.
В номер мы вернулись вялые, но еще более сдружившиеся, и даже не особенно удивились, увидев там присевшего на узенький подоконник Пасынка Аллаха. Несмотря на студенческие джинсы и зеленую футболку, он был изящен, как принц, обращенный злым волшебником в попугая и возвращенный добрым волшебником в свой прежний облик, однако не до конца.
Мы поздоровались за руку как старые друзья, но тон его был вежливо непреклонен: мы должны отправляться немедленно и притом с вещами, а расплатиться он уже расплатился. Виола тут же объявила, что одного меня никуда не отпустит, на что Пасынок Аллаха только усмехнулся, а я лишь в прохладном и просторном не то пикапе, не то микроавтобусе с задернутыми шторками, отделявшими нас и от улицы, и от водителя, сообразил, что означала его усмешка: Виоле бы никто и не позволил остаться. Правда, к этому времени до меня наконец дошло еще и то, что я совершенно не представляю, в каком направлении нас везут. Тем более что моя Пампушка, стараясь заглушить тревогу, всю дорогу баюкала руку в фиолетовом платке и, не умолкая ни на минуту, болтала обо всяких пустяках типа какие добрые люди турки – возможно, надеялась, что им будет стыдно ее разочаровать.
Я попросил раздвинуть шторки, и Пасынок Аллаха со снисходительной улыбкой через плечо (это была машина-трехрядка) нажал какую-то кнопку, и мне открылось, что мы едем по гористой, но чрезвычайно ухоженной стране. Каждый косой лоскут, свободный от скал, был возделан, двухэтажные кирпичные дома редких фермеров были возведены без выдумки, зато чисто и добротно. Таким же промелькнул и поселок, сквозь который мы промчались – я успел лишь заметить, что женщины там ходят в лиловых платках и полувоенных наполеоновских сюртуках с блестящими пуговицами.
Внезапно меж невысоких гор открылось огромное озеро, отливающее странным холодным блеском; недалеко от берега в нем плавал кругленький игрушечный вертолетик. Мы затормозили у самой береговой линии, и Пасынок Аллаха, сделав нам любезный, но властный приглашающий знак, пошел к вертолету по воде, аки посуху, и я понял, что перед нами пересохшее соленое озеро.
Я взял из машины только тинейджерский рюкзачок с земным фонендоскопом; о прочих вещах мы даже не вспомнили. Места в вертолетике у нас с Виолой были сзади; чтобы заглушить волнение, я хлопотал, ее усаживая и пристегивая, явно сверх необходимости. Я никогда не летал на такой маленькой машинке, и чувство меня охватывало, будто я лечу сам, а выпуклые стекла, меня окружающие, это что-то вроде одежды, и когда мы время от времени ухали в воздушные ямы, сердце екало исключительно от предвкушения. Сквозь мой азарт до меня было не пробиться даже Виоле, в опасные минуты до боли стискивавшей мое предплечье своей единственной рукой: мне казалось, она и тут боится меня потерять.
Сонливость, вялость, – казалось, я прошел через них года три назад.
Тень вертолетика, то съеживаясь, то вновь расправляясь, ныряла внизу по горам, по долам, пока перед нами не открылось безжизненное пространство, охваченное окаменевшими языками серого пламени. Некоторые языки были источены, как термитники, другие напоминали не то куклуксклановцев в серых куколях, не то укрывших лица инквизиторов.
Видите, сверкая птичьими глазами и грозя ястребиным профилем, прокричал через плечо Пасынок Аллаха, легко перекрывая своим носовым тенором рокоток двигателя, мы называем эти скалы почками Земли, Земля тоже тянется к небу, и когда эти почки расцветут, Земля и Небо соединятся. Но некоторые пророки говорят, что это не почки, а сосцы Земли, ими питается Небо, и эти сосцы давно пересохли, Земля отказывается кормить Небо, которое ее презирает.
А я вдруг увидел внизу острые хребты окаменевших косаток…
И на единственном здесь круглом холме еще и невесть откуда взявшегося верблюда, уронившего в белую пыль длинную, как у бронтозавра, шею. Верблюд даже не шелохнулся, когда от ветра, поднятого нашим винтом, не только взвилась пыль, но и пробежала волна по его свалявшейся шерсти, тут же отрезанной от наших глаз белой пыльной завесой.
Мы так и вывалились в эту жаркую муть, пахнувшую известкой, и вертолетик немедленно взлетел, удвоив ее непроглядность. Мы двинулись сквозь белую взвесь, держась за руки и щурясь, стараясь, однако, не терять из виду зеленую футболку проводника. Задыхаясь от жары, мы куда-то карабкались по грубой штукатурке, по ней же семенили вниз (я все время то тянул Виолу за собой, то поддерживал ее за исправную руку), протискивались в горячие каменные щели, потом снова карабкались и семенили, пока не оказались на белой каменной полянке, окруженной исполинскими языками серого каменного пламени. Ослепительное солнце пекло без жалости, и жар здесь стоял, как в духовке.
Пасынок Аллаха был таким же пыльным и потным, как мы, но смотрел и говорил торжественно.
– Это лоно Земли, – широким жестом он показал на каменную щель, и оттуда пахнуло прохладой.
Я думал, нам придется куда-то прыгать, но спуститься в каменные губы оказалось не труднее, чем в подпол. Я и руку-то Виоле протянул больше из вежливости, но она впервые не воспользовалась возможностью ко мне притронуться – с этой минуты каждый был погружен в собственный мир.
Я не замечал прохлады, я только перестал чувствовать жару. И после ослепительного солнца почти ничего не видел, пока в руке Пасынка Аллаха не вспыхнул желтый факел, наполнивший подземелье запахом горящего янтаря. Наш подземный путь на каждом шагу ветвился, и каждая ветвь ветвилась снова и снова, временами вновь вливаясь в то же самое русло, от которого только что отделилась, – докуда доставало своим светом мечущееся от дыхания недр пламя, виднелись сплошные грубо вытесанные колонны и перемычки, казавшиеся скелетом Земли.
Наконец перед нами открылась черная бездна, охватить которую своим светом наш факел оказался не в силах, – мы с Виолой, не сговариваясь, прижались к холодной стене: площадка, где мы остановились, не была отделена от тьмы никаким барьером. Но стоило нашему вождю взмахнуть своим факелом, как от него побежало огненное кольцо, замкнувшись в двух шагах от нас. Запах горящего янтаря теперь пронизывал до самого сердца, а свет стянул бездну к размерам цирковой арены – мы оказались под каменным куполом.
Зазвучала музыка, вроде той, какой факиры околдовывают змей, и мы с Виолой, опять-таки не сговариваясь, без всякого страха шагнули к каменному краю.
Внизу из черной пещеры на арену потекли Подземные Дервиши в белоснежных рубашках-юбочках и шапках, похожих на перевернутые цветочные горшки; указывая одной рукой на земную глубь, а другой на каменное небо, они закружились по арене с закрытыми глазами, словно погруженные в глубокий сон, но ни один из них ни разу не столкнулся с другими и не натолкнулся на стену. Оцепеневшие, мы не сводили с них глаз, забыв о высоте под ногами и о глубине над головой.
Не могу сказать, как долго это продолжалось, но они кружились и кружились, покуда из нашей памяти не стерлось все, что мы когда-либо видели и слышали, и лишь тогда Подземные Дервиши, так и не пробудившись, снова потекли в свою черную пещеру, и к нам понемногу вновь начало возвращаться понимание того, что мы находимся в каком-то диковинном подземном царстве.
Понимание возвращалось, но удивления уже не было, – факелы, арена, подземный холод, неровный каменный купол – все это казалось окружением самым естественным.
– Слушайте! – Пасынок Аллаха в своем подземном царстве распоряжался по-королевски. – Мы считаем, что здесь бьется сердце Земли! Слушайте!
Колеблющееся пламя факелов придавало его облику нечто сатанинское, но холодный камень он погладил тем же самым нежным движением, что и мой хромой Вергилий из царства плутония.
Я приложил мембрану к влажному камню и по памяти запустил настройку. Я скользил вверх и вниз по всему спектру, но на всех частотах стояла мертвая тишина.
Но нет, послышалось что-то вроде лесного шума… И сквозь него далекий-далекий колокольный звон. Я оторвался от стены и встретился с пламенеющим взглядом Пасынка Аллаха и встревоженно мерцающими глазками Виолы.
– Я должен остаться один, мне нужно сосредоточиться, – твердо объявил я и двинулся по той же галерее, по которой мы сюда пришли.
Идти за мною они не решились.
Оставшись один в почти полной темноте, я снова приложил мембрану к камню и напряженно вслушался. Нет, все те же неясные отголоски.
И вдруг… И вдруг я, холодея, различил еле слышный женский голос. Я окаменел от напряжения и ужаса, лишь слегка тронутого надеждой, – тут же обратившейся в ликующую уверенность: это был голос Ирки! Она звала не на помощь, она просто звала меня к себе. В ее голосе звучал не страх и не страсть, одна лишь бесконечная нежность и беспокойство за меня, как будто это не она, а я где-то заплутал, правда, не в очень опасном месте. Да, точно, мы так перекликались, когда ходили за грибами.
– Ирочка! – изо всех сил закричал я, но голос мой тоже утратил чувствительность и не слушался меня, и тогда я бросился в то ведущее в глубину ответвление, которое еще можно было разглядеть при отсветах факелов.
Там я снова прижался мембраной к камню – кажется, Иркин голос прозвучал чуточку отчетливее, хотя слов по-прежнему было не разобрать, – но что могут передать слова! Я принялся метаться с мембраной от стены к стене, из норы в нору, то и дело ударялся головой о камень, но боли не чувствовал – звон был, а боли не было. Зато вместе со звоном крепнул и крепнул зовущий голос – пока я наконец не почувствовал, что фонендоскоп мне больше не нужен. Я и скинул его с плеч вместе с тинейджерским рюкзачком и в полной темноте прекрасно расслышал сквозь звон, как хрустнул под ногой один из наушников. А заодно я расслышал и отчаянные крики Виолы: «Зая, зая, стой на месте, мы тебя найдем! Миленький, не уходи далеко, ты заблудишься, стой на месте, миленький, родной!»
Но мой слух тоже утратил чувствительность к этому зову земли: любовь сильнее жизни. И тогда земля пустила в ход самое мощное свое орудие – по каменным пустотам разлился божественный голос Марии Каллас. Золотые ручьи «Каста дива» текли мимо, разливаясь все глубже и шире, но ничто земное уже не могло тронуть меня. Ирочка, милая, я иду к тебе, беззвучно кричал я, зная, что и она меня слышит. А ее голос сквозь колокольные звоны в моей голове раздавался то ближе, то дальше, то левее, то правее, но каждый раз все глубже и глубже, и я, смеясь от счастья, знал, что эта игра в жмурки рано или поздно ей наскучит, что рано или поздно я ее настигну.