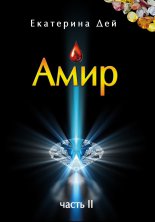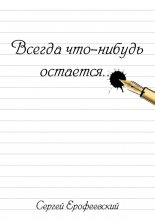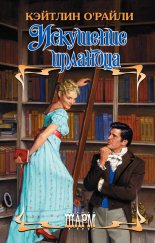Каменное братство Мелихов Александр

На старость-то, конечно, пригодилось бы, но чем не пожертвуешь ради единственного сына!
И вот кто еще не выказывал ни малейшего интереса к моим песням – Старенькая Девочка. Хотя не знаю, насколько она была стара, при ее хрупкости могла бы бегать козочкой, но она ничего не замечала ни под ногами, ни на столе – она вечно забывала поесть, как мне рассказывала веселая Пампушка, пытавшаяся взять над нею шефство. «Вы сегодня кушали?» – спрашивала она требовательно по праву заботы. «Кушала, кушала», – отвечала та, смущенно похохатывая: в ней еще держалось воспоминание, что светские разговоры должны сопровождаться улыбками, но она явно не вдумывалась в то, что говорила. «А что вы кушали?» – «Как что?..» – вспомнить она не могла, а врать была не приучена, и потому лишь смущенно посмеивалась, машинально пытаясь придать допросу видимость приятной беседы, но поблекшие ее карие глаза бегали робко и растерянно. Младенческое личико ее было таким исхудавшим, что веки ввалились, обнажая глазные яблоки, столь широко по-детски расставленные, что становилось удивительно, как им удается так синхронно двигаться.
Кожа ее тоже была младенчески прозрачная, виднелись все голубенькие жилки, и лишь при ярком солнце становилось заметно, что она какая-то неживая, сплошь покрытая мелкими морщинками, словно засохшая желатиновая пленка. Она и в мороз не покрывалась румянцем, а наливалась голубизной. На которой синяки различались хуже, чем летом, – она, как и моя Ирка, постоянно прикладывалась то к косяку, то углу стола – с той, правда, существенной разницей, что к спиртному она не прикладывалась, просто не соображала, где находится и что делает, подметает или вытирает пыль с карниза.
Мне казалось, по этой же причине она и одевалась как будто в детском отделе – летом лагерная панамка, зимой яркая шапочка с помпончиком, вполне бы затерялась на прогулке детского садика, – но проницательная Пампушка разъяснила мне, что Старенькая Девочка и впрямь не нашла времени повзрослеть, шагнув из детсада прямиком замуж. Муж был намного ее старше, относился к ней как к любимому ребенку, но она все равно сделалась очень старательной женой и матерью, детей воспитывала еще старательнее, чем кукол, и все вышли очень удачными, ни один не остался в России, и после смерти отца готовы были взять ее в Канаду, в Австралию, в Гренландию, но куда она могла двинуться от родной могилки, от родного дома, за стенами которого у нее никогда не было никакой собственной жизни, если не считать трех тягостных лет в радиотехническом техникуме. Она и сейчас с утра до вечера старается забыть, что кормить ей уже некого, варит, парит, обваривается, сжигает, потом чистит кастрюли, обдирается, нарывы смазывает вместо крема зубной пастой, потом едет на могилку что-то подравнивать или высаживать, перешибает себе лопатой палец на ноге, а потом еще пытается светски посмеяться, если кто заметит и бросится на помощь…
В последнее время она припадала на бронзированную металлическую палочку – забыла, где находится, и пошла на красный свет, но, к счастью, отделалась ушибом колена.
– Что-то с ней нужно делать, – очень серьезно сказал я Пампушке. – Не хочу каркать, но если человек не замечает, где живет, он рано или поздно обречен…
– А что мы можем сделать, мужа мы ей не вернем, – легко вздохнула Пампушка, нормальная женщина: помогать надо, пока есть надежда, а когда надежды нет, нужно поскорее выбросить из головы.
– Другие же как-то примиряются, начинают воспевать свою прекрасную любовь… А она ни на какую красоту совсем не…
Не ловится, хотел сказать я, но сказал: не реагирует.
– А у нее и не было никакой красоты: сразу из дочек в матери.
Пампушка была явно не глупа, несмотря на упитанные щечки-яблочки и неизменно прекрасное настроение, не вполне уместное среди кладбищенских завсегдатаев, точнее завсегдатаек. Над нами высился прикладбищенский торговый центр – многоярусный блистающий мир с непременным «Макдональдсом» и выкриками со всех витрин: дисконт! Discount!! ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!!! А под ними в уголке наш кофейный уголок, где я осилил только молочную пенку со своего капучино, – дальше шел отвар из горелых семечек, который жизнеприемлющая Пампушка с удовольствием прихлебывала. Со своими припухшими веками под капюшоном с лисьей опушкой она походила на мудрую скво.
– На что ей красота – вот если б вы ей сказали, что ученые нашли связь с загробным миром…
– Мне б самому кто сказал.
– Вот я вам говорю. Вы же ходите к вашей жене, значит, верите, что она это как-то видит?
– Я не для нее это делаю, ей теперь все равно, я для себя.
– Ну и зря. А я вот верю, что моя мама смотрит на меня откуда-то оттуда и радуется. Я всегда, когда что-нибудь хорошее сделаю – хоть посуду помою, – я ей обязательно отчитываюсь: видишь, мамочка? Я все делаю, как ты учила.
Она молола это без всякой торжественности, что меня с подобной белибердой только и могло примирить, и наполовину с обычным кокетством женщины, желающей поиграть в маленькую девочку, – и все-таки я видел, что она меня не разыгрывает.
– Ну, раз вы во все это верите, так вы ей и скажите.
– Да кто я для нее! Я в поликлинике, в регистратуре, работаю, а она радиотехникум кончила, знает, что доверять можно только науке. А по вам сразу видно, что вы человек ученый, вам бы она поверила.
– Но как я могу это сказать, если я знаю, что это чепуха?
– А откуда вы знаете, что это чепуха? Вы кто по профессии? А что это такое – акустик? Как это слушаете, прямо все подряд? И все понимаете?
– Не все, много бывает и помех.
– А это что такое – помехи?
– Ну, бывает полезный сигнал, а бывает вредный, его надо отфильтровывать.
– Значит, что вам нравится, вы называете полезным сигналом, а что не нравится, вредным? А вдруг вредный и есть самый главный? Может, через него кто-то хочет к вам пробиться, а вы его отфутболиваете. Отфильтровываете.
– Смелая мысль. Помехи признать полезным сигналом, а полезный сигнал помехами. Это будет научная революция.
– И давно пора сделать революцию.
– Но тогда придется отказаться от всех завоеваний. Полезные сигналы помогают находить подводные лодки, полезные ископаемые, слышать всякие тонкости в нашем организме…
– Ну, понятно, слыхали: практика – критерий истины. И ради этой практики надо отобрать у людей надежду.
– Какая вы тонкая соблазнительница!
Я впервые внимательно посмотрел ей в глаза под запухшими веками – они смотрели скорее снисходительно, чем насмешливо, – будто на ребенка, вообразившего себя большим и умным. Но она поняла мой взгляд неправильно:
– Смотрите, какого цвета у меня глаза? Серобуромалинового. А если отфильтровать, можно сделать карие, а можно зеленые. Я бы на вашем месте не важничала: мы! Ученые! Нам это можно, а это нельзя! Я бы прямо сказала: Маргарита Кузьминична, мы открыли связь с потусторонним миром. Вам жалко ее или не жалко? Скажите ей, что открыли прибор, который слышит голоса мертвых.
– Так она же попросит послушать?..
– А вы скажите, что прибор еще только разрабатывается, что нужно еще много… как это? – отфильтровывать, пока только изредка их сигналы к нам прорываются, надо очень долго – как это? – регистрировать, это только особые датчики улавливают, а сам ничего не услышишь – да вы лучше меня все это знаете!
Пампушка-то оказалась совсем не проста, и мне впервые показалось неловко расстаться, не обменявшись телефонами.
Но и я был не так-то прост. Меня с юности преследовала греза исследовать звук на квантовом уровне. Обычно воздух, воду считают сплошной средой, в лучшем случае спускаются до молекул, а у меня много лет чесались руки поработать с фононами. Я даже время от времени делал какие-то прикидки, но на что-то натыкался и бросал, чтобы не превращаться в чокнутого изобретателя – уж очень мизерные брезжили шансы на успех, а серьезных дел всегда хватало выше крыши. А главное – с Иркой мне и так жилось лучше некуда, зачем еще куда-то карабкаться.
Теперь же для меня не имело никакого значения, успех, неуспех – лишь бы найти, на что отвлечься. В исхудавшем институте положение у меня было прочное, как у всех, кто не создавал новое, а помогал делить старое. Мои прежние стетоскопы использовались при разведке нефти, газа, но даже и не это было главное – чего там разведывать, надо хватать, что есть, вот как только узнать, чего оно стоит – миллиард или триллион. Когда знаменитому геологу Лутугину предлагали безумные взятки, чтобы он завысил ценность месторождения, он отвечал: я уже немолод, много не нахапаю, а некролог испорчу. Но мне и взяток не предлагали, просто находили другого.
И гомики ко мне тоже никогда не приставали… даже обидно. Зато директор мои заявки подписывал не глядя. Он таки любил науку. Злые языки говорили, что он женился на дочери вице-президента, чтобы выйти в академики, но я бы выразился иначе: вице-президент выдал свою дочь за перспективного ученого. И мои фононы он сразу заценил. Да и расходы на них были копеечные, а паял я все сам: это тоже ужасно отвлекает от жизни, ко гда под увеличительным стеклом булавочными головками олова фиксируешь в нужных точках тонюсенькие лапки программируемых матриц размером с ноготь большого пальца. Раньше понадобилось бы целое нагромождение всяких диодов и триодов на рабочем столе с уходящей под потолок пирамидой амперметров и осциллографов, а теперь на моем столике помигивал один компьютер да дымился канифолью сиротливый паяльничек. Ну, еще пара генераторов. Я временами погружался в заумные формулы, без всякой надежды, просто чтобы скоротать сутки, временами что-то программировал, выжигая в матрицах всякие хитроумные схемы, но когда дело внезапно пошло на лад, я испытал не радость, а скорее тревогу: чем же я буду себя глушить, когда мой квантовый стетоскоп и впрямь заработает?..
У него и так чувствительность зашкаливала, а когда я наконец нашел нужный пьезокристалл, я внял и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. Помехи, правда, тоже явились какие-то неслыханные, изгалявшиеся на разные голоса, но если их объявить полезными сигналами…
Это обещало совсем уже оригинальные развлечения.
Прежде бы я лишился сна, все пересказывал бы Ирке, тщетно стараясь не захлебываться, глядишь, еще и о Нобелевке зашевелились бы тщеславные фантазии, а теперь я твердо знал, что никакие почести мне ни к чему, если ими нельзя поразить и осчастливить Ирку. И звуки, каких еще не слышало человеческое ухо, тоже меня не слишком впечатлили, – что толку, если их не может слышать Ирка. Даже и пьезокристалл, доставшийся мне самым мистическим образом, ничего во мне не расшевелил. Вот Ирка бы сумела и поахать, и подивиться, – глядишь, и я поахал бы ее эхом. А сейчас ничто было не в силах заставить меня ахнуть. Ну, набрал в поисковике словосочестание «пьезокристалл Бережкова» – он и выскочил вместе с адресом института прикладной кристаллографии. Я отправил запрос – получил подтверждение. Перевели деньги – кристалл доставили с курьером, и за вполне посильную сумму.
Для контроля я поинтересовался у Леночки, занимался ли Бережков пьезокристаллами, – сказала, что занимался, он всем занимался. Я этот кристалл установил – стетоскоп зазвучал. Мистика? Если нравится, пусть будет мистика, мне все равно.
Но раз уж земля зазвучала на разные еще не слыханные голоса, с ними надо было что-то делать.
Эхо Орфея, еще не отлетевшее из моей души, позволило мне пленить директора новой песнью во славу фононного стетоскопа: мы должны услышать естественные голоса медных, железных, молибденовых и урановых руд, естественные голоса нефтяных и метановых подземных губок. Акустическая разведка всегда была чистым варварством: бабахнуть бабой или динамитом и слушать земной отклик – все равно что трахнуть Карузо молотком по голове и по вскрику судить о его голосе. Подлинный голос и у человека, и у земных недр прорезывается тогда, когда мы снимаем тяжесть с их души. Только для подземных залежей естественно вовсе не лабораторное освобождение осколков, вырванных из родной стихии, а напротив – тысячетонный гнет, – вот там, под этим гнетом, и нужно подслушивать голоса земли. Как – не знаю, надо думать, но уж точно не в шахтах, где земная плоть зверски изранена.
Видно, Орфей крепко подзарядил меня поэзией – хрящеватое директорское лицо старалось выразить скептическую иронию, но против воли выражало растроганность. Да и что скажешь: в работающей шахте все заглушит лязг механизмов, клетей, вагонеток, а в неработающую соваться опасно, да и не пустит никто…
– Попробуем зато, – подумав, предложил он.
– Зато что? – не понял я.
– Закрытое административно-территориальное образование. С «Росатомом» у нас договор, а они как раз свернули производство оружейного плутония, в связи с разрядкой. А все подземные сооружения остались. Триста метров заглубления в граните семнадцатой категории. Попробуйте туда скататься.
Теперь задержки авиарейсов меня не раздражали – все какое-никакое развлечение, возникала иллюзия, будто и мне есть чего ждать. Так что подъехал я к опечатанному царству плутония в морозной темноте, совершенно не представляя, где нахожусь. А когда под прожекторами предъявлял паспорт на КПП меж тройными рядами колючей проволоки, вообще стало казаться, будто выезжаю за границу. Только тумбочки в гостинице были советские, да в буфете красовались классические три шишкинских медвежонка. Слышал в детстве: когда художнику сказали, что трех медвежат у медведицы не бывает, он застрелился. Время тяготело к крупным страстям.
И на завтрак котлеты с макаронами мне давно нигде не предлагали, а про компот из сухофруктов я бы уже успел и подзабыть, если бы не сидение в «Горном ключе». А на улице – на площади – я оказался в уменьшенном подобии сталинской ВДНХ: павильоны с пышными портиками, башенками и шахтероколхозницами, вооруженными серпами и отбойными молотками, только вместо фонтана «Дружба народов» чернел кряжистый амбал в комбинезоне, пытающийся раздавить полуметровый атом, оплетенный обручами резерфордовских орбит. Амбал напоминал циркового медведя, обученного гнуть дуги.
В книжном магазине бросился в глаза стеллаж «Для женщин»: полки с табличками «красота», «беременность», «кулинария», «ведение дома», «дачное хозяйство», «ритуальные услуги», – вот и вся долюшка женская.
Зато снег был белоснежен и сдержанно гулок, словно где-нибудь в лесу на накатанной лыжне. Хотя тайга виднелась лишь между зданий, на сопках – остроконечные бесснежные ели наводили на память не очень веселые строки: лес обнажился, поля опустели…
«Остроконечных елей ресницы», – певали мы когда-то с Иркой в лирические минуты, коих у нас, если собрать, набрались бы целые годы.
Солнечный свет из-за непролившихся слез искрился радугой, равнина за великой сибирской рекой сияла опрятней модного паркета, а здесь, у входа в плутониево царство, заковать себя льдом не позволяло течение, стиснутое и ускоренное парой скалистых сопок, на сибирский лад именуемых Прижимом.
Туннель, куда я въехал на обычной электричке, смотрелся обыкновенным метро, но внутри матушке-земле обижаться было не на что – и ордена, и мраморы, а уж что до грандиозности цехов вышиной в двадцатиэтажный дом и замерших технологических «ниток», вдоль которых когда-то ездили на велосипеде…
Про велосипед рассказал мне мой Вергилий, припадающий на трость из какого-то удивительного дерева, похожего на темный полированный янтарь. По возрасту Вергилий с натяжкой годился мне в отцы, и я прикидывал, не взять ли мне как строителю Тадж-Махала именно его за образец, если заживусь на этом свете. Костюм не с иголочки, но отглаженный и без единого пятнышка, щеки ввалившиеся, но как у путешественника, а не как у дистрофика, и хромота не подагрическая, а героическая. Дюралевой стрижкой и правильными чертами он напоминал Жореса, но без его желчной надменности, наоборот, он то и дело вспыхивал совершенно юношеской улыбкой, радуясь, что мне посчастливилось наконец-то освободиться от постыдных заблуждений (черт, Ирка уже начала бы подтрунивать, что я улыбаюсь только на кладбище).
– Вы, наверно, так и верите, что Берия английский шпион? – сочувственно спрашивал он и тут же поверх изможденности вспыхивал счастливой улыбкой: – Когда от Курчатова потребовали, чтобы он дал на Берию показания, он их всех послал, сказал: не было бы Берии – не было бы атомной бомбы.
Я, естественно, Берию никаким шпионом не считал, но все равно не мог не напрягаться при его имени – уж очень дружно на него взвалили все совместные злодейства.
А у Вергилия и в кабинетике висела фотография молодого Лавренти – довольно худого и мечтательного, в народническом пенсне. Рядом красовалось фото гораздо более помпезного грузинского генерала в белоснежном сталинском кителе со звездой Героя Соцтруда – начальник горного управления по фамилии что-то вроде Саския (переспросить я постеснялся, я и так должен был знать это громкое имя). Обе фотографии были черно-белые, открыточного размера, напоминавшие на листе пожелтевшего ватмана аскетичную Доску почета.
– …Шестьдесят шпуров на сорок четыре квадратных метра, каждый два метра глубиной, в каждом заряд и обязательно глиняный пыж, – разносило эхо устаревшие тайны опустевшего подземного царства. – А посты не выставили, забили досками крест-накрест, а я не понял, доски и доски. Вдруг смотрю – по камню разбегаются трещины, потом взрыв, пламя, и все это в меня. Очнулся – на мне гора камней, но голова снаружи. Дым, пыль – сзади свет еще пробивался. Я в шоке выкарабкался – смотрю, нога в другую сторону гнется, разрыв суставной сумки. Как-то дополз до света, а потом уже без сознания где-то час пролежал, не могли до врача до звониться. Говорят, это и спасло: в шоковом состоянии могли и не довезти. Потом долго в больнице валялся, друзья навещали, пионеры, а потом вдруг смотрю – сам Саския идет в белом халате внакидку поверх генеральского мундира. Попросил всех выйти, кто не мог – выкатили вместе с койкой: слюшай, говорит, слючились двэ ашибки. Нэ выставыли прэдупрэждэные, и маркшейдэр нэточна апрэдэлыл талшчину цэлика да мэста сбойкы. Так ты пракурору пра эта нэ гавары, ат этава тваей нагэ лютче нэ станэт. Скажы, сам нэ замэтыл прэдупрэждэные, дагаварылыс? Я все сделал, как он сказал, а потом прихожу на костылях за деньгами по белютню – а там на стене приказ: за нарушение техники безопасности всем по выговорешнику – главному инженеру, начальнику точки и мне. Я к Саскии, секретарша не пускает, я шумлю: как так, несправедливость! Вы глянул Саския: щто за щум, а дракы нэт? А, эта ты, захады. Я зашел: как же так, говорю, я же сказал, как вы про сили, а вы мне выговорешник! А он меня обнял и говорит: слюшай, ти раман «Вайна и мир» читал? Читал, говорю, в школе. Ну и как, толстий раман? Толстый, говорю. Ну так вот, еслы всэ маи вигавары сабрат, будэт ищо в два раза толще. А я всо равно гэнэрал и Гэрой Сациалыстыческава труда. И ти будэш гэнэрал. Будэт празднык – я с тэбя вигавар сныму. И буду знат, что ти харощий парэн. А ранше я тэбя нэ знал. И потом к ноябрьским снял выговор и лично вручил эту палку, специально с Кавказа заказывал. Он и с зэками умел работать, каждый день сам отсчитывал тысячу шагов и ставил ведро водки: успеете за смену рельсы проложить – ведро ваше. Выполните план на сто двадцать один процент – засчитаем день за три. И нормировщикам намекал, чтоб смотрели сквозь пальцы.
Я хотел было поинтересоваться, сделался ли мой Вергилий генералом или героем, но понял, что этим вопросом лишь обнажу свою мелкую душонку.
Мы замолчали, и я услышал такую тишину, которую не подарит никакое утро в сосновом лесу. Ее страшно было поранить, и мы оба молчали, покуда не послышалось мерное побрякивание лифта. Лишь тогда я рискнул спросить своего спутника:
– Вам не обидно, что столько сил, столько жизней потрачено зря?
– Как зря? – он не фыркнул сардонически, он искренне засмеялся моей глупости. – Мы же атомную войну остановили.
– Вы что, серьезно думаете, что без вас?..
– А вы что, серьезно думаете, что американцы не покончили бы с красной заразой, будь у них такая возможность? Я бы на их месте обязательно покончил.
Его старое изможденное лицо вспыхнуло азартной молодой усмешкой.
– А когда-нибудь сюда экскурсии будут водить, как к египетским пирамидам. Это ж тоже мировой рекорд. Только они пробивались в высоту, а мы в глубину.
Он и контрольные скальные выходы, у которых останавливалась бесконечно ползущая все глубже и глубже капсула лифта, поглаживал ласково, будто хозяин любимую корову.
А я ее прослушивал. Сначала в фононных наушниках что-то возилось, шуршало, шелестело, чирикало. Потом стали отзываться далеким эхом словно бы какие-то команды, лязг стали, собачий лай, а уже в самой-самой глубине остался один только ровный гул – не то надвигающееся цунами, не то отдаленная армада бомбардировщиков, не то стальная палуба идущего полным ходом исполинского дредноута.
– А мне можно послушать? – наконец не выдержал Вергилий.
– Конечно, конечно, что за вопрос.
Он замер и долго-долго вслушивался с такой серьезностью, что я опустил глаза, словно присутствовал при чем-то интимном.
– Как будто ледоход все начинается и никак не начнется. Льдины трескаются, скрежещут, налезают друг на друга, а что-то их не пускает.
Я не знал, что сказать, да и разговаривал он как бы и не со мной.
А потом вдруг повеселел, словно откуда-то вернулся в свой привычный любимый мир:
– Когда мы горячую воду из системы охлаждения начали в реку сбрасывать, она перестала замерзать, это нас ужасно демаскировало. А потом стали этой водой город отапливать. И все обошлось, никто ничего не заметил.
В Петербурге лед на обочинах был черен, как застывшая смола, кое-где даже со следами былого кипения. Примерзший кое-где снежок казался засохшей мыльной пеной. Морозный ветер противоестественным образом сек лицо вместо снега пылью, так что вопрос встретившейся мне на выходе из метро Пампушки был вполне естественен:
– Это зачем у вас пылесос?
– Это не пылесос, это стетоскоп. Если хотите – фонендоскоп. Прослушивать, как бьется сердце земли.
Я был немного раздосадован, что меня застали за таким дурацким занятием, – я хотел послушать без свидетелей, как звучит Иркино имя. А на кладбище нам навстречу ринулась еще и стая бродячих собак. Однако меня после Иркиной смерти настолько ничего не страшило, что я своими прищуренными от пыли глазами сумел даже заметить, что их вожак не мальчишка-Маугли, но сука с болтающимися бледными сиськами, и еще успел подумать, что врезать ей хотя и миниатюризированным, но все равно увесистым «пылесосом» будет как-то неловко – дама все-таки (пылесос-то бы выдержал, он был подогнан на совесть!)… Хотя и у меня за спиной укрылась тоже дама…
Но сука в последнюю минуту притормозила, оставив на черном льду глубокие белые царапины когтей, и все же на излете ткнулась нечистой бородатой мордой в мое английское пальто. Понюхала и потрусила дальше со своей шелудивой шайкой.
– Я вами любовалась, – Пампушка сияла своими наливными щечками из индейской опушки. – Как вы шагнули им навстречу!..
А я и не заметил.
Наш престижный уголок был пуст, только в своей вязаной шапочке с прыгающими детскими помпончиками, ничего по обыкновению не замечающая кругом, на своей грядке возилась Старенькая Девочка.
Иркина плита была впаяна в черный окаменевший снег, с той стороны, откуда изредка показывалось солнце, изъеденный, как Большой каньон на реке Колорадо. Весна, несмотря ни на что, приближалась, еще недавно в это время было уже темно. Понимая, что от Пампушки теперь не отвязаться, я проскребся к имени ИРИНА сквозь кристаллический снег, вытер заломившие от холода руки платком, затем этим же платком протер мокрый мрамор и приложил к нему фононное ухо.
И замер, прикрыв глаза и ожидая неизвестно чего.
И услышал мертвую тишину. Даже свист ветра в черных розгах кладбищенских деревьев отсекли плоские серые наушники.
Но я еще долго-долго не открывал глаз…
И очень оценил, что посерьезневшая Пампушка не задала мне ни одного вопроса. И лишь после приличествующей паузы робко попросила тоже послушать свою мамочку.
Я не пошел за нею, отчасти давая понять, что и ей не следовало находиться рядом со мной. Но все-таки искоса следил за ее манипуляциями и – было все еще достаточно светло, весна надвигалась с присущей ей неукоснительностью – явственно разглядел, как ее лицо под передавленной наушниками растрепанной светлой стрижкой (капюшон она откинула) озарилось неземным счастьем.
Возвращала она мой пылесосик с выражением не просто бесконечной благодарности – благоговения. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», – самозабвенно повторяла она, и у меня невольно вырвался бестактнейший вопрос: «Вы что, и вправду маму услышали?» – и в этот самый миг я осознал, что щуриться больше незачем: ветер полностью стих. «Нет-нет, совсем другое!..» – она не то чтобы отмахнулась, ее жест означал сладостно-безнадежное: «Словами этого не передашь».
Но тут же взмолилась:
– Давайте дадим послушать Маргарите Кузьминичне!
И, не дожидаясь ответа, нежно, но неотвратимо повлекла меня к Старенькой Девочке.
Ее навеки ушедший отец и муж тоже проступал белой туманностью на черной стеле. Можно было разглядеть, что он лысый и добродушный, и даже вроде бы немножко косоглазый, – но что открывается зрению! Ничего. Старенькая Девочка и на Пампушку смотрела своими ввалившимися глазами очень испуганно, не понимая, зачем на нее напяливают какие-то наушники, хотя ей все было повторено трижды и четырежды. На одной ее скуле желтел сходящий ушиб, на другой наливался синевой новый. И когда фононное ухо было приложено к камню, она лишь продолжала испуганно мигать.
– Ну? Что вы слышите? – допытывалась Пампушка, и бедная Старенькая Девочка умоляюще воззрилась на меня, тщетно ожидая подсказки.
Это меня и добило.
– Видите ли, – осторожно сказал я, – мы ищем связь с потусторонним миром. И некоторым людям удается расслышать голоса своих умерших родственников. Это еще в стадии разработки, у некоторых получается, а у некоторых не получается. Мы пока ставим опыты на добровольцах, вот у Виолы, кажется, получилось…
Я вопросительно взглянул на Пампушку, и она радостно и благодарно закивала: да, да, я точно слышала мамин голос.
На детском морщинистом личике начали проступать какие-то признаки жизни, то есть надежды. И тут же внимания. А затем сосредоточенности. А потом поглощенности – она вслушивалась с таким напряжением, словно от этого зависела ее жизнь.
Да она от этого и зависела.
И, как писали в старых романах, через несколько минут, показавшихся вечностью, на ее личике проступило такое детское счастье, что я понял: обратного хода нет.
– Да, немножко слышу… Только мешает какой-то лязг…
– Это, может быть, метро. Но вообще-то если у вас с супругом сильная духовная связь, он как-то должен вам давать о себе знать. У вас не бывает такого: слышишь чей-то голос, а оглянешься, никого нет?
– Бывает, – она не смела поверить своему счастью.
– Так это оно и есть. Мы разрабатываем прибор, который бы фиксировал эти проблески. Туннельные эффекты. У вас не бывает, что ищешь какую-нибудь вещь несколько дней, а потом вдруг обнаружишь ее на самом видном месте?
– Ой, со мной все время такое!
Ее надежда крепла на глазах.
– Вот это он вам так дает о себе знать, он хочет присутствовать в вашей жизни. Значит, с вами у нас дело пойдет. Ну-ка, еще раз вслушайтесь как следует.
Я уже самолично и сурово, как медицинский работник, нахлобучил на нее наушники и сделал Виоле присмиряющий жест: тихо, мол, идет эксперимент. Припухшие глаза Виолы смотрели на меня со смесью недоверия и восторга – да я ли это?..
Помолодевшая Маргарита Кузьминична вся обратилась в слух. Я позволил ей оставаться в этом состоянии недолго и голосом гипнотизера вопросил: ну, что вы слышите? С подтекстом: надеюсь, вы меня не разочаруете.
И она не разочаровала.
– Слышу. Он мне что-то говорит. Только не могу понять, что.
– Ничего удивительного. Это опытный образец. Мы будем и дальше работать над его чувствительностью.
Выражение ее лица описывать не буду – там было и счастье, и робость, и признательность, но мне, ученому-экспериментатору, не подобало рассусоливать: я собрал свой пылесосик и корректно откланялся, – не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому.
Виола догнала меня у метро, но дар речи к ней вернулся лишь в нашем кофейном уголке под глобальной распродажей:
– Я не представляла, что вы на такое способны!.. – в ее голосе обожание смешивалось с опаской.
– На такое бесстыдство?
– Почему бесстыдство? По-вашему же, по-ученому считается как? Практика критерий истины? Но вот вы и помогли человеку на практике – чего еще надо? Она же за пять минут другим человеком стала! Она даже хромать перестала!
Я все-таки испытывал некоторое смущение из-за своего бессовестного шарлатанства, но помолодевшая Маргарита Кузьминична приветствовала меня с таким счастливым и благодарным видом (и синяки как будто сошли, и хромота куда-то подевалась), что мое смущение скоро сменилось гордостью. Но уже через неделю меня подкараулила у ворот Антохина «чесальщица» и заюлила: вы, говорят, прибор придумали – с мертвыми разговаривать, не дадите послушать, если что, я заплачу, тысячу хватит?.. Трагические обрамления бегающих глаз, тщетно пытающихся изобразить преданность, в сочетании с каким-то нелепым нэпманским шиком (чуть ли не крашенные сапожной ваксой страусиные перья вокруг шеи) были невыносимы; я, стараясь смотреть мимо, бормотал, что это только опытный образец, что его еще дорабатывать и дорабатывать, что я и так нарушил режим секретности, но она, прекрасно зная, что все секретности городятся исключительно ради набивания цены, ничего не слушала, лишь еще более раболепно заглядывая в глаза и пытаясь всунуть мне в карман английского пальто какие-то деньги: «Две тысячи, ладно? Ну, хорошо, три, три?..»
Пришлось на следующий день явиться с моим «пылесосиком» пораньше, чтобы провернуть новую аферу хотя бы без свидетелей. Кладбище было пустынно, только несчастная пожилая пара убито горбилась над могилой своего любимого лохотронщика. Солнце и за белесой мутью продолжало разъедать весенним кариесом слежавшийся снег, но «чесальщица» не стала с ним бороться, а приложила мембрану прямо к надменным губам своего Бонапарта, так и не вышедшего в Наполеоны. Я хотел сказать, что мой фонендоскоп предназначен для прослушивания земли, но воздержался – быстрее отделаюсь.
Быстрее, однако, не получилось. «Чесальщица» знала, что если до чего дорвешься, надо набивать карманы, пока не оттащат. Она вслушивалась жадно и упорно, и глаза ее в траурном обрамлении горели алчным упоением. Наконец она стащила наушники, распатлавшись, как горгона, и произнесла со злобным торжеством:
– Я так и знала. Сволочи.
И ушла не попрощавшись.
Мог ли я после этого отказать другим?
Лидия Игнатьевна вслушивалась строго, не желая выдавать авансы экспериментальному образцу, но в конце концов сменила суровость на милость:
– Я давно говорю, что позитивистская парадигма себя исчерпала.
Леночке в свое оправдание я сказал лишь, что в приборе использован пьезокристалл Бережкова, грустной улыбкой стараясь показать, что я всего только уступаю настояниям безутешных вдов, но мы-то, люди науки, прекрасно понимаем…
Однако Леночка, надвинув пониже козырек своей бейсболки, поверх которой наушники надевались с полным удобством, вслушивалась с такой надеждой и страданием, что я не смог на это смотреть, и даже, когда она потрогала меня за локоть, протянул руку за наушниками не оборачиваясь.
– Спасибо, – сказала она, и голос ее сорвался.
– Пожалуйста, – ответил я, стараясь выразить: что поделаешь, я не бог.
Но она повторила еще раз: «Спасибо, спасибо!» – уже не стесняясь прорвавшихся рыданий, и я решился оглянуться лишь тогда, когда ее девчоночья фигурка превратилась в темный силуэтик: дело было вечером.
А Капе пришлось устроить сеанс при ярком солнечном свете, и она слушала без слез, и лишь следы былой остервенелости, и без того почти незаметные после рыданий пьяной потаскушки на могиле бандита, окончательно сходили с ее увядшего личика.
Зато помолодевшая Старенькая Девочка, козочкой пробегая мимо, порадовала меня новостью, что ей теперь и прибор не нужен, что она и так каждый вечер общается с мужем. А на днях еще и видела его в метро.
– И… И что же он делал?..
– Ничего, просто висел над всеми. А то бы я его в толкотне не заметила.
И я понял, что пора с этим делом завязывать. Если завтра на меня еще навалятся поклонницы Любимчика, это вызовет уже эпидемию безумств. Ба, да ведь есть же еще братки Лубешкина – воистину один отец их дьявол знает, что они там услышат…
Братки внушали мне не столько страх, сколько гадливость, я подозревал, что красивой смерти от них не дождешься – скорее от стаи шакалов.
Но это еще что! Я заметил, что, оставаясь наедине, я начинаю невольно прислушиваться, не прозвучит ли Иркин голос, а за серой тенью, сопровождающей меня на периферии зрения, я вообще слежу неотступно: а что, может, и правда позитивистская парадигма исчерпана?
Больше того, Ирка много лет пошучивала над моей любовью к Марии Каллас, будто бы я обожаю не только ее голос, но и вообще в нее влюблен, как солдатики влюбляются в какую-нибудь Софи Лорен. Поэтому как строитель Тадж-Махала я запретил себе слушать записи великой певицы и даже засунул ее диск в нижний ящик стола. Но когда я однажды вспомнил про него и, к изумлению своему, не обнаружил на месте, я вполне серьезно задумался на тему, могут ли мертвые ревновать. Что мне сиянье Божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой. Ласкаю я мечту родную везде одну, желаю, плачу и ревную, как в старину…
Похоже, и я двинулся в ту же сторону. В разум – в добросовестность – меня вернула вдова Жореса, без его немецкого пригляда обратившаяся в перевалистую деревенскую бабку:
– Удивляюсь я на их: вроде культурные, а с мертвыми разговаривают. Не могут мертвые разговаривать. Я по опыту говорю. Со мной было, муж год как умер, а я все реву. Пошла на рынок чернику брать для пирога, и обратно реву, он пирог с черникой только и любил. Спекла пирог и поехала метром на могилку. Жоресик, зову, Жоресик, приходи домой, я тебя пирогом с черникой угощу! Звала-звала, а приехала домой – его нет. Ни сам не пришел, ни привидением, никак. И ни словечка даже не сказал. Не могут мертвые разговаривать.
После этого я объявил, что мой фонендоскоп разобрали на запчасти для новой модели, а когда она появится, я скажу, надо подождать.
Однако тревога не отступала: когда-то же надо будет либо предъявить эту новую модель, либо признаться в своем шарлатанстве. Но, может быть, это вовсе и не шарлатанство, может, они и вправду что-то слышат, сокрытое от мудрых и разумных и открытое младенцам?
В то утро я впервые сумел опередить родителей лохотронщика. И уже сам обмирал от ожидания, что Ирка как-нибудь даст о себе знать. Но тишина в наушниках по-прежнему стояла мертвая.
А у ворот ко мне, опять-таки впервые, обратились несчастные родители: нельзя ли им тоже?..
Разумеется, можно. Только, пожалуйста, больше никому не говорите, я без разрешения вынес аппарат за территорию, если на работе узнают, мне конец, тюрьма…
Они поклялись с такой горячностью, которой при их окаменелой скорби было невозможно и ждать.
Они слушали по очереди, передавая друг другу наушники и дважды, и трижды, и лица их светлели и светлели.
– Он же был хороший мальчик, – как бы извиняясь, сказала мне мать. – Только все время искал приключений.
– Я понимаю, – поспешил согласиться я. – Есть люди, созданные для подвигов, обыденной жизни они не выдерживают.
Они ошеломленно воззрились на меня: видимо, этой песни им и не хватало. Оттого-то они и благодарили меня с такой растерянной сердечностью. А назавтра я вновь оказался на кладбище раньше, чем они, хоть я уже и не старался – это они запоздали. Мы столкнулись в воротах, и они так просияли, будто после долгой разлуки встретили любимого родственника.
Но как же мне все-таки выпутаться из своих авансов? «Когда будет готова новая модель?» – об этом меня спрашивали каждый день с такой надеждой, что я наконец решился объявить себя умершим.
А что, выбить рядом с ИРИНОЙ и мое имя, год рождения – год смерти, – все, конечно, поудивляются, когда это меня успели «подхоронить», но постепенно свыкнутся. А встретят случайно в метро – так им теперь к этому не привыкать.
Я отправился в сарай к словорубам, отделившимся от мира траншеей, над которой пружинила затоптанная палаческая плаха. Мать сыра земля. «Просим извинения за предоставленные неудобства». Одна буква на граните от ста пятидесяти рублей в зависимости от размера и от шрифта. «Если делать сусальным золотом, то будет два листика по сто пятьдесят – вместе триста. Вот и считайте – примерно по пятьсот». Что ж, мне вполне по карману известить мир о своей кончине.
На душе полегчало.
Но как же мой Тадж-Махал, как я после смерти буду навещать Ирку? Не беда, Тадж-Махал строится в памяти: когда вместо моего тела на могиле найдут мое имя, это будет еще загадочнее, – идея меня прямо пленила.
Но ведь нашу общую могилу хотя бы изредка должны будут навещать сыновья, невестки, надо, чтобы и они согласились участвовать в этом обмане…
Нет, их на такую операцию будет не подбить, они люди серьезные. Я и открыться им даже не посмею – сразу решат, что я тронулся.
А жаль, красивая комбинация намечалась…
Какая-то комбинация наметилась и с Пампушкой, которую мне уже было неловко так называть. Но и Виолой даже внутренний язык не поворачивался ее назвать. Обожаемая мамочка оказала ей неважную услугу, наградив именем любимого Иркиного сыра. Однако между Пампушкой и Виолой пришлось выбрать Виолу.
Правда, произносить это имя вслух мне удавалось лишь с легким юморком, который она принимала за некую игривость. И ее простодушие меня понемногу растрогало, превратив юморок в снисходительную ласку, вполне мою новую приятельницу устраивающую.
Первую приятельницу с тех пор, как я лишился Ирки, – до этого моих сил обращаться с женщинами доставало лишь на корректность. Но в Виоле было столько чистосердечнейшего, лишенного даже намека на амурность дружелюбия, что как-то само собой устроилось, что, отправляясь навестить мамочку, она звонила мне, и я к ней присоединялся – я был не очень привязан к рабочему месту. А после мы непременно засиживались в нашем кофейном уголке под сверкающей тотальной распродажей.
Не хотелось расходиться. Не только ей, мне тоже. Я лишь с ней почувствовал, до чего я устал от своей неумолимой корректности. И от своего безжалостного ума. А Виола умела болтать какие-то милые и даже неглупые глупости, – за которые, однако, любого мужчину я счел бы кокетливым и приглуповатым. Но к женщинам мы ведь относимся как к детям. Как, впрочем, и они к нам: если за нами не проследить, мы что-то непременно разольем, сожжем, забудем поесть или съедим что-нибудь не то…
Удивительно, как это мы без них обходимся в экспедициях? А плохо обходимся. Когда два месяца подряд сидишь на макаронах с тушенкой, чувствуешь себя вполне здоровым, если уж не как бык, то как борзой пес, и все-таки когда повеет нормальной домашней едой – не желудок, душа устремляется ей навстречу: у желудка тоже есть душа, жаждущая не просто питательного, но еще и вкусного. А когда тебя с женской и притом совершенно лишенной амурности заботой приглашают поужинать, а тебе так не хочется после затянувшегося теплого разговора возвращаться в пустой холодный дом, то легко приходит в голову, что Тадж-Махалу этот ужин не повредит – я же все равно завтра буду там как штык…
Весна упорно отодвигала сумерки на все более и более поздний час, но лужи на обочинах еще при свете схватывались льдом с причудливыми белыми пузырями, которые в детстве я любил гонять, меняя их непредсказуемую форму, и впервые за много лет мне вдруг захотелось проделать это и сейчас. Но машины уж очень неслись как бешеные, и перед Виолой было неловко выставлять себя дураком. Да и к лицу ли это строителю Тадж-Махала? Я не был даже уверен, пристало ли ему поддерживать под руку даму на похрустывающем ледком тротуаре, и потому не столько поддерживал, сколько подстраховывал.
Что еще с Виолой было хорошо – она явно не думала, что я ее должен развлекать, и вообще не считала, что ей кто-то что-то должен, и я мог без напряжения спустить взгляд с поводка, дать ему побегать вдоль домов по Обводному, а не проходить сквозь них, будто сквозь строй, с одним долбящим чувством: надо выдержать, надо выдержать…
Похрустывая ледком, мы шли мимо бывшего ДК Цюрупы – не то аскетичный модерн, не то пышный конструктивизм, – куда мы когда-то приезжали с Иркой на «Июльский дождь». В зале было рассеяно избранное общество человек в восемнадцать, а по экрану мчались и мчались машины, точно такие же, как за стеною на Обводном, только никому бы не пришло в голову в них вглядываться, зато когда кому-то пришло в голову их воспеть – выделить из мира и поместить в почтительное окружение, – уже глаз было не оторвать…
И впервые за много месяцев возвращение туда, где мы с Иркой когда-то были счастливы – а мы были счастливы везде, – отозвалось не подступившими слезами, но лишь усилением привычной и уже почти не замечаемой ломоты душевной боли за грудной костью.
Чем, интересно, теперь угощает железный наркомпрод? На стене выгоревшая фанерная афишка: вокальная студия «Орфей». На облупленных и растрескавшихся некогда элегантных дверях с завитками бронзовых ручек табличка: «Охрана осуществляется частным охранным предприятием „АРМОР“». Армор, Черномор… Вокального Орфея, кажется, АРМОР не уберег. На главных дверях табличка совсем маленькая – обещают кредит. Кредо и абсурдум.
На Дровяной огражденная увенчанным спиралью Бруно бетонным забором промзона выдвинула на красную линию крупноплиточный двухэтажный параллелепипед с набранной крупными синими буквами вывеской «СОВРЕМЕННАЯ САНТЕХНИКА». В просторных окнах дамские сумки и сумочки. Ридикюльно.
На углу Курляндской скромный дом чухонского модерна прибыл прямиком из непарадного уголка города Хельсинки. Собирались насладиться Хельсинками вместе с Иркой, а она так напилась, что я не сумел ее растолкать. Я до того разозлился, что твердо решил: буду жить без нее. И совсем неплохо провел время. Но оказалось, это было еще не без нее.
На размазанном бульваре Циолковского вкусно потянуло квасом имени Степана Разина. Этим квасом Ирка отпаивалась с похмелья, и не знаю, чего бы я не отдал, чтобы вернуть ее в ту комнатенку, мимо которой я теперь прохожу, сжимаясь. Я бы даже поклялся никогда туда не заглядывать, только бы знать, что она там есть.
«ПРОДУКТЫ. Добро похаловать!».
Старо-Петергофский, Республика ШКИД. В витринных окнах элегантные безголовые манекены, и в каждом окне «новая коллекция», «новая коллекция», «новая коллекция», «новая коллекция»… А выше стеклопакеты, жалюзи, стеклопакеты, жалюзи – бизнес-центр. Люди дела.
Справа через проспект строгий конструктивизм бывшего кинотеатра «Москва», огромный фриз всех муз и граций: живописец, скульптор, балерина, скрипач, но в центре все равно люди труда – рабочий и крестьянка, только рабочий опирается на пышный изогнутый сноп, а кресть янка на огромную шестеренку. Перекрестное опыление. Уж как ни доставали сталеварами и свинарками, но даже и тогда, спроси нас, мы бы ответили, что сталевар лучше бармена, а свинарка лучше проститутки. Теперь зато свинарок не показывают, показывают свиней.
Как они так быстро забили все фризы?..
Из-под арки в неверных отсветах открылся двухэтажный кирпичный короб с чернеющими оконными проемами, но нам не туда, в блокадный Ленинград, нам направо. Надвратный фонарь и обострившееся зрение позволили мне прочесть накрашенную по трафарету надпись: «Копейка, отданная чуркам = будущее, отнятое у русских детей». Слово «чуркам» кем-то замазано, но разглядеть можно.
– У вас тут национальная борьба, – указываю я Виоле, и она насмешливо отмахивается:
– Дружки моего сынули написали, а я замазала.
– Так он у тебя… – мы уже на ты, но я ищу слова помягче, однако моя спутница не заморачивается на политике – эти-де мальчишки вечно озорничают!
– Он уже давно от них ушел, теперь по крышам бегает, все ищет себя.
Мы вошли в пыльный, но не замусоренный подъезд и вместо того, чтобы двинуться наверх по выщербленной лестнице, по двум ступенькам спустились вниз к каморке под лестницей. Не иначе бывшая дворницкая, но дворник у них явно имеется, а вот у нас дворник занимался только двором, Ирка сама платила его не то брату, не то свату, которого я потом отшил за то, что он постоянно звонил и спрашивал: «Где мама?» Теперь лестницу моют только разбитым пивом.
– А сын сейчас не дома? В смысле, я ему не помешаю?
– Нет, он живет у подружки. Вместе водят экскурсии по крышам. Есть и на это охотники, – она явно любуется многообразием человеческих пристрастий. – Волнуюсь за него, но линия жизни у него длинная. И мама не допустит.
Всю эту муру она проговаривала как нельзя более естественно.
И дома, переодевшаяся в летний цветастый халатик – по синему алые маки – не маки, – среди тесного советского ретро она была такой естественной и заботливой, что мне показалось, будто я снова приехал на побывку к маме. Где мама… А ее мама, чем-то напоминавшая набравшуюся городской строгости жену Знатного Рабочего, сияла с размытой черно-белой фотографии, вывешенной среди более мелкой фотороссыпи строго над стареньким кинескопным телевизором, который впоследствии мы так ни разу и не включили: я даже испытывал некоторое удовлетворение, что наконец-то и он оказался в нашей власти. Но неизмеримо большее внутреннее размягчение ощущал я оттого, что за мной ухаживают, мне подают, беспокоятся, чтобы я не обжегся…
Я уж и забыл, когда такое испытывал. Я и забыл, что стол можно не накрывать клеенкой, а подкладывать под тарелку салфетку, что еда – не просто белки, жиры и углеводы, но еще и богатство каких-то забытых приправ, которых по именам я, впрочем, никогда и не знал, я забыл, что пищу можно не просто наваливать в одну и ту же миску (которой я все-таки не позволял киснуть в раковине, но сразу мыл вытертой зеленой губкой), а красиво раскладывать по тарелкам и блюдечкам с золотой каемочкой, меняя их после каждого блюда… И у глаз тоже есть душа, любующаяся розовым обрамлением из прозрачных помидорных кружочков.
И все это – чего уж притворяться – светилось женщиной. И нежный голос, и полные гладкие руки, и летний халат, под которым я не мог не замечать живущих самостоятельной жизнью пышных форм. Моему истерзанному окаменевшему сердцу они ничего не посылали, ему нужна была одна только Ирка. Но оказалось, у моих рук, у моей кожи тоже есть свое сердце, и кожа томится по теплой шелковой коже, а руки по горячим нежным округлостям…
Я это заметил лишь в своей холодной постели. А за столом мы прикоснулись друг к другу единственный раз – когда она изучала мою ладонь, справляясь по книжке «Коррекционная хиромантия для начинающих», и показывала мне свою крошечную пухленькую ладошку:
– Видишь, у меня линия разума и линия языка сливаются: что на уме, то и на языке. Но это можно подправить.
– Это как – изменишь линии, и характер изменится?
– Да. А что тут такого?
– Ничего. Возвращение к норме. Человечество прожило без веры в чудеса только три минуты, да и то его загнали туда террором. Нынешний разгул мракобесия всего лишь возвращение к норме.
– Почему мракобесия – вот у моего сынули линия жизни вся из прыжков, он и живет прыжками. Это ничего, главное, длинная. А у тебя линия сердца и разума сливаются – ты и живешь как железный.
Херомантия. Но когда ладошка пухленькая и теплая, когда голосок нежный и не пытается важничать, а мелет себе и мелет утешительные глупости…
– Да, у львов всегда так. Или ты и в астрологию не веришь? Это же тоже наука – чертежи, вычисления…
– Меня удивляет, что из-за открытия новых звезд астрология не меняется. В любой науке бывают революции, борьба школ, гора нерешенных вопросов, а в астрологии две тыщи лет никаких ни революций, ни проблем.
– Да, тяжело тебе живется! Я же говорю: ты железный.