Мания встречи (сборник) Чайковская Вера
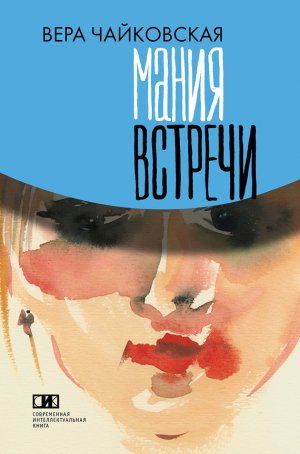
И добавил извиняющимся тоном:
– Я бы исполнил, Иван Георгиевич, дорогой. И с большим удовольствием. Но муж – важный сановник, с гонором. Боюсь вызвать неудовольствие.
Архаров оборвал этот разговор. Внес аванс за акварельный портрет невесты, договорился о днях и часах позирования. (Скворцов рисовал свои акварели быстро, в «импровизационной» манере, но долго изучал модель и делал предварительные карандашные наброски.)
Архаров повернулся уходить, но задержался.
– Так не сделаете?
– Не могу, Иван Георгиевич. Очень горяч муж. А если прознает, что без разрешения…
– А когда, говорите, за ним приедут?
Архаров близко подошел к акварели, но снова взглянуть не решался.
Художник объяснил, что обещались вот-вот приехать. Муж портрет уже видел и велел вставить в раму. Деньги тоже заплачены. За портретом приедет лакей.
Архаров наконец решился и взглянул. И снова тот же внезапный холодок узнавания! Что за притча?
Спускаясь по узкой лестнице, он встретил спешащего наверх человека, по виду похожего на лакея.
– Не от Каюровых будешь?
Лакей кивнул и заулыбался.
– А не мог бы свезти меня к своему барину? У меня до него дело. За вознаграждение, разумеется.
– Отчего бы не свезти? Только погодите, получу заказанную вещь.
И вот Архаров уже мчится в карете в загородное поместье Каюровых – Суглинки. А его спутник-лакей прижимает к груди тщательно упакованный художником портрет.
По дороге Архаров лениво расспрашивал лакея, продает ли барин лес, есть ли для продажи хорошие жеребцы. Все это могло пригодиться в делах по устройству собственного имения. Лакей отвечал толково, видно, был хорошо обучен и не запуган. Архарову почему-то подумалось, что он служит барыне, а не барину.
– А хороша мадам Каюрова? – внезапно спросил он. – Вернее, так ли хороша, как на портрете?
– Анна Эрастовна? Ангел, чистый ангел, – залепетал лакей с обожанием в голосе. – Но хворает. Которую неделю хворает. В лихорадке. Боимся за жизнь.
И тихо добавил:
– Уж больно строг барин. Ни словечка ему не скажи. Все не так… Не нашего ума, конечно, дело…
Архаров выпрыгнул из кареты и велел лакею доложить о себе. Когда он входил в просторную залу каменного деревенского дома Каюровых, хозяин как раз рассматривал акварель, держа ее в вытянутых руках и поворачивая к свету.
– Превосходная работа, – сказал Архаров, входя. – Я тоже заказал Скворцову портрет невесты. И у меня до вас небольшая просьба. Не разрешите ли художнику скопировать вашу акварель? Скворцову много времени не понадобится, так что он вас своим присутствием не обременит.
Хозяин уставился на гостя холодными неподвижными глазами.
– Странная просьба. Вы не находите? Зачем вам копия?
Архаров замялся. Он и сам не мог себе объяснить, зачем она ему. И все же понимал, что нужна, что даже необходима. Что без этого портрета, хотя бы копии, авторского повторения, он чего-то важного лишится в жизни…
– Мне понравилось исполнение. Я вам уже говорил. – В его голосе слышалось нетерпение и легкая досада. – Я поклонник таланта Скворцова. Уже и прежде заказывал ему портрет матушки, теперь – невесты.
Хозяин холодно пожал плечами.
– Вот, кстати. Вы разрешили бы мне заказать копию с портрета вашей невесты? Вам не показалась бы подобная просьба нескромной?
Архаров ответил, пожалуй, с излишней горячностью:
– Сколько угодно! Сколько угодно копий! Я разрешил бы незамедлительно!
В эту минуту в залу вошла женщина в белой легкой, развевающейся одежде (Архаров вспомнил лакеева «ангела»), с лицом бледным и истощенным болезнью, но в ее глазах все еще светилось выражение той милой, детской доверчивости, которую так тонко передал художник.
Архаров всматривался в нее с жадностью. Но этой женщины он не знал!
– Аннета, – обратился к ней муж, – ты не вовремя. Впрочем… Вы не знакомы?
Госпожа Каюрова, запрокинув бледное лицо и чуть приподнявшись на цыпочки (она была невысокого роста в отличие от Архарова), взглянула на него с растерянной полуулыбкой.
– Ах, нет! Я так близорука, Алексей. Ты же знаешь! Но голос… Этот голос я слышала прежде… Я и пришла на звуки голоса, как на дудочку крысолова…
– Но мы не знакомы, сударыня! – быстро проговорил Архаров. Ему вовсе не хотелось предстать перед Каюровым лжецом, который что-то скрывает. Его совесть была чиста.
Каюров недоверчиво поглядел сначала на него, потом на жену.
– Так ты не припоминаешь этого господина? Он хочет иметь копию твоего портрета! Какова наглость!
– Я ведь вас не знаю, не правда ли, сударь?
В тихом, дрожащем от волнения голосе госпожи Каюровой Архарову почудилась какая-то скрытая мольба, словно он мог что-то для нее сделать. Спасти. Безумно полюбить. Увезти на край света. Вылечить от горячки. От ночных кошмаров. От жизни. Словно он был учеником чародея, заговаривающим все недуги и душевные скорби.
– Мне жаль, но мы не знакомы, сударыня, – повторил Архаров, стараясь вложить в эту фразу всю мягкость и нежность, которые у него имелись.
Госпожа Каюрова внезапно бурно разрыдалась и, пошатываясь, хватаясь за стены, удалилась из залы. Архаров в смятении следил, как белое развевающееся платье мелькнуло в коридоре.
– Она больна, – сухо проговорил муж, побагровевший от бешенства, – но вам, сударь, я не спущу вашей наглости! Извольте принять мой вызов. Завтра в девять утра я жду вас у въезда в Суглинки.
– К вашим услугам!
К Архарову вернулось самообладание. Он поклонился и вышел. До дому его довез какой-то случайно подвернувшийся помещик, ехавший в коляске в город.
И на следующее утро, падая в мокрую траву, задетый пулей Каюрова, Иван Архаров припомнил лицо своей няни – молодой крестьянки, ходившей за ним в детстве. Оно светилось той же добротой и доверчивостью, что и лицо Аннеты Каюровой, столь тонко и воздушно запечатленное на акварели. Няня пела ему колыбельную, утешала и нашептывала своему Ванечке смешные, глупые, ласковые слова…
Столкновение маний
Владимиру Шацу нравилось рыться в старых бумагах, письмах, дневниках. По образованию он был физик, закончил физический факультет Московского университета, но когда в 90е годы XX века в стране «все рухнуло», он перепробовал множество профессий. Однако больше всего ему понравилось распутывать хитросплетения прошлых жизней. Про себя он тихо радовался, что все «так мрачно» сложилось. К удивлению окружающих, он превратился в историка, архивиста, почти писателя. А деньги зарабатывал тем, что поставлял свои «исторические хитросплетения» одному ловкому сценаристу, который, прибавив «горяченького», выпекал из них сценарии для телевизионных сериалов. Эти сериалы Шац старался не смотреть – все, что он с таким увлечением откапывал в старых бумагах и потом, невольно огрубляя, воссоздавал в занимательных мелодраматических сюжетах, в сериалах и вовсе опошлялось.
Теперь на его столе всегда лежали ксерокопии писем и документов преимущественно XIX века – наиболее любимой им поры.
Вот и сейчас он вышел на след одной приватной, но тем не менее (или даже потому) особенно для него интересной человеческой истории, случившейся в конце 30х годов XIX века. Пушкин уже погиб, декабристы томились в «мрачных пропастях земли», но жизнь продолжалась, пусть и менее яркая и деятельная, чем в начале тех же 30х годов.
В руки Шацу случайно попали частные письма некой Анны Каюровой, жены крупного петербургского чиновника, которые та с регулярностью, обличающей полное отсутствие собеседников дома, отсылала своей кузине в Ревель.
В письмах фигурировал «злой муж», который «желал ее смерти», а также художник Скворцов – единственное светлое пятно в ее тоскливой и мучительной деревенской жизни. На сеансы позирования Скворцову в его петербургскую мастерскую муж ее отпускал. Они подолгу беседовали, обсуждали новейшие журналы, прозу и поэзию. Художнику не нравился ее угнетенный вид, и он ее все время смешил. В результате получилась чудная акварель («Варя, я даже немного загордилась»), которую муж запер в своем кабинете и никого к ней не подпускал. Это было что-то патологическое. Скворцову хотелось поглядеть, как акварель повешена («он говорил, Варя, что это любимейшее его творение»), но муж ему отказал. Даже она видела акварель со своим изображением только в мастерской художника, когда он, взволнованный и окрыленный, ее показывал.
Во всех этих письмах Анна Каюрова описывала свое нервическое состояние, слабость, лихорадку… Чуть ли не прощалась с кузиной и с жизнью, но вдруг… тон писем резко переменился. В них стали слышаться какие-то новые живые нотки, намеки и умолчания.
Была неожиданная встреча… Акварель оказалась волшебным окошком в душу. Она и привела гостя к ним в дом. Но посетитель ее не узнал. Однако ее душа его узнала и вспомнила былое счастье. Помнишь, Варя, какие мы были проказницы? И помнишь, как к нам в деревню приехал сосед? Как же звали? Нет, не вспоминай! Вполне возможно, что это был другой! Но голос… Она узнала голос. И этот голос ее звал. Из болезни и мрака, отчаяния, безысходности к жизни, Варя, к радости! И, о чудо, она стала оживать. И только потом, позже, когда ей стало гораздо лучше, слуги ей рассказали… Ах, Варя, ты не поверишь!..
Шац перелистнул несколько писем, их сентиментальный тон начал его усыплять. Забавно, но он опустил описание именно тех «кровавых» событий, которые произошли в реальности, а не были выдумкой ловкого сценариста. Обычный «казус» историка.
Но вдруг он увидел письма с иностранными штемпелями, приходившие кузине Варе уже не из Петербурга и Суглинок, а из Венеции. Он стал читать внимательнее. Впрочем, тут были почти одни эмоции и восклицания. Никакого «злого мужа», одно счастье и безграничная любовь. Но с кем она там оказалась? Со Скворцовым? С тем, кого встретила в доме мужа? Или с кем-то другим?
Шац, поразмыслив, избрал второй, более «сценичный» и правдоподобный вариант и стал набрасывать сюжет, подходящий для мелодраматического «костюмного» сериала о любви «по портрету», известной с рыцарских времен.
Молодой петербургский аристократ с поэтической жилкой влюбился в неизвестную даму, случайно увидев ее портрет, и потом постарался сделать все возможное, чтобы встретиться с оригиналом.
Вот он подкупает слуг, являясь в поместье переряженным в торговца благовониями. И хитроумным способом, в коробочке из-под благовоний, подбрасывает даме, которую ревнивый муж почти что запер, записку с просьбой о встрече. «Болезнь» дамы Шац превратил в «нервическую хандру», в женскую причуду (словно позабыв, что все свои «настоящие» болезни приписывал исключительно «нервам»). Наконец в липовой аллее произошла встреча.
Тут Шац тоже кое-что изменил. Анна Каюрова в письмах к кузине давала своей встрече какое-то мистическое толкование. Она, мол, узнала не человека, а голос. Шац всю мистику убрал. Аристократ сначала узнает даму «по портрету», а потом вспоминает, что много лет назад видел ее в деревне – девочкой. И она узнает в нем соседа, который когда-то приезжал в поместье родителей. Ловкий сценарист подбавит сюда дворцовых интриг и «кровавых сцен», вплоть до дуэли с мужем.
И потом красавец аристократ увозит свою Анну в Венецию. Далее… далее кто-нибудь из них должен погибнуть – не тянуть же эту историю вечно…
Но Шац отвлекся от сюжета и стал думать о портрете, который ведь и в самом деле что-то решительно переменил в жизни его героини, этой бедной Анны Каюровой.
Что же такое в нем было? И подействовала бы сейчас на него, Шаца, эта старинная магия? Где же находится портрет?
Неизвестно как, постепенно и подспудно, Владимиром Шацем овладело нечто, похожее на манию, – найти этот портрет и вглядеться в лицо Анны, Анюты, Нюши Каюровой, на нем изображенной. Зачем? Он не знал. Но почему-то это было необходимо. Странно, с такой одержимостью он не любил ни одной женщины и никогда так не рвался на свидание! Может, он и вовсе не любил? Ему мерещилось, что портрету под силу что-то изменить в его жизни, лишенной воздуха, поэтического опьянения, всего того, чем так было пропитано почти каждое письмо, каждая строчка, каждый живописный образ любимого им века!
Шац вычитал в доступной ему литературе, что Петр Скворцов был в свое время известным художником академического склада. Ученик Карла Брюллова, унаследовавший от учителя виртуозную технику акварели в сочетании с белилами или графитным карандашом. Но у ученика манера изображения была более «классичной», хотя и не без вспышек романтического чувства. Героинями акварлей художника становились в основном молодые богатые аристократки. Приводился список работ художника, в том числе и портрет Анны Каюровой, упоминаемый рядом исследователей второй половины XIX века как безусловный шедевр Скворцова. Но тут же Шац прочел пометку: «местонахождение неизвестно».
Однако на то и мания, чтобы прошибать лбом стены! Шацу посчастливилось познакомиться с одним старым москвичом-коллекционером, который и навел его на след акварельного портрета Анны Каюровой работы Петра Скворцова. Акварель, как выяснилось, находилась в частном собрании одного собирателя, безвылазно живущего в Москве. Шац тут же взялся за поиски и нашел-таки адрес и телефон этого человека. Связавшись с ним по телефону, он осторожно сказал, что собирает акварельные портреты «круга Брюллова» и хотел бы побеседовать об этом предмете.
Ему была назначена встреча. Шац заранее ликовал и радовался. Голос собирателя по телефону был бодрым и совсем не старым. На деле же он оказался глубоким стариком с белыми развевающимися вокруг лысины волосами и живым, цепким взглядом, вдруг выстреливающим из-под очков.
Он ввел гостя в свое совсем обветшавшее жилище, которым явно не занимался. Мебель тут была вовсе не старинная, а просто очень старая, с потолка сваливалась штукатурка, обои отходили от стен. Хозяин предложил гостю сесть в строгое черное кресло, кожа на котором совсем вытерлась и побелела. Сам сел напротив в такое же.
Владимир Шац, измученный нетерпением, решил больше не темнить и сразу открыл карты.
У него имеются ксерокопии писем некой Анны Каюровой, жившей в Петербурге в конце 30х годов позапрошлого века. В письмах она упоминает о своем акварельном портрете работы Скворцова. Сведения о портрете он встречал и в некоторых исследованиях. Его, Шаца, очень занимают и эта женщина, и этот портрет. Хотелось бы на него взглянуть.
Шац воззрился на старого собирателя. Тот молчал. Пауза затягивалась. Шац занервничал и заерзал в своем кресле. Наконец старик заговорил гулким глубоким голосом – в комнате были непривычно высокие потолки и прекрасная акустика.
– Портрет у меня. Но я вам его не покажу.
Как? Что? Шац задохнулся от изумления.
– Как не покажете? Я же вовсе не собираюсь его фотографировать или приобретать! Только взглянуть!
Старик усмехнулся.
– Скажите, молодой человек, сколько раз вы были женаты?
Шац еще более изумился. Тема была для него щекотливой.
– Женат? Два раза. Нет, постойте, все же три… Но сейчас я…
Старик не дослушал.
– Так я и знал! В современном духе.
Он выпрямился в кресле, с видом властителя оглядывая свои жалкие владения.
– А я, мой дорогой, был женат единожды. И боготворил свою жену, боготворил! Несколько лет назад она умерла. При ней тут все сверкало… Я свои чувства не размениваю и свои привязанности оберегаю. Кто бы ни воцарялся – Сталин, Хрущев, Брежнев, – я хранил свои сокровища. Вы думаете, я легко отыскал этот портрет? Один коллекционер мне сказал, что Каюрова схожа с Шурой. Так и оказалось! Но чтобы убедиться в этом, я охотился за ним несколько лет. А потом отдал за него все деньги, которые удалось скопить, – я не Ротшильд, я всего лишь инженер. Был инженером. Я хотел его иметь – и портрет у меня. Шуры нет, но есть этот портрет. И я не хочу ни с кем делиться!
Шац, завороженный горячностью старика, не сразу нашел что сказать.
– Да, но что будет с ним потом, когда?..
Он не докончил фразы, но собиратель понял.
– Я его прежде сожгу, как сжег нашу с женой переписку. Это касается только нас двоих. Мне вовсе не хочется, чтобы кто-нибудь потом рылся в письмах…
Он выразительно взглянул на Шаца.
– Да, – пробормотал тот, впавший почти в столбняк от услышанного, – да… Вы мне напоминаете мужа Анны Каюровой. Он даже ей не показывал портрет.
– А что ж? – Старик повертел в руках старую стеклянную и давно, вероятно, не нужную пепельницу, стоявшую на столе «со времен жены». – Вот у вас ведь возникло непереоборимое желание взглянуть на портрет Каюровой, не так ли? Или даже купить его? А у нас с тем человеком – противоположное желание, назовите это хоть манией, – никому не давать смотреть на дорогие для нас вещи. Оставить их для себя и для космоса. Пусть их видят ангелы. А не люди, которые все делают товаром, все изгаживают!
Старик закашлялся и тут же встал с кресла, давая понять, что аудиенция окончена.
Невероятно, но Владимир Шац уходил от собирателя в приподнятом состоянии духа.
Старик его поразил, заставил что-то совсем затихшее услышать в собственном душе. Он, как незрелый юноша, стал вдруг думать, что, может быть, не все для него потеряно, что жизнь таит неведомые возможности и какая-то встреча все же его ждет…
Через некоторое время ему привелось присутствовать на съемках сериала по своему сюжету, над которым славно потрудился ловкий сценарист.
Раздался крик: «Мотор!» – и молодая, взволнованная дебютом актриса, вся в чем-то белом, легком, струящемся, легко пошла по липовой аллее прямо на камеру. Шац замер. Словно он это когда-то уже видел. Так и должна была идти Каюрова, пригрезившаяся своему аристократу. Так должна была идти – парить – любимая кем-то женщина. «Стоп! Что за тарковщина? – яростно закричал режиссер. – Иди нормальным шагом, не взлетай! Снимаем для народа, а не для психов».
Шац тут же припомнил старика-коллекционера с его репликой в адрес «народа», людей, все делающих товаром, – и, раздосадованный, покинул съемки.
Три рассказа
(из старой тетради)
Невеста
Надя вышла в сад, запущенный, заросший сорной травой, одичавший без многолетнего присутствия хозяев. В этом деревенском доме, купленном еще бабушкой, прошли все летние месяцы ее детства. Потом, когда в России началась великая смута перестройки, она с родителями уехала в Италию. Там она увлеченно училась вокалу – у нее обнаружились прекрасные данные, которые, по мнению итальянских маэстро, в будущем обещали еще более развиться – певческий аппарат формируется поздно. Надя старалась изо всех сил, занималась сольфеджио, играла на фортепьяно, брала уроки пения у лучших профессоров маленького приморского городка, в котором поселилась. К этому времени ее родители уже перебрались в Америку и посылали ей деньги на жизнь и ученье, львиная доля которых уходила на оплату комнатенки, которую Надя снимала у набожной католички Лизы. И сколько слез Надя пролила по ночам, вспоминая Москву, бабушку, дачу, далеких родителей, никто не узнает! Однако к тридцати годам выяснилось, что певицы из нее не выйдет. Голос до конца «вытащить» не удалось. Верхи были прекрасные, точные, серебристые и звонкие, а вот средний регистр начисто отсутствовал. В полном отчаянии Надя вернулась в Москву, где еще жила ее бабушка. Лето в Москве выдалось жарким, почти как в Италии. И они с бабушкой, наскоро собравшись и наняв за баснословную сумму такси, покатили в свое «рязанское имение», которое все эти годы стояло заколоченным.
«Purina, purina – бедняжка, бедняжка», – жалобно ныло в Надиной груди, пока они тряслись по ухабам, подъезжая к деревушке, где стоял их дом. Ей было невыносимо жаль себя и жаль бабушку, храбрившуюся, но сильно сдавшую за эти годы, совсем слабенькую. Однако она не потеряла привычки бывшей учительницы говорить в повелительном наклонении и без «пожалуйста», что Надю сильно обижало.
– Принеси воды! Убери со стола! Не шуми!
Как с Золушкой! Надя и чувствовала себя этакой Золушкой, проведшей «лучшие годы», как говорили в старину, в заколдованном королевстве, где все было чужим и только квартирная хозяйка Лиза сочувствовала русской девушке и называла ее на своем диалекте «purina», вместо литературного «poverina». Получалось жалостнее и ласковее. Иногда Надя ей пела высоким и чистым, колокольчатым голоском, а та, расчувствовавшись и даже всплакнув, наставляла ее в искусстве жизни. Пение – это баловство. Неверное и неприбыльное занятие. Замуж надо – вот что!
Но вся девическая Италия изнывала в поиске женихов. Странное дело! Не то все мужчины брачного возраста сделалиь священниками, не то смертельно боялись тягот брака, не подлежащего расторжению, но все Надины подружки-итальянки были одиноки. Может, поэтому и Лиза считала замужество самым важным и трудным делом.
Наде давно, с первой встречи нравился сосед, напоминавший юношу с портрета Джорджоне: столь же благородное, строгое, горделивое лицо в темных густых кудрях. Все в нем было породистым, патрицианским. Антонио был сыном профессора консерватории, в которой Надя долгие годы училась. Однако сам увлекся техникой, что сильно не нравилось его отцу. Антонио снимал комнату в соседнем доме и по утрам, понурив худые плечи, шел в какую-то свою фирму по починке компьютеров. Иногда к нему захаживали приятели, чаще приятельницы, все очень худые и длинноногие, с незапоминающимися, словно стертыми лицами. А когда Надя с ним здоровалась, он делал такое недоуменное лицо, точно видел впервые. Вероятно, она была не в его вкусе, белокожая и рыжеволосая, крепко сбитая и здоровая, что на Руси называется «кровь с молоком».
Перед отъездом из Италии Надя случайно встретила соседа.
– Уезжаю вот.
Она с излишней веселостью взглянула на смуглое точеное невозмутимое лицо Антонио.
– Как уезжаешь? Когда?
Его лицо внезапно дрогнуло и потемнело, а волосы откинулись назад, как от дуновения ветра.
– В Россию еду. Завтра.
– Но папа говорил, что тебе еще нужно учиться. У тебя проблемы с тесетурой. Нужно разрабатывать средний регистр.
Он даже это знал!
– Дома доучусь. Да мне и верхнего хватает.
И она пропела несколько верхних нот из припева «Санта-Лючии»:
- Лодка моя легка,
- Весла большие!
Да так нежно, таким серебристо-лунным голоском!
Он заговорил быстро, бессвязно, задыхаясь и временами останавливаясь, словно в каком-то остолбенении.
– Еще хотя бы год… Съемная квартира… Моя фирма прогорает… Папа говорил… Сольная карьера в Италии… Папа считает…
Сам он своего папу не послушался, а ей советовал слушаться! И откуда вдруг такой пыл! Он ее с усилием узнавал на улице!
Сосед прервал свою околесицу и взглянул на Надю долгим серьезным взглядом. Взглядом какого-то зверя. Волка. Волчонка.
– Не уезжай!
Она вынула из сумочки билет на самолет и повертела перед его глазами.
– Вот, гляди. Билет!
Он уставился на билет, потом на Надино пылающее лицо – они стояли на самом солнцепеке.
– Погоди минуточку. Я схожу к себе.
И через минуту вложил ей в ладонь холодный белый камешек с черными прожилками.
– Нашел на берегу. Это тебе на счастье. И на память.
И тут же удалился, вновь совершенно невозмутимый.
А для Нади этот смешной камешек стал самой драгоценной вещью. Его она сжимала в руке, подъезжая с бабушкой к даче…
В саду Надя села на старые, еще с ее детских лет повешенные папой качели и попыталась раскачаться. Что-то ей мешало. Она оглянулась. Сосед смотрел на нее через забор. И не подумал улыбнуться и что-то сказать. Стоял и нагло смотрел. Невоспитанный человек! Хам!
Сосед был москвич, и бабушка хорошо знала его родителей и его самого, когда он еще учился в каком-то техническом вузе.
Но в этот приезд бабушка его не узнала – он поборовел и облысел, и вид у него был деловой и совершенно непроницаемый. Сосед скупил уже несколько домов вокруг их дачи. В деревне говорили, что он собирается построить тут роскошный особняк. Пока что он жил на старой даче, еще родительской, но обновленной, с баней и гаражом. Бабушке кто-то сказал, что сосед – директор фирмы по продаже сотовых телефонов. Он и ходил по деревенским улицам в гирлянде из телефонов, поднося к уху то один, то другой, и разговаривал по ним громко, с напором и важностью. Точно без этого делового разговора мир перевернется. Выглядел он пожившим, но бабушка высчитала, что ему никак не больше сорока пяти.
Лысых Надя не любила. Ей все мерещились кудри Антонио. И по сотовому разговаривала очень редко, в критических ситуациях. Сотовый словно что-то важное нарушал в течении жизни, в ее праве на тайну, молчание и тишину. На забытость и безответность, на долгий, сбивчивый, страстный мысленный разговор…
Сосед чуть прищурил от солнца глаза. Его лицо и лысина блестели. Он был в светлых шортах и светлой футболке, весь увешанный телефонами, большой, крепкий, наглый.
Наде расхотелось качаться, она соскочила с качелей и пошла в дом.
– Борис! Идите к нам чай пить!
Бабушка звала соседа воркующим «светским» голоском. Она твердила Наде, что с соседом нужно поддерживать хорошие отношения – у него есть машина, в случае чего отвезет, куда потребуется. Они обе трусили жить в такой глуши. Деревня затаилась, колхоз ликвидировали, библиотеку и школу закрыли… Каждый перебивался, как мог. Поблизости не было ни почты, ни аптеки, ни медпункта. Каменный век!
Сосед крикнул бабушке из-за забора, что непременно придет к вечеру на чай. Готовьте варенье. А уж о торте он позаботится. И действительно явился часов в шесть к ним на веранду, притащив какой-то немыслимых размеров и, вероятно, очень дорогой торт, весь в крупных розах из крема ядовитого цвета. Надя брезгливо отставила тарелку с этим тортом, которую ей сунула бабушка, и молча слушала разговор. Бабушка вспоминала, какую она прежде настаивала наливку из черной смородины, а сосед тянул свою песню про сотовые телефоны, которые вскоре опояшут весь мир. И, словно в подтверждение их вездесущности, ему то и дело звонили, и он, не извинившись, говорил что-то непонятно-деловое громким и четким голосом, в явном упоении от самого процесса. При этом он упирался взглядом в Надю, и ей все время хотелось встать и уйти. Но бабушка глядела на нее сердито и умоляюще.
Теперь вечерами сосед, посвистывая, расхаживал вдоль забора, высматривая Надю. А она от него пряталась за густыми, разросшимися деревьями сада. Она соседа боялась. Словно у нее не было от него никакой защиты. И дело было не только в его деньгах, машине, телефонах, но и в этой наглой наступательной мужественности, в крепкой фигуре, радующейся деревенской свободе, всем этим ярким футболкам, шортам, сандалиям на босу ногу. При этом сосед не забывал обливаться какой-то дорогой туалетной водой, запах которой вызывал у Нади отвращение, но и странное желание понюхать еще… еще… Словно вода была наркотиком, ее одурманившим. А бабушка ничего не понимала, жаловалась на жжение в груди и на память. Вот даже лицо Риты (Надиной мамы) не может припомнить.
Как-то утром сосед заявился к бабушке завтракать на веранду, а Надя закрылась в своей комнатенке, и ее буквально била дрожь – так она чего-то боялась.
Потом она проскользнула мимо них в сад – к своим деревьям, травам, полевым цветам. Деревья помнили ее еще девочкой. Она видела, как сосед уходит с веранды, разговаривая по двум сотовым телефонам. Мелькнула сквозь зелень его мощная спина в синей футболке и крупная загорелая голова со светлыми, младенчески выгоревшими волосами вокруг лысины.
– Надя! Надюша!
Бабушка спешила к ней, спотыкаясь о коряги и помогая себе руками, как пловец.
– Надя, он хочет… Борис Васильевич, наш сосед… Он готов на тебе жениться. У него в Москве большая квартира. Есть взрослый сын. Он разведен. То есть не сын, конечно, а сам Борис. Надя, какая удача! Как обрадуются родители!
Надя оцепенела. Хорош женишок! Объяснился через бабушку. С ней не сказал и нескольких слов. Словно разговоры вообще не важны, а нужно что-то другое – то постыдное, ужасное, сладостное, о чем и она сама постоянно, постоянно!..
Бабушка кричала каркающим голосом плохо слышащего человека, поразительно похожим на голос Надиной хозяйки-католички. И говорили они примерно об одном. Наде давно пора замуж. У нее нет профессии. Нет денег. На что они будут жить? Ну хорошо, давай еще подождем принца. Принца на белом коне…
Каркающий голос бабушки пересекся с голосом популярного барда, унылым и тускло-скрипучим, как ржавое колесо. Это сосед завел магнитофон. Этого «ржавого» пения Надя уже вовсе не могла вынести и крикнула, обернувшись к даче соседа:
– Сделайте тише!
Пение тотчас прервалось. Она сможет им командовать? Господи, да она о нем уже почти мечтает! Ведь у нее в голове все какие-то безумные мысли – броситься в речку или на шею первому встречному! Ведь она уже вспоминает его синюю футболку, мощный торс, его уверенные интонации по телефону, запах его туалетной воды… Броситься, как в омут, не размышляя!
Поздно ночью она позвонила маме в Америку и сказала, что ее, как бы это выразиться, «сватают», на старинный манер, через бабушку. Сосед, «новый русский». Может, ты его помнишь? Борис Васильевич. Но мама его вспомнить не могла.
– Мама, что мне делать?
Надя хотела, чтобы ее умная и тонкая мама все за нее решила, потому что она сама уже ничего не понимала, совсем запуталась. Но мама говорила какие-то обтекаемые фразы, спрашивала о бабушке, жаловалась на жару и на чудовищную загруженность.
– Может, ты к нему привыкнешь.
В голосе мамы слышалась легкая досада. Проблемы с дочерью не решались. Напротив, их становилось все больше и больше.
Тут их рассоединили.
Привыкнет? А как же любовь? Как же бессонные ночи? Случайные встречи? Переписка по Интернету? Неясные, глупые, безумные слова и желания? Как же весь любовный бред, который важнее, важнее, важнее?..
Она достала из сумочки белый камушек с черными прожилками. Он был для нее теперь единственным ориентиром, единственным воплощением «бреда» в размеренном и умном, взрослом мире. Что делать? – ей не дался средний регистр. У нее только верхние ноты. Purina, ox purina!
Утром она твердо знала, что делать. Она кинулась к бабушке и предложила уехать. Побыстрее. Сосед – Колька, бывший колхозный тракторист, – их довезет. Она договорится за бутылку водки или за две. Вещей у них немного. А там в Москве ванная, удобства, аптеки! Едем, милая бабушка!
Когда загружались в старый «жигуль» бывшего тракториста Кольки, из своей дачи неторопливо вышел Борис Васильевич и встал у забора, картинно поигрывая сотовыми телефонами. Бабушка в испуге поскорее спряталась в машину.
А Надя вскинула голову и вдруг запела своим высоким колокольчатым голоском:
- Лодка моя легка,
- Весла большие!
Оборвала себя на самой верхней ноте, села в машину, и они с бабушкой покатили в Москву.
Неподвижное солнце
– Я же тебя просила не оставлять чашку на столе!
– Прости, забыл.
– Но я же просила, чтобы не оставлял!
– А я тебе ответил, что забыл!
– Но я же просила!
И так до бесконечности. Что-то тупое, недочеловеческое было в этих взаимных упреках, выдававших подспудное, годами копившееся раздражение. Он свою жену терпеть не мог и догадывался, что с ней дело обстоит примерно так же. Оставался сын-подросток, но и сын, всегда принимавший сторону матери, не вызывал теплых чувств. Абсолютная безлюбовность. Окончательно эту неутешительную мысль Игорь Петрович сформулировал по дороге от станции к своей халупе, покосившейся, с облезлой синей краской на бревенчатых стенах, да просто убогой рядом с немыслимыми «фантазийными» постройками «новых русских», столь же хамскими и наглыми, как их владельцы. Так бывают собаки внешне и даже в поведении очень похожи на своих хозяев.
С собой он захватил портативный компьютер, чтобы поработать над книгой о нерешенных, а возможно, и нерешаемых проблемах мировой культуры. Его лично занимала проблема соотношения иррациональных и рациональных моментов.
Но помимо научных «проектов», просто хотелось отдохнуть от домашних дрязг, мелких, скучных и злых, оставляющих чудовищный осадок.
Спасало только воспоминание о маме, которая его любила, несмотря на все его «закидоны». И целовала в рыжую макушку, а он вырывался и фыркал.
– Все равно люблю! – напевал мамин голос откуда-то из залетейских глубин. И было неколебимо ясно, что с этой любовью не совладать ни времени, ни смерти.
Проходя к своей даче по соседней улице, где был поворот прямо к нему на участок, он, обычно очень рассеянный и не замечающий дороги, внезапно углядел развалюху, похожую на его собственную и тоже стоящую в окружении наглых соседей – с зубчатыми каменными башенками и внушительными бетонными заборами.
Он припомнил, что в этот голубенький домик они с мамой часто наведывались в его детстве. Тут жила мамина приятельница Полина Михайловна, тоже медичка, к тому же работавшая с мамой в одной поликлинике. Она сразу сажала Игоря за стол на веранде или в саду, наливала какого-то особенно ароматного чая (Игорю он не нравился) и накладывала ему варенья из райских яблочек, собранных в своем саду. Варенье ему тоже не нравилось, и он, настороженно косясь на оживленно беседующих Полину Михайловну и маму, отставлял розетку в сторону – приторное какое-то! И жевал кусок хлеба – вот хлеб был вкусный. Иногда из своей комнаты выбегала дочь Полины Михайловны – Катя, быстро хватала что-то со стола – пряник или конфету и убегала к себе, почти не взглянув на Игоря. Он был еще школьник, девятиклассник. А она готовилась поступать на художественно-графический факультет Педагогического и корпела над рисунком. Игорю эта выбегающая на минутку девушка, пышноволосая, тоненькая, темноглазая, казалась существом с другой планеты. У нее уже была какая-то своя, взрослая, захватывающая жизнь! И он ждал ее появления всегда с таким напряжением и пылом, точно их связывали какие-то романтические, тайные отношения. И то, что она его не замечает, – это ее «взрослая» игра. Впрочем, и это ему нравилось, и это захватывало, как потом уже мало что…
Встрепенувшись, Игорь Петрович сдержал шаг и направился к калитке знакомой дачи. Если Полины Михайловны нет, он хотя бы узнает, где она. Жива ли. Мама бы одобрила. Вообще он шел к этой даче словно бы для мамы.
Приоткрыл незапертую калитку и вошел. Лет тридцать тут не был. С отрочества.
Навстречу побежала не злая собака, гремящая цепью, как у «крепких» хозяев, а протрусил толстый белый щенок с глупой прелестной мордой. В глубине сада за столом пила чай женщина, совершенно седая и, вероятно, очень долго уже живущая, но с красивым лицом мягких очертаний и с величественной осанкой. Он вздохнул облегченно, словно нашел подтверждение давней своей догадке, что мама и в старости осталась бы красивой.
– Игорек! Боже мой! – вскричала женщина, опередив его вопросы. – Какой ты умница, что зашел! А то мы с Катей думали, что ты нами пренебрегаешь. Гордо проходишь мимо.
Игорь Петрович кинулся к ней, и они расцеловались, как родные, словно и не прошло столько лет.
– Такой же рыжий. Но стал гораздо интереснее. Небось доктор наук? Вид профессорский.
Полина Михайловна ласково потрепала его по жестким волосам.
– Седеешь уже. Постой, ты ведь младше моей Катьки?
Тут она стала звать Катю, сидевшую в своей комнате.
Но та не выходила. Наконец за ней побежал белый щенок, до того все время вертевшийся возле Игоря Петровича и тыкающийся в его ботинки глупой, смешной, прелестной мордой. Даже глупый щенок понял, что Катю заждались. Наконец она вышла – страшно бледная, с лихорадочным неподвижным взглядом, худая, как не снилось тем, кто мечтает похудеть. Только волосы остались пышными, точно пушинки у одуванчика. И сама она напоминала худенький, подставленный ветру стебелек.
– Это Игорь, помнишь? Сын Ларисы. Моей подружки. Ну, такой красивой, черненькой…
Полина Михайловна всем лицом – глазами, бровями, всеми складочками и морщинками, – казалось, хотела напомнить дочери о ненужных и неинтересных ей людях. Каком-то Игоре, какой-то Ларисе.
Катя непонимающе, с досадой поглядела на мать, потом скользнула равнодушным взглядом по Игорю Петровичу, задержавшись на его волосах, вероятно, вследствие их яркости, безотчетно притягивающих, зябко завернулась в темно-бордовую накидку, слишком теплую для летнего дня, и медленно, с пошаткой, точно слепая, удалилась в дом. Щенок побежал за ней, но скоро вернулся.
– Не обращай внимания, Игорек!
Бедная старушка покраснела от неловкости.
– Конечно, помнит. Просто у нее очередной творческий кризис. Не покупают у нее картины, хоть ты тресни! Я говорю – Ван Гог! А она – плевала я на Ван Гога! Что тут скажешь? И с мужем развелась. И болеет.
– Чем болеет?
Он спросил машинально, пораженный видом Кати, запомнившейся ему живой, стремительной, яркой.
– А бог ее знает! Я хоть и врач – не пойму. Всем. Я ее и не пытаюсь лечить. А к другим она не ходит, считает шарлатанами. Только деньги дерут. В этом она, Игорек, права.
По старой традиции Полина Михайловна стала поить его чаем, усадив за столик в саду. Вынула она и банку варенья.
– Не обессудь – райских давно уже не варим. Это сливовое. И знаешь, для покупного очень даже неплохое. Нет уже сил возиться, честно говоря.
Уходил он со смешанным чувством. Его грело, что нашлось место, где, по крайней мере, двое – щенок и старушка – будут ему рады! Дачное одиночество тяготило. Но что случилось с Катей? Банальное «постарела» тут не годилось. Не постарела вовсе, а словно бы выползла из-под руин!
Кажется, Одинцова в «Отцах и детях» говорила, что в деревне необходим режим – иначе помрешь с тоски. У него режим сложился. Утром он совершал оздоровительную пробежку вдоль лесочка и ходил в местную лавку за продуктами. После обеда работал над книгой. А к вечеру захаживал к соседям – пить чай с Полиной Михайловной и помочь по хозяйству: принести воды, починить кран или крыльцо. Женщины были абсолютно не приспособлены к деревенской жизни – Полина Михайловна в силу преклонного возраста, а Катя из-за полной отрешенности от быта. И как они обходились прежде, было загадкой.
Щенок с гордым именем Дон Педро бежал к калитке его встречать, радостно тявкая и срываясь на визг. Полина Михайловна в кружевной шали с улыбкой поджидала его за столом в саду. И только Катя не выражала никаких чувств, но хотя бы не уходила при его появлении, а сидела в шезлонге под яблоней, прикрыв глаза. Яблоня раскачивалась от легкого ветерка, спускались сумерки, и тени на Катином лице становились гуще и загадочнее. Она зябко куталась в свою просторную бордовую накидку, не открывая глаз.
– Иди к нам чай пить!
В голосе Полины Михайловны появлялись интонации, с какими детей зовут поглядеть восхитительный аттракцион. Но Катя не соблазнялась.






