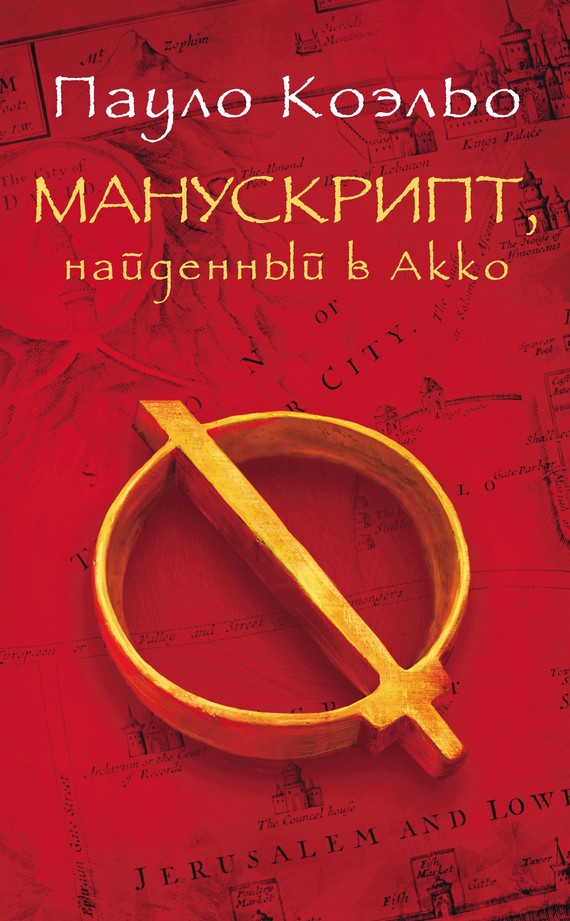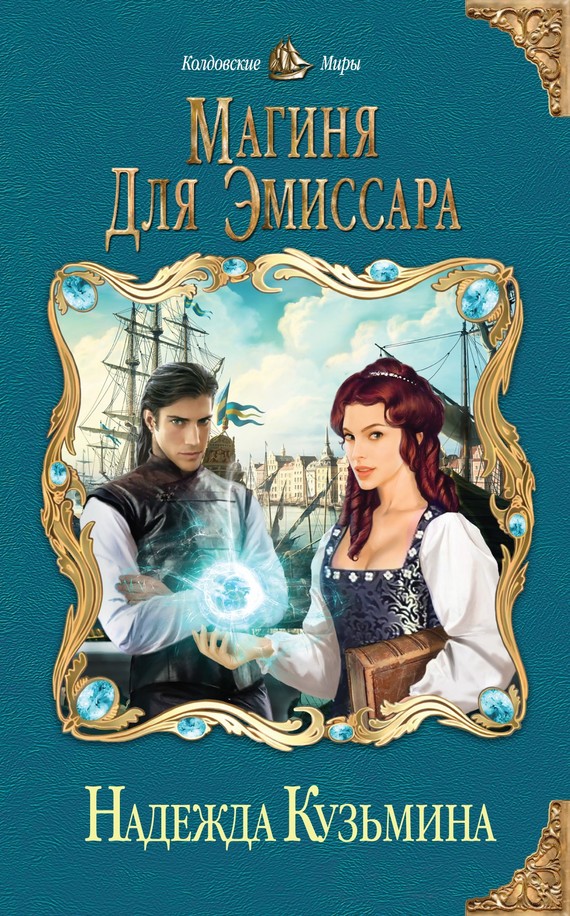Красный свет Кантор Максим

– Триста? Долларов?.. Вот за это?
– Два часа работы, – сказал Гусев, преувеличив затраченное время.
– И что, час такого труда сто пятьдесят баксов стоит? – Семен Семенович даже задыхаться стал.
– Я все же не сантехник, – заметил Гусев, и глаза Гусева недобро блеснули.
Семен Семенович хотел было посоветоваться с женой, но жена явно не одобрила бы трату, вступила бы в спор, женщина строгая; а ссориться с Гусевым не хотелось. Человек мстительный, Гусев мог разнести по городу сплетню, мог рассказать каждому, будто Панчиков жалеет денег на правозащитные плакаты. И слово «шантаж» само собой соткалось в мозгу Семена Семеновича. Панчиков отсчитал в жадную гусевскую ладонь сотенные купюры. Гусев сунул деньги в карман, допил шартрез (его еще и ликером напоил Семен Семенович), постоял, прищурившись, обозрел сделанную надпись – и двинулся прочь: в те дни было много заказов.
Панчиков даже не пошел к дверям художника провожать – так расстроился. Плакат, однако, был готов; транспарант стоял в коридоре, ждал своего часа, и Панчиков предвкушал, как предъявит надпись тираническим соглядатаям. Смысл плаката был в том, что на открытом обществе в России поставлен крест. И в самом деле: что же это творится, господа? Где обещанные свободы?
Не один Семен Семенович был взволнован. Люди в стране возбуждены до крайности: пьяницы пьют втрое против прежнего, студенты пропускают занятия, домохозяйки забывают про включенный утюг – все ждут перемен! И госбезопасность утратила хладнокровие. В брежневские времена госбезопасность охотилась за шпионами – а нынче вызывают на допрос обычных граждан, пожелавших участвовать в гражданском митинге. Неужели всех – а сколько их, не смирившихся с режимом? миллионы? – неужели всех вызвали к следователю? Наверное, не всех, но самых активных – безусловно.
Панчиков вертел в руках повестку: «Панчикову С. С. явиться»… Листочек бумаги – а на нем твоя судьба. Показал жене:
– Не успели собраться на митинг – и вот результат.
– Зачем ты вообще взял в руки этот конверт? – Жена Панчикова была женщиной практичной.
– Принесли, в дверь позвонили, в руки дали…
– А ты зачем взял?
Казенное письмо принес обычный почтальон, мальчишка восточной наружности – не то татарчонок, не то таджик. Панчиков замечал его прежде, мальчишка жил в дощатых вагончиках на стройке – в Москве, когда начинают долгую стройку, в дощатых времянках, что стоят на строительном пустыре, селятся странные люди. В последние годы на стройках работали представители мусульманских республик – тощие, запуганные, жилистые мужчины. Откуда они брались, Семен Семенович не интересовался: тянутся к жирной Москве, слетаются, как мухи на мед.
Вот и почтальон жил в вагончике на стройке; приветливый такой мальчишка, всегда кланяется, униженно здоровается. Попросил мальчишка расписаться на бланке: мол, письмо доставлено, получил такой-то. Панчиков, помнится, подивился: все-таки уроки рыночной экономики дают плоды. Даже из такого вот татарчонка можно сделать работника. Дал десять рублей – пусть купит себе сладкое.
– Расписался?
– Конечно.
– Как ты мог! Надо было сказать, что ты – не С. С. Панчиков, что ты его родственник, а Семен Семенович здесь давно не проживает… Ты ведь Солженицына читал! Помнишь, в журнале «Континент» была статья, как себя вести, если вызывают на Лубянку? Забыл?
Сколько раз потом вспомнит Семен об этой оплошности! И лежа на нарах Бутырского изолятора, и на полу в камере Лефортовской тюрьмы, пока уголовники будут пинать его ногами… Сколько раз он скажет себе: «Глупец! Почему не представился я дядей Изей из Ташкента? Почему?» И когда домушник Ракитов нагнет его к параше, а отвратительный наркоман Хрипяков будет мочится ему в лицо, вспомнит Семен Панчиков этот злосчастный миг: как взял он пластмассовую шариковую ручку из нечистых рук почтальона, как успел подумать, что ногти у почтальона грязные, и как поставил свою подпись в графе «получатель».
– Но ведь я не знал, что внутри…
– А чего ты ждал от России?
– Униженное, рабское, запуганное общество!
– Кто знал о том, что ты собрался на митинг?
– Почему я должен прятаться? Я не вор!
– И все же? Сколько человек знали – и по именам?
Семен Семенович прошелся по кабинету московской квартиры – семь шагов до стены, столько же обратно. Боже мой! Точно в камере ходишь, от стены до стены… Он сел на стул, оглядел тесную комнату. И впрямь, как здесь жить, в такой тесноте! Их московская жилплощадь практически не изменилась с брежневской поры – Панчиковы решили имуществом в России не обрастать: мало ли что. Апартаменты в Нью-Йорке, вилла в Мексике, поместье в Тоскане, дом в Лондоне – какие-то новые приобретения случались, а в Москве все те же стены, та же улица Чаплыгина; тот же второй этаж, никаких пентхаусов, разве что прикупили соседскую квартиру – соединили две трешки, вот и вся роскошь. И соседи все те же, правда, поумирали половина дворовых доминошников, но внучки и внуки, которые двадцать лет назад по двору бегали, – вот они, подросли и стали вылитые родители, такие же в точности у них лица, что и у старшего поколения. И не знаешь, умиляться этой неизменности российской породы или плеваться на нее. Вот шмыгнул под окнами Костик, они помнили Костю малышом в оранжевом комбинезоне, а нынче Костику уже за тридцать – отечное лицо, тупой взгляд, как у папаши-таксиста. И разумеется, пьет. Пойдет такой вот Костик на марш оппозиции? И спрашивать не стоит. А разве его папаша протестовал, когда танки входили в Чехословакию? Помнится, напился таксист пьяный и сидел на лавочке во дворе – икал и плакал, оттого что от него жена ушла. Вот и вся гражданская позиция. Ничего нового. Поговори с таким вот Костиком – и как встарь: говорим-то мы на одном языке, а друг друга не понимаем. И тот же вид из окна, что в юности: чахлые тополя, помойка, трансформаторная будка, драная кошка на крыше будки. Ничего здесь не меняется, никогда. Надо ли удивляться, что вызвали в прокуратуру? Как доносили при Сталине, так и сегодня стучат. Кому же он сказал, что собирается пойти на митинг, кому?
– Зачем мы только приехали? Говорила я, лучше ехать на карнавал в Венецию! И Бердяевы звали! – Бердяевы были соседями по мексиканскому побережью, беглые банкиры из Петербурга. Путешествовали часто вместе – к пирамидам, к замкам на Луаре, по вискокурильням Шотландии. А вот на карнавал не поехали – хоть и планировали, – начались волнения в Москве, Семен сказал, что ехать они должны на родину.
– Считаю, мы поступили правильно. Это гражданский долг.
– Я лично ничего не должна этой стране! И ты не должен!
Кому он успел сказать? Семен Семенович постарался успокоиться: ничего страшного не случилось. Ну да, пригласили к следователю, и что? Обычная формальность… В конце концов, это просто приглашение – могу пойти, могу отказаться… Но в животе забурлило, словно съел что-то скверное, а так всегда случалось, когда крупная беда. Крах на бирже в 2008-м – и вот так же в животе бурлило. Однако с биржей в тот раз обошлось – индекс Доу Джонса падал, падал да и в себя пришел… Если бы Россия была рациональной страной! Если бы с акциями демократии было так же понятно, как с акциями «Нестле»… С кем же он разговаривал о митинге?
– Мне позвонил Пиганов, пригласил выйти на площадь… я согласился. Публицист Митя Бимбом звонил. Смешная фамилия… Они с Тамарой Ефимовной Придворовой идут, конечно… Я сам позвонил Фалдиным. Позвал их.
– С кем ты говорил? С Римочкой?
– Нет, с Ромочкой… – Римма и Роман Фалдины были друзьями с институтских лет. Супруги стали знаменитыми журналистами: Роман Фалдин создал передачу «Гражданин мира», супруга вела кулинарную программу «Блинчики по субботам».
– И что сказал Роман?
– Они, разумеется, примут участие. У Романа накипело… Кто еще?.. Я говорил Ройтману… Он спросил, в какой колонне я пойду, – с националистами, демократами или анархистами. Пошутил… Чичерину говорил несколько раз. Но он же свой человек… Невозможно подозревать друзей!
– Здесь говорить нельзя ничего и никому.
– Однако как оперативно, как ловко сработано!
Правда вскоре Семен понял, что допрос не связан с митингом протеста, что вызывают его по поводу убийства водителя Мухаммеда – в повестке это обстоятельство было указано, просто Семен не сразу обратил внимание. Что это здесь написано? Ах, вот как! Мухаммед! Вот откуда ветер дует! Впрочем, это мало что меняло: кого в действительности интересовал Мухаммед? Мало ли татар-дворников или таджиков-разнорабочих ежедневно дохнет по помойкам и подворотням – от дешевой водки, пьяной драки или вообще не пойми от чего! Жизнь в антисанитарных условиях долголетия не сулит. Ну, помер еще один… Нет, здесь не в Мухаммеде дело. Было очевидно, что причина выдумана – дело сфабриковано наспех. К тому же день и час допроса выбраны специально – так, чтобы Семен не попал не митинг. Требовалось нейтрализовать самых активных оппозиционеров – и здесь любые средства хороши.
– Они просто боятся тебя, – сказала жена. – Относись к этой повестке как к признанию.
– Горжусь этой повесткой, – сказал Семен.
– Фактически госбезопасность заявила: мы боимся Семена Панчикова и страшимся того, что он скажет с трибуны. Это орден за заслуги.
– А я мог бы… мог бы сказать! Даже набросал пару страниц… Ты права, эта повестка – орден. Знаешь, я повешу эту повестку в кабинете в нашей манхэттенской квартире, – сказал, и вдруг подумалось: доехать бы до дома… не видеть бы этой поганой улицы Чаплыгина… гнусного Костика… помойку под окнами… черт сюда принес… И в самом деле: что ж в Венецию-то не поехал? Но Семен Панчиков отогнал от себя малодушные мысли.
– Убийство Мухаммеда! Пьяного татарина убили за гривенник! И тебя вызывают на допрос!
– Будем справедливы, это затея рядовых сотрудников. Им велели, они старались.
Госбезопасность использовала данный метод еще в советские времена: например, диссидентов вызывали на допросы в те дни, когда в Москву приезжал американский президент. Семен помнил, как истеричного диссидента Додонова пригласили в районную прокуратуру по подозрению в краже балалайки. Абсурдность вызова была очевидна – а цель ясная: продержать Додонова взаперти, пока американский кортеж проедет по столице. «На каком основании я задержан? – бесновался Додонов и требовал адвоката. – Я уверен, что нет ни единой нити, тянущейся ко мне от этой балалайки!» – «Улик нет. Но существует следовательская интуиция», – и улыбка змеилась по губам следователя.
Очевидно, что прием применили тот же.
Семен подошел к телефону и сделал ряд необходимых звонков.
– На митинге не буду, – отрывисто сообщил он Пиганову.
– Заболели? Погода мерзкая.
– Нет, получил повестку в прокуратуру.
– Вот как. – Тяжелое молчанье в трубке. Слышно, как дышит Пиганов. – Что ж. Они пошли и на это.
– Да. Пошли на это.
– Думаете улететь из страны? Вас никто не осудит.
– Не считаю нужным прятаться.
– Вы правы. Пусть они прячутся сами. Желаю вам мужества.
– Спасибо.
– Жму руку.
Семен не просил Пиганова ни о чем, но без слов было понятно, что лидер демократической партии поднимет общественность. Зазвенит звонками демократическая Москва, схватятся за мобильные телефоны журналисты в редакциях, оттолкнут от себя тарелки с бифштексом столичные знаменитости, что сидят сейчас в кафе, а те, кто отдыхает на загородных дачах, – они вызовут шофера и скажут: «Вася, друг, жми в город! Панчиков в беде!»
И взревут моторы, и помчатся «Мерседесы» по Рублевскому шоссе – только не застряли бы в пробке, не увязли бы в снежной распутице…
Семен Семенович позвонил адвокату Чичерину:
– История получила продолжение. Вызвали в суд.
– А, серый человечек. Он злопамятен.
– Аргументов в споре он не нашел. Решил действовать иными методами.
– Вам потребуется адвокат. Считайте, что адвокат у вас есть.
– Не думаете же вы…
– Думаю.
– Но позвольте, следователю понятно, что я невиновен!
– Извините меня, Семен, я вынужден говорить с вами как профессионал. Вас официально привлекли как свидетеля. Можете перейти в разряд обвиняемых в одну секунду.
– Может быть, не ходить на допрос?
– Вы расписались в получении повестки? – Панчиков промолчал, и адвокат сделал соответствующий вывод. – Тогда нет выбора.
– Но я – гражданин другой страны!
– Не имеет значения.
– Считаете, мне лучше уехать? – сказал, и сам изумился тому, что произнес эти слова.
– Куда?
– В Нью-Йорк, например. Не желаю с ними иметь дела. Пойду и куплю билет.
– Полагаю, в аэропорты разослали ваши данные. Можете попробовать уехать на машине через Украину. Но, если задержат, это будет доказательством вины. Мне станет труднее вас защищать.
– Защищать – в чем? Я невиновен!
– Буду придерживаться именно этой версии.
– Версии? Как это – версии?
– Так говорится в нашей профессии. Я лично не сомневаюсь в том, что вы невиновны.
– Как это – не сомневаетесь? А что, могут быть сомнения?
– Следствие ведется для того, чтобы сомнений не было.
– Но дело смехотворное!
– Убийство считается тяжким уголовным преступлением.
– Убийство неизвестного татарина? Шофера? Или дворника – не помню, кто он там был…
– Даже убийство дворника считается преступлением.
– Не надо передергивать! Я сказал, что дворник был мне неизвестен, а не то, что дворника не жалко! – Телефонная трубка прыгала в дрожащей руке.
– Убитый был шофером.
– Какая разница!
– Я просто уточнил.
– Благодарю вас. Не ожидал… – Настроение у Семена вконец испортилось.
– Можете на меня рассчитывать. Звоните в любое время! – и Чичерин положил трубку.
– Ты представляешь, он со мной говорил как с незнакомым человеком!
– Формально?
– Сухо и цинично. Сказал, что переквалифицируют в обвиняемые. И еще этот жаргон, этот отвратительный полицейский словарь. Версии… И про дворников какая-то чепуха…
– Думаю, он опасался того, что вас слушают.
– Подслушивают? – Как ему в голову не пришло! Все-таки жена у него потрясающая женщина, все понимает; но как быстро они работают! Уже и телефон слушают… – Нет, нереально. Надо санкцию прокурора, чтобы телефон слушать.
– Ты не в Штатах. Считаешь, что дело о татарине состряпать могут – а поставить телефон на прослушивание не могут?
И правда – где логика? Ведь подозреваемые все как один – оппозиционеры; почему же не сочинить властям такое дело, которое дискредитирует оппозицию? А если такой план имеется – значит, прослушка налажена. Значит, они готовили все заранее…
– Может, в квартиру уже улики подбросили. Вчера приходил сантехник.
– Ты вызывала?
– В том-то и дело, что нет. Профилактика, обошел все квартиры… Давай проверим в ванной… Он мог подбросить нож…
– Мухаммеда задушили ремнем.
– Ремнем? Как это?
– Накинули сзади, затянули на горле…
– Откуда ты знаешь?
– Что ты на меня так смотришь? Что ты так смотришь? – Семена Семеновича поразил взгляд супруги: она вдруг посмотрела исподлобья, цепким взглядом. – Ну да, татарина задушили. Нам сказал следователь, что Мухаммеда задушили.
– Кто еще слышал, что следователь это сказал?
– Многие слышали…
– А кто конкретно?
– Не могу я так, с ходу, вспомнить…
– То, что ремень накинули сзади, следователь тоже сказал?
– Но ведь это естественно! Мухаммед был водитель, сидел на переднем сиденье. Набросить сзади удавку удобно… А как еще душить?
– Забудь эту деталь, забудь и не вспоминай. Пойми, ты не можешь этого знать.
– Послушай… – Семен не мог найти нужных слов, язык словно распух, и во рту стало горько. – Послушай… ты что, меня подозреваешь? Ты – моя жена – со мной – так – говоришь?
– Запомни, – супруга в минуты решительные преображалась, черты пухлого лица становились острыми, – запомни твердо. Что бы ни было, я на твоей стороне.
– Что бы ни было?! А что может быть? Что я задушил Мухаммеда? Ты в своем уме?
– У тебя руки дрожат.
– Я не знаю этого Мухаммеда! Не знаком!
– Откуда ты знаешь, как его зовут?
– Мне сказали имя… сказали, что убит Мухаммед.
– Кто сказал?
– Не помню. Я не знал Мухаммеда, не видел ни разу!
– Ты уверен? – спросила и покачала головой.
Панчиков опешил; мы привыкли считать, что знаем доподлинно, видели мы что-либо или нет. Вот, например, эту коробку я вижу, подумал Семен, хотя не знаю, что это за коробка. Если спросят, видел ли я коробку с печеньем, отвечу отрицательно… И буду не прав. Например, мы все наблюдаем политическое устройство России, а как оно называется – не знаем. Видеть и знать – разные вещи. Не исключено, подумал он, что Мухаммеда я видел, не зная, что это Мухаммед. Супруга усугубила тревогу, сказала:
– Вас могли сфотографировать вместе. Представь, какая улика у следствия, если ты будешь отрицать знакомство. Надо выяснить, как выглядел Мухаммед! Позвони в галерею, спроси.
Семен протянул руку к телефону, однако трубку все же не взял. Помедлил.
– Если телефон прослушивают, что подумают про меня? Ты нарочно такие советы даешь?
– Позволь, Семен!
– Ты советуешь звонить и спрашивать, как выглядел убитый, – после того, как мы поняли, что телефон прослушивают?
– Прости, не подумала.
– Очень странно.
– Семен, я сказала и повторяю: я на твоей стороне! Всегда и во всем!
– Я не убивал! Слышишь! Не убивал!
– Зачем ты на меня кричишь?
Семен отвернулся от жены, чтобы не сказать такого, о чем бы пожалел. Он сел к телевизору, стал щелкать пультом, переключать программы. Наткнулся на кулинарную программу Римы Фалдиной – но слушать про блинчики не смог, настроение не то. Следующая программа была о жуликах. «Ведущего передачи «Суд идет» арестовали по обвинению в мошенничестве. Обманом получил двадцать миллионов рублей». Тьфу, черт! Ну и страна! Ну и народ! По другой программе показывали митинг сторонников президента – митинг проходил на Поклонной горе, лысом и плоском месте, на котором однажды стояла гора, но гору срыли. То был совсем иной митинг, нежели тот, в котором он чуть было не принял участие. Панчикова звали на сходку свободных людей – а в этой толпе стояли люди подневольные, не граждане, но рабы. Камера показала автобусы, на коих свезли к месту митинга так называемых демонстрантов. В автобусы людей напихали, точно кильку в консервные банки, – доставили до места назначения, вывалили содержимое на снег: давайте, голубчики, митингуйте! Несчастных пассажиров успели окрестить «анчоусами» – автором удачного термина была непримиримая журналистка Фрумкина, она умела сказать резко. Анчоусы оскорбились – кому же хочется быть анчоусом? Однако определение прилипло к рабам режима: анчоусы они и есть.
В те дни стоял сильный мороз, анчоусы кутались в свои курточки на рыбьем меху, топали ногами, чтобы согреться. Анчоусов собрали на митинг со всего города, велели запуганным людям махать плакатами, тирану хотелось показать, что не только оппозиция имеет сторонников. Пусть богема и интеллигенция кричат «нет!», а народ говорит власти «да!», народ жаждет стабильности. С экрана смотрели одутловатые лица тех, кто жаждал стабильности: вот контролер автобуса, вот водитель такси, вот кассир из супермаркета – покорные, бессловесные. Семену показалось, что в толпе мелькнуло отечное лицо Костика – соседа со второго этажа. Мероприятие как раз для таких костиков.
3
Пока Семен наблюдал на экране телевизора демонстрацию преданности президенту, журналист Роман Фалдин приехал к месту проведения этой демонстрации. Фалдин смотрел, как из автобусов высаживались люди, закутанные в шарфы; попав на мороз, люди ругались, прыгали на месте, стараясь согреться, сбивались в кучки, защищая друг друга от ветра. Затем по двое, по трое замерзшие тянулись в сторону большой толпы, от которой к небу поднимался пар – тысячи людей кричали в белый зимний воздух, и облако общего дыхания плыло над мерзлой толпой.
Люди скандировали слово «Россия» – кричали осипшими от ветра, дурными голосами – а что вкладывали они в этот крик, сказать было сложно. Вероятно, то была гордость за страну обитания или уверенность в том, что данная страна переможет свои беды, а может быть, просто потребность в крике. Рассказывают, что на войне, во время атаки, солдаты испускают ужасные крики, чтобы подбодрить себя. Так, например, бытовал слух, что российские пехотинцы, кидаясь в штыковую или закрывая телом амбразуры вражеских дотов, кричали «За Родину, за Сталина!». Этот слух, кстати, давно опровергнут. Журналистка Фрумкина черным по белому написала (со слов одного ветерана), что никто такой нелепости на фронте не кричал. Кричали попросту бранные слова, оттого что есть потребность орать, когда находишься в толпе. Любопытно, думал Фалдин, откуда у толпы берется потребность в крике? Желание публично демонстрировать преданность дикой, неудобной для жизни стране? Социальный эксгибиционизм? Или это форма общения неразвитых существ – так они посылают друг другу сигналы?
Подчиняясь профессиональному любопытству, он протиснулся в толпу. Он раздвигал спины, его сдавливали с двух сторон потные люди, он вдыхал тяжелый дух толпы. Как всякому светскому человеку, Фалдину было неприятно скопление людей неухоженных: толпа пахнет дурно. Есть такое грубое слово «быдло» – на него обижаются те, кто может подпасть под это определение. Но как иначе назвать неповоротливое, мычащее стадо: женщины, не следящие за собой, расплывшиеся, как пельмени в кипятке; мужчины с красными от упрямства и алкоголя лицами; неурожайные дети; злые и никчемные подростки – они все чего-то хотят, и выражается это неопределенное хотенье в истошном крике «Россия!». Как их определить, этих агрессивных и неумных крикунов? Фрондеры уже давно перестали стеснять себя в выражениях; людей толпы называли «анчоусами», «совками», «месивом» – и вот это замерзшее месиво шевелилось и кричало. Им приказали собраться, и они загрузились в автобус, анчоусы Среднерусской возвышенности, месиво городских окраин, российское быдло – они доехали до места демонстрации, топчутся на холоде, переминаются с ноги на ногу, тянут шеи кверху, орут. Стоявший подле Фалдина человек кричал громко и сипло; человек тянул серую дряблую шею, и было видно, как крик поднимается по его шее вверх, вздувая синие жилы, и наконец вырывается из губ: «Россия! Родина!» Фалдин глядел на его шею с удивлением и любопытством – так в зоопарке рассматриваем мы длинную шею диковинной птицы. Надо же, думал Фалдин, какое странное существо! Жизнь его уродлива и коротка, однако оно радо и такой жизни – не хочет перемен. Казалось бы: ты уже попробовал этой похлебки – так рискни отведать новое. Нет, боятся рисковать. Вот мы живем с ним в одном городе, я и этот крикун, мы оба русские, но это абсолютно другой человек, не такой, как я. И казалось Фалдину, что даже физиология у соседнего с ним существа иная. Крик комками прокатывался по напряженному горлу соседа – Фалдин видел, как крик распирает шею замерзшего человека: «Россия! Россия!»
Еще недавно, каких-нибудь тридцать лет назад, месиво хотело перемен. Российскому месиву мнилось, что его могут перемешать как-то иначе, на иной манер, более прогрессивный – но вот перемены пришли, месиво прокисло, и новых перемен месиво уже не хочет. Бесполезно, подумал Фалин, бесполезно внедрять прогресс в этой среде; мы только понапрасну мучаем несчастное человеческое месиво; отчего не дать им дожить так, как им привычно? Все равно скоро произойдет естественная смена поколений, вымрут эти чудные немытые существа. Отчего бы не обзавестись резервациями, как сделали для краснокожих в Америке, – вот пусть бы там и жили, кричали, пили свою мерзкую водку… Выгородить какую-нибудь часть страны… отдать под примитивное землепашество… в конце концов, цивилизация имеет свою неумолимую логику, но надо и пожалеть этих несчастных.
– За нами Москва! Отступать некуда! – кричал сосед Фалдина и поворачивал тусклое лицо к журналисту, ища одобрения. Фалдин примирительно улыбнулся ему в ответ: да-да, как скажете, Москва, конечно, за нами… отступать некуда, все правильно… только не волнуйтесь так.
Любопытно бы расспросить такого вот анчоуса: что он любит, где живет.
Фалдин подумал, что интервью с таким существом могло бы стать сенсацией в новой журналистике. В незапамятные времена казарменного социализма брали интервью у комбайнеров и доярок: мол, как удои? – но уж лет двадцать как перестали. Журналисты беседовали с лидерами партий, успешными бизнесменами и артистами, а вот с этаким аборигеном не беседовали.
– Как вас зовут, простите? Я – Роман, – сказал Фалдин и протянул руку анчоусу.
– Константин, – представился человек из месива. – Холин моя фамилия.
Большая потная ладонь стиснула пальцы Фалдина. Принципы рукопожатности были нарушены – но Фалдин оправдывал это журналистским расследованием.
Холин! И фамилия соответствующая, почти так же звучащая, как у новоявленного русского владыки. Пустяковая фамилия, дырявая фамилия, и носят такие фамилии люди из толпы, неотличимые друг от друга, точно бирки в гардеробе. Невзрачный Холин поддерживает невзрачного Путина – как же иначе?
Однако невзрачная фамилия президента неожиданно сделалась в России громкой, словно Рюрик или Романов – и мир недоумевал: человек без лица вдруг правит огромной страной! Откуда он такой взялся? Журналист Фрумкина издала в Америке книгу «Человек без лица», посвященную загадке кремлевского владыки.
Вообще говоря, загадки не было. К власти полковника привел барственный президент Ельцин – он назначил полковника править страной по совету вороватых богачей из свиты. Когда богачи разграбили страну, они испугались, что придут другие алчные богачи и ограбят их самих, отнимут уворованное. Требовалось ввести порядок. Так и на пиратском судне после удачного налета возникает потребность в справедливости. Пираты приглашают офицера королевского флота, чтобы не допустить поножовщины: пусть офицер делит добычу и стережет сундуки, а то ведь передеремся. Но позвольте, кто же знал, что этот офицер возомнит о себе! Кто думал, что серый полковник дерзнет считать себя главным на судне! Не много ли власти офицерик забрал?
– Каков морозец? – с уважением к холоду сказал Холин. – Теща говорит, семьдесят лет такого не было. Со времен битвы под Москвой.
– Неужели? – вежливо сказал Фалдин.
– Вот и сейчас бьемся с евреями, – сказал Холин и почему-то засмеялся. – Одно приятно, они на Болотной тоже мерзнут.
– Вы полагаете, в сорок первом году на Москву наступали евреи? – спросил Фалдин.
– Такие же, как сегодня на Болотной. Менеджеры всякие.
– Не любите евреев, да?
– Знаешь, как меня ребята называют? Холин я, Костя, а они меня прозвали – Холокостин, – и Холин засмеялся еще громче.
На Болотную площадь сегодня выходил митинг оппозиции. Туда, на Болотную, шли интеллигентные москвичи, уставшие от вранья и воровства. Им дали понять, что корень зла – в офицере госбезопастности, который захватил власть.
И те, кто еще вчера уговаривал интеллигентов перетерпеть офицера госбезопасности как необходимое зло (ну в самом деле: нанимаем же мы в охранники неприятных мордоворотов), сегодня обратились к интеллигенции с призывом: «Довольно!» Катализатором волнений стали выборы в парламент и грядущие выборы президента; полковник КГБ, званный на временную должность, уходить не желал.
Люди интеллигентные, наделенные чувством собственного достоинства, стали задавать вопросы: уж не новоявленный ли Сталин воцарился в Кремле? Вот вам еще одна простенькая фамилия: Сталин. Вроде бы простенько фамилия Путин звучит, а на деле обещанный пустячок обернулся путами, пучиной! Заговорили о диктатуре. И сказали: тиран! И ужаснулись: не вечно ли безликий офицер будет нами править? И прогрессивные граждане стали возмущаться, а граждане непрогрессивные, месиво человеческое, им отвечали так: ну и пусть правит, нам как раз нравится этот офицер. Прогрессивные ужасались: так вы что, тоскуете по сильной руке? А непрогрессивные отвечали: ну да, тоскуем. Мы за сильную руку, а вы что, за слабую руку? Так гражданский спор зашел в тупик. Отчего-то выступать за сильную руку у штурвала власти считалось неприличным; скажешь в обществе: «Я за сильную руку» – и репутация испорчена. Но, согласитесь, выступать за слабую руку, ведущую державу, – глуповато. Буксовали дебаты.
Иные (то были трезвые бизнесмены) встревали в спор со следующим суждением: абсолютно все равно, кто будет президентом. Представьте, говорили спекулянты, что Россия – это большой завод. Пусть президент страны будет как бы наемным директором; не владельцем производства, а управляющим. Собственник нам не нужен – мы приглашаем управляющего, а собственниками будем сами. У плана был лишь один изъян: почему всем можно быть собственниками, а директору страны – нельзя? Вся Россия была к тому времени расчленена на жирные куски, богатым и жадным отдали золотые прииски и нефтяные скважины, алюминиевые карьеры и леса, заводы и дороги. Непонятно: если все тащат, почему именно глава государства не должен ничего брать? Не означает ли это, что вместо него править будут те, кто реально владеет страной? Ну да, разумеется, отвечали трезвые спекулянты, править страной будет, так сказать, рынок – невидимая его рука.
Невидимая рука рынка не сильная и не слабая; просто всевластная. Править страной будут законы рынка, владеть рыночными прилавками станем мы, а управлять некоторыми текущими процессами (ну, допустим, если где проблемы с канализацией или крыша течет) станет наемный управляющий президент. Что здесь непонятно? Интеллигентные люди это понимали.
А если война? – ахали непонятливые анчоусы. – Кто тогда будет управлять страной? Рыночные механизмы? Чудно как-то… Скажем, если стреляют… А если голод случится? А если эпидемия? А если, например, маленьким детям в школу? Невидимая рука рынка даст лекарства бедным и образование сиротам, отразит нашествие врага? Да и вообще, не получится ли так, что вся наша страна постепенно развалится на куски – если собственники корпораций будут блюсти интересы рынка, а логика общего рынка перестанет нуждаться в единой России?
Ну что вы так трясетесь над своей Россией, говорили паникерам люди принципиальные. Государство – есть своего рода предприятие, такое же, как завод. На данном заводе оборудование устарело. Требуется все внутри завода менять – причем по законам рынка.
Сравнение России с заводом беспокоило подозрительных анчоусов. Сотни брошенных бесхозных заводов и фабрик стояло в полях России, и ветер гулял по пустым бетонным коробкам. Знаем мы, говорили анчоусы, как вы обращаетесь с заводами. Сначала на заводе останавливают производство, потом завод банкротят, потом распродают по корпусам – под склад, под баню. И с Россией вы так сделаете. Распродадите нашу страну, нашу Родину-мать с молотка пустите!
От таких разговоров прогрессивные граждане и бизнесмены досадливо отмахивались: Тьфу! Ну что тут сказать! Тьфу, да и только! Что за бред! Кому нужна ваша Россия! Подумаешь, нашли сокровище! Прекратите паникерство! А главное: даешь свободу! Долой агента КГБ с русского трона! Долой сотрудников органов!
Но подозрительные обыватели слушали ораторов и вспоминали, что банкротство заводов начинали тоже с того, что увольняли директора. А чем кончилось? Нет, они подозревали неладное… кому-то выгодно их дурить!
– Продали Россию! – кричали анчоусы.
– Продали…
И в рядах звякнуло слово «жиды». Жиды! – точно консервную банку поддали ногой. Жиды! – короткое визгливое слово – точно «Jude» на митингах Веймарской республики. Жиды! – как плевок желтой табачной слюной. Фалдин стал пробираться сквозь тугие спины на воздух. Пора уходить, видел достаточно.
– Уходите? – новый друг, Холин, его окликнул.
– Замерз.
– Стакан бы для согрева, верно?
Следовало теперь отправиться на Болотную площадь, влиться в митинг оппозиции.
Холодный дождь не стихал.
4
Борис Ройтман проснулся и почувствовал, что простужен: болело горло. Надо выпить горячего чаю с медом – так с детства привык: когда заболевал, мама всегда давала чай с медом. Борис сел на постели, вспомнил, что он в лондонской гостинице, здесь чаю среди ночи никто не даст. Он зажег светильник над кроватью, осмотрел убогий номер: в некоторых английских гостиницах в номерах оставляют чайные приборы. Это была очень небогатая гостиница, комната до того крошечная, что, казалось, и чайнику здесь уже не найдется места – так плотно все расставлено: кровать, тумбочка, стул – вот и кончилось жизненное пространство; некуда чашку с чайником приткнуть. Выбирая отель, Пиганов всегда экономил на своих спутниках, и Ройтман с досадой подумал, что не заслужил такой убогой комнаты. Разница в двадцать фунтов могла бы обеспечить чайник в номере, лишний метр до холодного окна. Но Пиганов лишнюю двадцатку не истратит никогда.
Борис Ройтман пожалел, что поддался на пигановские уговоры. «Кто кроме вас, Борис?» Пиганов сказал, другого такого не найти: Ройтман знаток истории, Ройтман талантлив, Ройтман ярко пишет – кому, как не Ройтману, говорить со свидетелем далекой войны. И вот Ройтман полетел в холодный чужой город на встречу с бессмысленным стариком. Зачем? Тешить самолюбие лидера партии?
Вчера вечером Пиганов попросил – в неприятной напористой манере – набросать страничек пять по следам разговора с немцем. Ройтман попробовал составить несколько фраз, но написать ничего не смог: разговор со стариком был пустым.
В гостиничном номере холодно, жидкое одеяло не греет, голове неудобно на подушке, набитой поролоном. На окне даже шторы нет, и рам двойных нет, за окном ветер и дождь, сырость ползет в комнату. Почему он не научился говорить Пиганову «нет»? Мы давно стали его камер-юнкерами, думал Борис, и точно так же, как оскорбительно звучало это звание для поэта былых времен, так резануло слово и Ройтмана. Да, мы – камер-юнкеры, и не надо себя обманывать! Унизительная должность. Ведь есть же люди, думал Ройтман, которым хочется попасть за границу, они мечтают приехать в Лондон. Завистники скажут, Ройтман опять съездил в Европу за пигановский счет. Знали бы они, что это за поездки.
Отказать невозможно. Небольшие деньги, но все-таки зарплата и возможность говорить то, что думаешь. За эту привилегию и носим мундиры с короткими фалдочками. Вот и Халфин с Аладьевым тоже поехали – для каждого Пиганов нашел нужное слово, каждому посмотрел в глаза.
Горло болит, глотать больно. Какая глупость – вот так бежать, едва тебя поманят пальцем. Ройтману приходилось думать о деньгах постоянно, ему было тяжелее, нежели другим лидерам оппозиции. Им легко, думал Борис с досадой. Пиганову деньги считать не приходится. Пиганов пришел в политику из бизнеса, был владельцем нефтяного банка, за ним шлейф нужных знакомств. Халфин – профессор Колумбийского университета: и зарплата, и пенсия гарантированы. Тушинский – опытный интриган, выпрашивает на свою никчемную партию деньги вот уже двадцать лет – он профессионал. Националист Гачев, судя по всему, богат, хотя источник и неясен. Видимо, платят прямо из Кремля – они, по слухам, подкармливают патриотов: на черный день запаслись национальной картой в игре.
Но Борис – не политик, не бизнесмен, не парламентарий. Он спонсоров не имеет, зарабатывает только пером и умением найти нужные слова. Борису надо ходить по редакциям журналов, улыбаться Фрумкиной, пить кофе с Фалдиным, дружить с Бимбомом. Ежедневная карусель – но спрыгнуть с карусели не получится.
Знаете ли вы, когда солдаты храбро дерутся на передовой? Когда некуда отступать. Отступать некуда, понимаете ли вы это состояние? У всех людей существует тыл: дом, семья, квартира, зарплата – а у Бориса Ройтмана тылов не было.
В дешевой гостинице нестерпимо тошно потому, что возвращаться Борису некуда – съемную комнату на окраине домом не назовешь. Стены в его съемной комнате такие же чужие, как в гостинице, и кафель в ванной комнате холодный, бежевый, больничный, и пол покрыт дешевым линолеумом. Не много же рублей накопили ему строчки – а ведь думают, что модный публицист живет в загородном особняке.
Дом прежде был, и жена была, и дочь обнимала по утрам за шею; был как у всех людей тыл – но тыл Борис оставил ради красивой женщины Варвары Гулыгиной. Многим казалось, они с Варварой составили исключительную пару – два острых журналиста, украшение любой компании. Снимали квартиру в центре города, Борис откладывал деньги – купят со временем и свою. Через год Варвара ушла к видному демократу, парламентарию и фрондеру – в журнале, принадлежащем этому ловкачу, Борис публиковал статьи.
Не обида, но разъедающая сознание боль. А надо шутить в телевизионных программах, смеяться с широко открытым ртом, чтобы заразительно получалось; надо сочинять бодрую колонку освободительного текста: «вместе бороться, пройти трудный путь к демократии до конца». И он писал, и смеялся, и продолжал сочинять. Разве он не знает цену Пиганову? Разве не знает он цену болтунам, которые его окружают сегодня? Халфин – истерик и неуч, Аладьев не сочинил в своей жизни ни единой ноты. Но положа руку на сердце, лучше уж они – чем продажные чиновники, комсомольцы нового типа. Пусть придет к власти Пиганов, да хоть Гачев пусть сядет на трон. Любая перемена лучше снулого рабства. То, что его используют, Борис понимал – но использовали его в деле, которое он сам принял как меньшее из зол: а значит, он будет работать.
Опускать руки нельзя, на него надеются; теперь Борис узнал, что такое предательство, понял, что испытала Катя, когда он ушел из дома. Теперь он знает, как бывает больно. Больше он никого не предаст, даже тех, кто с ним нечестен.
Борис положил поверх одеяла пальто, его трясло от холода. Сейчас Катя принесла бы горячего чаю, поставила бы кружку в изголовье. Катя бы села рядом на постель, положила ладонь на лоб. Она умела так поправить подушку, что жесткая подушка становилась мягче.
Подлинное несчастье – это знание того, что был счастлив в прошлом, говорит Боэций, и Борис Ройтман ощущал свое былое счастье с болезненной ясностью. Неожиданно он подумал, что и Россия, великая в прошлом страна, должна испытывать сходную боль.
Хорошо бы горчичники, согреться под жидким одеялом. Мама, когда ставила Борису горчичники на грудь, оборачивала горчичники в газету, чтобы пекло не сильно, а прогревало равномерно – Борис вспомнил, как он отлепляет газету от горчичной подкладки и читает обрывки сообщений: «Хрущов встретился с Насером», «строители сдали Асуанскую плотину». Может, оттого он и стал политическим публицистом, это ведь с детства – тяга к политике.
К полудню позвонил Пиганов; лидер оппозиции проживал у миллиардера Курбатского, завтракали у Курбатских поздно.
– Как спалось, Борис? Гостиница удобная?
– Замечательная.
– Ну и отлично. Не забудьте: в восемь выступление.
– Готовлюсь.
5
Зимы больше нет: теперь вместо снега и мороза – то слякотная оттепель, то вдруг польет ледяной дождь. Небо вспухло тучами, стало сизым, разверзлись хляби небесные – и хлынул ледяной поток; не снег и не дождь, а ледяное месиво обрушилось на людей. Такая же погода, по рассказам очевидцев, в пятом круге ада. В пятый круг поместили чревоугодников и расточителей, мздоимцев и ростовщиков, и, говорят, они стоят по колено в замерзшем болоте под вечным холодным ливнем. В мерзости Стигийского болота проводят грешники свои бесконечные часы, а вдали горит адским пламенем город Дит – и так же точно освещается иллюминацией сумрачная Москва. Темнеет в это время года рано – и под фонарями, куда ни глянь, повсюду лужи, покрытые льдом, и мутная каша из грязи и жидкого снега. Прыгает замерзший человек между лужами под дождем, проваливается, скользит, втягивает голову в плечи – но не спрятаться ему, не уберечься.
Серый человек застегнул пальто на все пуговицы, берет натянул на уши, но теплее не стало. Добежал до дверей, только проскользнул внутрь, как ветер задул еще сильнее, а дождь хлынул гуще. Серый человек предъявил пропуск вахтеру (его знали в лицо, но прилежный чиновник всегда показывал пропуск), поднялся по лестнице, вошел к себе в кабинет.
Следователь Чухонцев встретил серого человека словами: