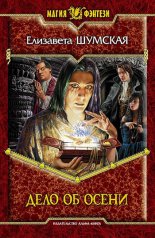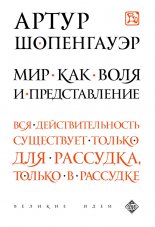Уна & Сэлинджер Бегбедер Фредерик

Будучи последователем скандинавов, Юджин О’Нил вполне логично удостоился шведской награды. В 1936 году Нобелевская премия по литературе была вручена прославленному современному драматургу, который уже трижды получал в своей стране Пулицеровскую премию: за пьесы «За горизонтом», «Анна Кристи» и «Странная интерлюдия» (в дальнейшем он получит еще одну, за «Долгий день уходит в ночь», посмертно).
В один из своих редких визитов в Нью-Йорк Юджин О’Нил пригласил Уну пообедать с ним и его новой женой. После обеда он покатал детей в большом «кадиллаке» по Центральному парку. Уне было шесть лет. Ее вырвало в новеньком автомобиле прямо на отца и мачеху. На протяжении всех тридцатых годов она пыталась связаться со своим гениальным отцом, о котором столько слышала от всех, а от него самого не дождалась и словечка. Ее многочисленные письма с просьбами о визитах, встречах, новостях эффекта не возымели: мачеха отвечала, что сейчас не время, что отцу надо сосредоточиться на работе, что у них в доме гости или же, когда они поселились близ Сан-Франциско, что «перемена климата не полезна для здоровья» и что «живут они в сельской местности, где ребенку будет скучно». Однажды Юджин О’Нил написал сам: «Мы слишком давно не виделись». Уне было тогда четырнадцать: действительно, с отцом она не встречалась восемь лет. Получив приглашение на обед в Тао-хаус, новое имение отца, Уна потеряла сознание за столом. В самом деле, он почти не видел дочь после развода. И когда Уна встретила кого-то, столь же знаменитого, как ее отец, кто говорил с ней и был не против, чтобы она его слушала, она тотчас решила пожертвовать для него всем. Рецепт счастья очень прост: всего лишь вывернуть наизнанку несчастье.
Но до этого мы еще не дошли. Пока что Уне вот-вот исполнится шестнадцать, она проводит лето 1941 года с братом и матерью на побережье в Нью-Джерси, в местечке под названием Пойнт-Плезант, к югу от Нью-Йорка. Ее дед со стороны матери купил здесь старый трехэтажный дом на углу Хербертсвиль-роуд и Холл-авеню, среди сосен, у притока реки Манаскан. Здесь поселилась после развода ее мать. Уна росла в роскоши и меланхолии. Ее мать часто плакала, слушая Лину Хорн.[47] Она утирала глаза, отвернувшись, чтобы Уна не видела, как она утирает глаза, отвернувшись. Здесь-то Сэлинджер и увидится с нею снова.
III
Душа несчастливой истории
Актрисы больше чем женщины, а актеры меньше чем мужчины.
Трумен Капоте
Если луна круглая и желтая, как ломтик лимона, значит вся жизнь – коктейль. Атлантические волны, мерно дыша, неустанно накатывались и разбивались о песок. Их влажный шелест заглушал звук шагов Джерри и Уны по дощатому настилу в направлении «Мартеллс Тики-бара». Молчание не так неловко на берегу моря.
Позвольте мне привести здесь фрагмент не изданной на нашем языке новеллы, опубликованной в журнале «Эсквайр» в 1941 году под названием «Душа несчастливой истории». Мне кажется, Дж. Д. Сэлинджер написал в ней то, что подумал об Уне О’Нил, когда впервые увидел ее. В этом тексте он впервые нашел ту интонацию, которую использует в романе «Над пропастью во ржи» десять лет спустя.
Ширли читала косметическую рекламу на стенке автобуса, а когда Ширли читала, у нее слабела нижняя челюсть. Вот в это мгновение, когда у Ширли открылся ротик и разомкнулись губки, она стала самой роковой из роковых женщин Манхэттена. Хоргеншлаг нашел эффективное средство против страшного дракона одиночества, терзавшего ему сердце все время, что он жил в Нью-Йорке. О, какая это была мука! Мука нависать над Ширли Лестер и не иметь права наклониться и поцеловать ее в разомкнутые уста. Какая невыразимая мука![48]
Повторение слова «мука» – это, возможно, наивная дань повторению слова «ужас» в финале «Сердца тьмы» Конрада.
«Душа несчастливой истории» представляет разные версии несостоявшейся встречи: фразы, которые влюбленный мужчина не способен произнести. «Чтобы написать историю о том, как парень знакомится с девушкой, желательно, чтобы парень познакомился с девушкой». Здесь в одном из вариантов Джастин Хоргеншлаг крадет сумку Ширли, чтобы увидеться с ней снова, его арестовывают и сажают в тюрьму, он пишет ей из камеры пламенные письма, а потом во время мятежа заключенных погибает от пули караульного. Так представляет себе любовь Джерри в двадцать один год, когда ночами мечтает об Уне: любовь прекраснее, когда она невозможна, самая абсолютная любовь не бывает взаимной. Но то, что называют «ударом молнии», существует, это случается каждый день, на каждой автобусной остановке, между людьми, не смеющими друг с другом заговорить. Те, что любят всего сильней, никогда не будут любить взаимно.
Мисс Лестер, для меня очень важно, что я люблю вас. Некоторые думают, будто любовь – это секс и брак, и поцелуи в шесть часов, и дети, и, наверно, оно так и есть, мисс Лестер. А знаете, что я думаю? Я думаю, любовь – это прикосновение и в то же время это не прикосновение.
Последнюю фразу трудно перевести. Сэлинджер пишет: «Love is a touch and yet not a touch», и я не знаю, как передать это выражение. «Любовь – это взять и не взять»? «Дотронуться и не дотронуться»? «Познать и не познать»? «Любовь – это достичь, не достигнув»? Одно могу сказать наверняка: это одно из самых совершенных определений зарождающейся любви, и звучит оно лучше по-английски. Оно напоминает название романа Хемингуэя: To have and to have not.[49]
Именно в «Душе несчастливой истории» Сэлинджер нашел этот стиль нежной самоиронии и впервые вывел своего героя – юного, потерянного, романтического и трогательного, который покорит читателей всего мира в пятидесятые годы. Еще до войны Сэлинджер вынашивал мысль о маленьком человеке в большом городе, о вечном подростке, растерянном и потерянном, эгоцентричном и прозорливом, бедном и свободном, робко влюбленном и во всем разочарованном, который стал абсолютным клише удела человеческого в западном мире двадцать первого века. (Сэлинджер был до крайности горд, что его новеллу напечатал Арнольд Гингрич в «Эсквайре»: он же опубликовал пятью годами раньше три автобиографических текста Скотта Фицджеральда, известные с тех пор под названием «Трещина».) Мы живем сейчас в сэлинджеровскую эру заносчивой неопределенности, обнищавшей роскоши, ностальгического настоящего, конформизма, задолжавшего бунту. Нас томит бесконечная жажда радости, счастья, любви, признания, нежности. Эту жажду не утолить простым потреблением и не утешить религией. Джастин Хоргеншлаг так красиво признался в любви Ширли Лестер, но сначала он украл у нее сумку! Его письмо пришло из тюрьмы. И она не ответила. (В новелле она прислала вежливый ответ, но в конце мы узнаем, что ее письмо было вымышленным.)
Отныне мир населен страшно независимыми, закомплексованными, неудовлетворенными существами; влюбленными, неспособными любить, овцами, которые не желают быть овцами, однако щиплют травку, предаваясь фантазиям в стороне от стада; короче, идеальными клиентами для Фрейда, Будды, Fashion TV и «Фейсбука».
Джерри Сэлинджер не может предвидеть всего этого печального будущего, однако смутно чувствует приближение чего-то, когда летом 1941 года наносит визит подруге матери Уны О’Нил, Элизабет Мюррей, с братом которой он был знаком в лицее. Он хочет вновь увидеть Уну, ее ангельское личико, высокие скулы, лукавые ямочки и глаза испуганной лани. Его немного раздражает ее «глянец»: в «Сторк-клубе» Уну избрали-таки «Glamour Girl», ее фотография в окружении старичья при галстуках появилась на шестой странице «Нью-Йорк пост», что может быть вульгарнее? Это как если бы сегодня она согласилась поучаствовать в реалити-шоу. Затем «Debutante of the Year»[50] позировала для рекламы, используя громкое имя своего отца: «Волшебный крем для лица „Вудбери“ позволяет Уне О’Нил сохранить всю свою прелесть и свежесть». Пресс-конференция в «Сторке» была одной из худших ошибок в жизни Уны. Шла война – а она позировала с огромным букетом алых роз. Шерман Биллингсли, хозяин «Сторка», сунул ей в руку стакан молока, чтобы не иметь неприятностей с полицией. Один не очень начитанный журналист спросил Уну, чем занимается ее отец… Не моргнув глазом, она ответила: «Он пишет».
Другой журналист: Как он отнесся к вашему избранию Дебютанткой года?
Уна О’Нил: Не знаю и не имею желания его об этом спрашивать.
Еще один журналист: Как вы оцениваете то, что происходит в мире?
Уна О’Нил: Сейчас, когда в разгаре мировая война, мне кажется неуместным высказывать свое мнение в ночном клубе.
Обнаружив ее фото в «Пост», отец сделал лишь одно публичное заявление: «Боже, избавь меня от моих чад!» Затем он написал письмо своему адвокату (который выплачивал содержание Агнес О’Нил): «Уна – не гений, а всего лишь скверная избалованная девчонка, ленивая и пустоголовая, ничего пока не доказавшая, кроме того, что может быть глупее и невоспитаннее большинства своих ровесниц». А следом очень жестокое письмо Уне: «Вся эта реклама вокруг тебя дурно пахнет, если только ты не стремишься стать киноактрисой средней руки, помаячить пару лет на фото в газетах и кануть во мрак своей глупой и бездарной жизни».
Портрет не слишком лестный, тем не менее у Джерри вновь возникают проблемы с дыханием, когда он видит ее на пляже Пойнт-Плезант. Он знает, что она читала Фицджеральда, а как устоять перед хрупкой шестнадцатилетней брюнеткой, читавшей Фицджеральда? Она опять в черном, но на сей раз в брючках и кукольном трико – наряд, говорящий о том, что она не тратит три часа на обдумывание вечернего туалета. В присутствии этой девушки он становится астматиком. Они сидят в баре на берегу моря с Элизабет и Агнес, матерью Уны. От ее детской грации, стройной фигурки, молочно-белой кожи он скрежещет зубами. Он давно заметил, что всякий раз, когда его кто-то умиляет, будь то человек или котенок, он стискивает зубы до боли, как садист. Поначалу дело швах. Представьте себе, что вы it-girl из Нью-Йорка и ваша мать представляет вам долговязого доходягу, который шумно дышит и скрежещет зубами. «Мы уже встречались, вы меня не помните?» Нет, она не помнит их первую встречу в «Сторк-клубе». Вопрос, которого ни в коем случае нельзя задавать людям, много бывающим в обществе: «Ты меня помнишь?» Конечно, они не помнят, балда, они же знакомятся с тремя сотнями человек каждый вечер! Джерри убит. Пока дамы заказывают чай, он заводит речь о своей учебе в Колумбийском университете, о мастер-классе Уита Бернетта, главного редактора журнала «Стори».
– Ну и как же он обращается к своим ученикам, этот знаменитый Уит? – спрашивает Уна.
– Он приходит на занятия с опозданием, читает вслух новеллу Фолкнера и уходит раньше времени, – отвечает Джерри.
Очко в его пользу, ведь Уит Бернетт – друг отца Уны. Она в обиде на отца, который никогда ею не занимался, но не может совладать с болезненным любопытством ко всему, что его касается. Джерри нелегко себе в этом признаться: да, его влечет к Уне ЕЩЕ И ПОТОМУ, что она дочь одного из величайших ныне живущих американских писателей; это не делает ему чести, но к чему отрицать? Он возбужден, пылок, он боится робкого молчания прошлого раза и пытается произвести впечатление, рассказывая о Бернетте, опубликовавшем в своем журнале его первую новеллу «Подростки».
– Сперва он кучу всего отверг. И вдруг – вот-те раз! – выдает мне двадцать пять долларов. Впервые я заработал деньги своей писаниной!
– Если кто-то платит вам за то, что вы пишете, значит либо он дурак, либо вы писатель, – роняет Уна со снисходительностью школьной учительницы, хвалящей хорошего ученика. – Особенно если этот кто-то зовется Уитом Бернеттом.
За месяцы, прошедшие между «Сторк-клубом» и пляжем Пойнт-Плезант, Джерри успел наверстать упущенное: прочел всего Юджина О’Нила. Он сплоховал, сделав Уне комплимент насчет ее «раздвинутых ножек» (хотел-то сказать «раздвинутые зубки»), и кончилось тем, что Уна опрокинула свой стакан с пивом на столик «Тики-бара». Он расхохотался, вытирая лужу рукавом рубашки. Впервые она спустилась на землю со своей луны. Они – двое инопланетян с застывшими минами: она надута, он напряжен. Мать и ее подруга допили чай со льдом, встают, пора домой. Наконец-то они посидят спокойно, выпьют спиртного тет-а-тет под мелодию Бенни Гудмена, льющуюся из потрескивающего радиоприемника. Она смотрит на его руки с длинными тонкими пальцами. Ей хочется потрогать одну из больших ладоней, лежащих на столе: они кажутся такими ласковыми, проверить бы, говорит она себе. В шестнадцать лет накрыть своей ладошкой руку парня ни к чему не обязывает. В сорок это куда серьезнее. Она уже готова это сделать, но тут он укоризненно хмурится:
– Извини, что я опять об этом, но… что это за фигня с «Дебютанткой года»? Ты дала согласие, чтобы «Сторк-клуб» делал на тебе свою рекламу?
– Э-э… Нет, то есть да, мои друзья все устроили… Я знаю, это смешно… Из-за того маскарада мой отец теперь думает, что я пользуюсь его именем забавы ради и чтобы меня везде приглашали… и это чистая правда! Он меня знать не хочет, так пусть хоть его имя мне пригодится, верно? Все равно он мне за всю жизнь и двух слов не сказал, так что, если он не будет больше со мной разговаривать, ничего не изменится. Вот, смотри, какое письмо он мне прислал.
Она достает из сумочки конверт, надписанный строгим каллиграфическим почерком – так пишет тот, кто хочет показать свою значимость даже формой гласных и согласных. Типичный конверт, который страшно вскрывать, потому что внутри наверняка налоговая ведомость или повестка в суд. Она зачитывает вслух: «Я не хочу видеть такую дочь, какой ты стала за этот год. Новости о тебе я теперь узнаю только из желтой прессы». Уголки ее губ опускаются на сантиметр. Вскинув голову, она продолжает:
– Вот ты, будь у тебя дочь, написал бы ей такое?
– Не знаю, может быть, он нарочно так резок с тобой, чтобы ты не стала очередной светской шлюшкой. Это значит, что твоя жизнь ему небезразлична, хоть ты и думаешь иначе.
– Ничего подобного, он думает только о себе, я замарала имя О’Нил, на меня ему плевать с высокой колокольни, он боится, что престиж писателя будет запятнан в светских рубриках. Тебе не понять, до какой степени я ему безразлична, твои-то родители, наверно, до сих пор вместе…
– Если тебе это доставит удовольствие, я могу попросить их развестись.
Уна пожимает плечами. На Джерри серое пальто с бархатным воротником, оно называется «честерфилд», как сигареты и диваны. Оно ему тесновато, и руки торчат из рукавов: далеко не новое пальто. Но Джерри сейчас смелее, чем прежде: после публикации первых текстов он поверил в себя, чего ему так не хватало. Он воображает себя героем романа. Ну что, в омут головой? И он ныряет:
– Допивай свое пиво, Уна, закажи мартини с водкой, и поговорим о важных вещах. Я не хочу болтать попусту, я пытаюсь узнать тебя. Что произошло, черт возьми? Почему он поставил на тебе крест? Ладно, ушел от матери, но не бросать же из-за этого дочь. Вот что я тебе скажу: я думаю, что твой отец – великий трагик во всем, вплоть до семейной жизни. Для него уже нет разницы между жизнью и творчеством. Это видно в его последней пьесе: он пишет о себе, он использует свое несчастье – а значит, и твое, – чтобы родить произведение искусства. Короче говоря, он великий писатель и ничтожная личность.
Уна ошеломлена. Обычно все говорят ей об отце в хвалебных выражениях. Глаза ее наполняются слезами; зажав рукой рот, она вскакивает и выбегает из кафе (нет, она не бежит от Джерри, просто не хочет, чтобы он видел, как она разнюнилась). Джерри расплачивается по счету и выходит вслед за ней. Ловит ее за руку, она оборачивается, и… он обнаруживает, что плачет она красиво.
– Прости, – говорит он. – Я не хотел тебя обидеть… Хотя на самом деле нет, я хотел тебя обидеть.
– Нет… ничего страшного, ты прав, просто осточертело, что все мне только о нем и говорят.
– Ты сама о нем заговорила. Не сердись, что я интересуюсь Джином. Я… Мне любопытна ты. В этом нет ничего преступного, понимаешь? Ты мне нравишься, вот и все. Если хочешь, я сейчас же уйду, и ты меня больше не увидишь. Скажи только слово, и я отвалю.
– Какое слово?
– Good bye.
– Это два слова. Останься.
Она понимает, что в очередной раз имеет дело с безутешным воздыхателем. Уна их не переносит, это худшая категория поклонников, хотя они единственные любезны. Остальные соблазнители делятся на следующие категории: бледный насильник с суицидальными наклонностями, опасный донжуан, фанфарон, похваляющийся своими прежними победами, агрессивный мямля, оскорбляющий вас, провоцируя облом, которого боится, антиэротичный весельчак и, конечно же, извращенец-нарцисс, самый несносный вкупе с тайным гомосексуалистом. Но безутешный воздыхатель хуже всех. «Как хорошо она улыбается сквозь слезы», – думает Джерри. Ему хочется до крови укусить ее за язык. Хочется запустить пальцы в этот невинный ротик. Хочется ощипать эту бедняжку из хорошей семьи. Голос у нее сладкий, глухой, хрипловатый, меланхоличный. Она из тех девушек, что говорят, глядя на море. Лают чайки, я не шучу, в самом деле слышится «гау, гау», точно собаки проносятся на бреющем полете над пляжем. Подойдем же поближе и послушаем, что говорит Уна у кромки воды.
– Джин, то есть… мой отец… я его совсем не знаю. Клянусь тебе, я чаще видела его на фото, чем живьем. Его пьес я не читала. Когда все говорят мне о нем, я делаю вид, будто понимаю, о ком идет речь, но на самом деле я не знаю, кто этот человек, давший мне жизнь. Я ношу прославленное имя незнакомца, который позирует для газет и не может простить мне, что я делаю то же самое. Мне было два года, когда он уехал с Бермуд. Отвалил репетировать пьесу под названием «Странная интерлюдия»… Как же! Назвал бы ее лучше «Вечной интерлюдией»! Я всю жизнь чувствовала, что в тягость ему; он вообще не выносит своих детей, всегда считал нас бременем. Встреть я его сейчас на улице, даже не уверена, что он бы меня узнал… Ах, черт.
Она смотрит на Джерри, потом отводит глаза, и ее подбородок начинает неудержимо дрожать. Она зла на себя за то, что ей никогда не удается не раскиснуть при упоминании об отце.
– Теперь ты понимаешь, почему я избегаю этой темы? – вздыхает Уна. – Это глупо, мне давно пора бы научиться держать себя в руках, ах, черт, неужели я так и буду мучиться из-за него всю жизнь?
– Не могу решить, какой ты мне больше нравишься – когда плачешь или когда улыбаешься, – говорит Джерри.
– Надеюсь, что ты все-таки предпочтешь заставить меня улыбаться, – отвечает Уна, – иначе мы не поладим.
– А ты хочешь, чтобы мы поладили?
– Не беспокойся, Длинный Джерри, конечно же, мы ляжем в постель сегодня вечером: добьешься своего и переходи к следующей.
Она снова улыбается – язвительно. Она взяла верх. Джерри молчит. Сильна она, однако! Замкнута в своем сладком одиночестве девушки из high society, горда своим горем и своей средой. Ее манера лавировать между нежностью и цинизмом неотразима. Нарочно ли она это делает? Девушки ведь открываются и закрываются: главное – найти верный пароль. Чем они красивее, известнее и избалованнее, тем труднее расшифровать код. Их обольщение требует хитроумных приемов шпионажа, которыми Джерри овладеет лишь два года спустя, когда будет служить в разведке 12-го полка 4-й пехотной дивизии.
Они идут вдоль пляжа к пирсу. Атлантический океан по-прежнему рокочет и создает шумовой фон: очень удобно, чтобы заполнять паузы. Чайки хохочут, как будто насмехаются над этой столь неподходящей парой: длинный брюнет и крошечный эльф. Ветер несет песок, и он оседает на их волосах и ресницах. В фильме камера могла бы снять их длинным отъездом. Этот стилевой прием, часто используемый Вуди Алленом, называется «walk and talk».[51] К счастью, у Уны наконец-то вновь развязывается язык, потому что идти так долго, ничего не говоря, – это уже скорее Бергман.
– Слушай, – говорит Уна, – я тебе солгала, когда сказала, что не помню нашу первую встречу. Я знаю, кто ты: таинственный великан из «Сторка». Мы с Трио Сироток часто о тебе говорим. А Трумен прозвал тебя Тот-кто-уходит-не-дождавшись-счета.
– Эй! Но я думал, что патрон угощает!
– Ну да! Это я тебя дразню… Капоте обожает говорить гадости о тех, кто ему нравится, – так он выражает свои нежные чувства. А я прочла в «Стори» твою новеллу «Подростки». И подумала, что ты кое-что записывал на той вечеринке.
– Я кое-что записывал на той вечеринке.
– Я могу быть с тобой откровенна?
– Хм… Всегда немного тревожно, когда люди задают такой вопрос.
– То, что ты пишешь, забавно, но не вполне понятно, к чему ты клонишь. Это диалог глухих, парень и девушка ходят вокруг да около, но так и не встречаются, да? И что ты хочешь этим сказать? Разве только оттоптаться на золотой молодежи и доказать нам, что богатенькие детки все дебилы, у которых только пьянка да кадреж на уме…
– Вот именно! Ты прекрасно поняла мой месседж.
– Ладно, но в таком случае Фицджеральд сделал это до тебя и гораздо лучше.
– Я ведь начинающий…
Джерри не в силах скрыть обиду. Он вздыхает, запускает руку в волосы, растопырив пальцы, как бы говоря: «Я выше всего этого», но Уна истолковывает его иначе: «Да кем она себя возомнила, эта девчонка?» Хлопают на ветру паруса Пойнт-Плезанта, перекрывая теперь лай летающих собак.
– Хорошо, – говорит она, – ты оттачиваешь перо. Только не дуйся, это уже большое дело – напечататься в твоем возрасте. Между прочим, Трумен позеленел, когда узнал, что ты его опередил, я уж думала, он подцепил гепатит. Знаешь, что он сказал? «Главное – не просто напечататься, но напечататься в „Ньюйоркер“».
– Капоте похож на эмбрион.
– (Заливисто смеясь.) Нехорошо критиковать тех, кто маленького роста!
– Я не критикую, а констатирую факт: это человеческое существо не завершено в развитии, если только он не тролль. Как тролль он вполне удался.
– Прекрати злословить о моем лучшем друге, мистер Я-ухожу-не-дождавшись-счета!
Так они продолжали разговаривать, шагая, и шагать, разговаривая. Джерри принес из буфета два пива и пакет попкорна. Они бросали его чайкам, и те хватали зерна на лету. Уна, громко смеясь, пила из бутылки, совсем как мать Джерри – отчасти ирландка, – и это, возможно, было одной из подсознательных причин его тяги к ней. В ирландках есть какая-то изюминка. Сексапильные, как англичанки, но живее, подлиннее, что ли, не такие снобки, не задирают нос. Смех громче, груди больше, веснушки на щеках. И быстрее пьянеют. Рядом с ними заиграла шарманка.
– Спасите! – воскликнула Уна. – Я ненавижу музыку из автомата!
Они ушли подальше от ящика с ручкой – далекого предка музыки техно – и приблизились к дансингу с цветными фонариками, где наигрывала свинг джазовая группа.
– Слишком жарко, чтобы танцевать, – сказала Уна.
– Распусти волосы.
– Если я их распущу, стану слишком красивой. А я не могу себе этого позволить сегодня вечером.
– Почему?
– Потом они все захотят со мной переспать. Это испортит нам вечер.
Джерри был из тех танцоров, которым ноги мешают, поэтому танцевали они плохо, но танцевали долго. Секстет под цветными фонариками играл джаз, чередуя соло. Уна воткнула цветок в волосы. Волосы же Джерри слиплись от пота, как напомаженные. Он снял пиджак, и их тела переплелись. В те времена танец был единственным легальным способом приблизиться к кому-то вплотную. Оркестр громыхал громче океана. Танец освободил шевелюру Уны: узел распался, и волосы дождем рассыпались по плечам. Цветок упал на землю, и они безжалостно его растоптали, напевая: «I can’t dance, got ants in my pants», что значит: «Я не могу танцевать, у меня муравьи в штанах» (приличия ради мы не станем переводить продолжение песенки:
- Let’s have a party,
- Let’s have some fun,
- I’ll bring the hot dog,
- You’ll bring the bun.[52])
Усталые, но довольные, как будто вся их робость вышла потом, они присели рядышком за двумя бутылками уже теплого пива, и у обоих выросли пышные пенные усы.
– Ты не любишь нравиться? – спросил Джерри.
– Не люблю. Потому и нравлюсь.
Она смеялась собственным шуткам, но не из самодовольства, скорее боясь, что они не смешны. Джерри никогда не мог понять, шутит Уна или говорит искренне.
– Ты танцуешь почти так же плохо, как я, а это, видит бог, нелегко, – сказала она.
– Мне хочется тебя поцеловать, и я нарочно плохо танцую, чтобы быстрее сесть.
Уна сделала вид, будто не слышала, но через несколько секунд они уже стояли рядом на улице, обняв друг друга за талию. Уна раскритиковала его одеколон и стрижку.
– Ты только и думаешь, как бы соблазнить тысячи девушек, – фыркнула она.
– Ты выйдешь за меня замуж? – спросил Джерри.
– Ни за что на свете. Ты слишком молод!
– Посмотри, что у меня в кармане. Мне кажется, это твое.
Джерри сунул руку в карман пальто и достал пепельницу из «Сторк-клуба». Узнав ее, Уна расхохоталась еще громче и впервые за вечер покраснела. Джерри нахмурил брови, как полицейский:
– Мисс О’Нил, вы обвиняетесь в краже пепельницы из ночного заведения.
– Эй! Но выходит, что это не я ее украла: с этой фарфоровой штукой в кармане из «Сторка» вышел ты.
– Что делает меня укрывателем краденого. Спасибо за подарок. Не беспокойся, если бы полицейские меня задержали, я бы тебя не выдал. Один бы сел в Синг-Синг. Как ты думаешь, мне бы оставили пишущую машинку?
– Если ты угостишь меня сигареткой, мы сможем стряхивать пепел в эту емкость.
– Отличная мысль.
Чиркнула спичка: еще два красных огонька зажглись в вечернем сумраке. Джерри видел, что она не затягивается. Паузы становились все короче. Воздух был теплый, ночь накрыла пляж, над променадом один за другим гирляндой зажигались фонари. Они прошли мимо кинотеатра, где показывали «Унесенных ветром».
– Эй, – предложила Уна, – может, пойдем?
– Я уже видел, – ответил Джерри.
– Говорят, фильм лучше книги.
– Пф… Не вижу интереса сидеть три часа в темноте, когда можно смотреть на тебя. Ты лучше Вивьен Ли. Закрой глаза и представь, что я Кларк Гейбл, подаривший тебе смешную французскую шляпку.
– Ты знаешь, что Скотт Фицджеральд работал над сценарием этого фильма?
– Вряд ли они много от него оставили. Бедняга, знаешь, я очень горевал, когда он умер.
– Слушай, Джерри. Кажется, мне хочется, чтобы ты меня поцеловал, но при одном условии: чтобы никаких последствий.
– Скажи, я похож на человека, который несет бремя последствий своих поступков?
Он наклонился к ней, но не посмел дойти до конца. Она сама, привстав на цыпочки, преодолела остаток пути и вдруг почувствовала, что отрывается от земли, в прямом и переносном смысле. Они целовались, она парила, он держал ее. Головокружение было неожиданностью: этот первый поцелуй мог бы отдавать остывшим табаком, но Джерри, зарывшись носом в душистые волосы Уны, навсегда сохранил его сладкий вкус, а она с силой выдыхала в его шею запах коричного мыла. Когда два языка соприкасаются, бывает, что ничего не происходит. Но бывает, происходит что-то… О боже мой, происходит что-то такое, отчего хочется растаять, раствориться, как будто двое входят друг в друга, зажмурившись, чтобы все внутри перевернуть. Он прижимал ее губы к своим до потери дыхания. Когда он поставил ее на дощатый настил, у нее было только одно желание – снова взлететь.
– Все это совершенно нормально.
– Угу, совершенно. Может быть, еще попробовать?
Они попробовали, и это оказалось очень приятно. Они пробовали снова и снова. Каждый раз, когда он ее целовал, ей казалось, будто она взлетает, а ему – будто он падает. Истинно говорю вам: чудо, что они еще держались на ногах. Подвиг столь же исключительный, как и этот допотопный оборот в моих устах.
– Так-так. Чем смотреть по второму разу про Войну Севера и Юга, не пойти ли нам лучше к тебе – прикончить бутылку водки под пластинки Коула Портера? Чинно-благородно. Останемся в гостиной. Твоя мама уйдет спать, а мы потанцуем под Moonlight Serenade.
– Между прочим, Moonlight Serenade – это не Коул Портер, а Гленн Миллер. Во-вторых, у меня дома нет водки, только белое вино. И в-третьих, я тебе соврала, когда сказала, что лягу с тобой.
– Я знаю, Симпатичная Покойница за Шестым Столиком.
– Как? Что ты сказал?
– The Lovely Dead at Tble Six – так называется новелла, которую я сейчас пишу. Надеюсь, что «Ньюйоркер» ее примет.
– Ты сумасшедший.
– Знаю. Есть хочешь?
– Никогда.
– Почему я?
– Прости, что?
– Почему ты выбрала меня? Весь Нью-Йорк у твоих ног.
– Я тебя не выбирала, я дала тебе волю, это другое дело. Прекрати дуться. Поцелуй меня еще, пока я не передумала.
Напомню на всякий случай – но это маленькое отступление немаловажно, – что в тот вечер Черчилль заклинал Рузвельта вступить в войну, чтобы взять в клещи наступавшего на Россию Гитлера.
В гостиной старого дома в Пойнт-Плезант Джерри и Уна придумали новую игру – следовать песням. Например, слушать Night and Day «Only you beneath the moon and under the stars»[53] под луной и звездами, Smoke Gets in Your Eyes, выдыхая дым сигарет друг другу в глаза, Cheek to Cheek, прижавшись щекой к щеке, и т. д. К счастью, у Уны не было пластинки Stormy Weather.
Мать Уны, Агнес Боултон, была очень либеральна, доверяла дочери, да и вообще не имела над ней никакой власти. Подобно многим матерям, которые развелись в ту пору, когда никто этого не делал, она чувствовала себя до того виноватой в крахе своего брака, что позволяла дочери все. Джерри не мог опомниться: он здесь, в гостиной в темных тонах, с той, чье имя у всех на устах, Уной О’Нил, проводит часы наедине с самой прекрасной девушкой Нью-Йорка, и она, держа бокал в белой ручке, смотрит на него, слушает его, отвечает ему. Он знал, что это редкое везение, которое, быть может, никогда больше не повторится (и в каком-то смысле он был прав, потому что тот вечер действительно никогда не повторился).
– Но почему ты мне ни разу не позвонил? – спросила Уна.
Джерри не мог ответить, что в его студенческой комнатушке нет телефона.
– Я хотел написать тебе письмо, прочитав которое ты бы влюбилась в меня, – сказал он.
– Прекрати надо мной издеваться.
Временами ему казалось, что он понимает ее все лучше, что в самом деле нравится ей, а потом вдруг – бац! – она замыкалась на добрых полчаса, отказывалась целоваться, и слова из нее нельзя было вытянуть, кроме: «человеческое тело внушает мне отвращение», или: «все равно ты такой же, как все», или еще: «тебя во мне интересует только мой отец» (на что он возражал, что единственный шедевр Юджина О’Нила – это его дочь). Она испытывала его терпение, и это было ужасно: иногда внезапно, как в свое время в «Сторк-клубе», ему хотелось встать и вернуться в одиночестве домой, он чувствовал себя Большим Неуклюжим Олухом. Не Тем-кто-уходит-не дождавшись счета, а скорее Мужчиной-звереющим-от-маленькой-стервы-смешавшей-его-с-дерьмом. И всякой раз, спохватываясь, что зашла слишком далеко, Уна вновь становилась шелковой, ласковой и милой. Контрастный душ называют шотландским, но изобрели его наверняка в Ирландии.
– Я не хочу жить уготованной для меня жизнью, понимаешь, Джерри? По-моему, жизнь избранных… Нет, это невозможно, я не смогу, я хочу другого. Если это и есть жизнь, то… этого мало.
– Чего же ты хочешь?
– Я хочу быть самой счастливой девушкой на свете.
Уна произнесла эту фразу так, будто сказала: «Приговоренному к смерти голову с плеч». Это был вердикт, обжалованию не подлежащий.
– Я начинаю играть в театре, ты знаешь? – продолжала она. – Меня заметила Шерил Кроуфорд, директриса театра «Мэпплвуд». Отсюда все и пошло: Дебютантка, Glamour Girl… это как когда мы с тобой давеча целовались, меня куда-то несет, а я не против. Смешно, я знаю, но все же лучше, чем продолжать изучать глупости, которые мне никогда в жизни не пригодятся.
– В сущности, ты всего лишь старлетка…
– Ох, заткнись, Проклятый Поэт! Нет, я просто боюсь этой долгой жизни впереди, я не знаю, что с ней делать. Мне кажется, будто я стою над пропастью. Вот ты точно знаешь, зачем тебе твоя жизнь?
Она стояла, облокотившись на парапет над ревущим океаном, и словно вглядывалась в свое бесконечное будущее, словно океан был грохочущим грядущим и оно обрушивало на нее злые волны, вздымая гребни пены.
– Да, я знаю, что хочу написать Великий Американский Роман, – сказал Джерри. – И ничего другого мне не надо. Я хочу соединить эмоции Фицджеральда, лаконичность Хемингуэя, неистовство твоего отца, четкость Синклера Льюиса, цинизм Дороти Паркер…
– Ты, однако, высоко метишь.
– То-то и оно: скромнику лучше избрать другое ремесло, не писательское.
– И все-таки ты забыл упомянуть лучшую.
– Кого?
– Уиллу Кэсер.[54]
– О да. Я самонадеян, но не до такой степени! Она и сестры Бронте непревзойденны.
– Ты будешь писать для меня роли?
– Да. Роли злой девчонки, которая не знает, чего хочет в жизни. Я не удивляюсь, что ты хочешь играть в театре, ты ведь отлично ломаешь комедию.
– Вот как?
– Да; ты прикидываешься простушкой, а на самом деле ничего подобного.
– Дурак! Я просто не люблю дуться, как ты.
– Твоя грусть… она все-таки прорывается, всегда находит выход. Вот в чем твоя прелесть: ты все время улыбаешься, но твои глаза зовут на помощь.
Уна переменила тему. Не девушка, а боевая машина. Ужас, подумать только, до чего несправедливо, что шестнадцатилетние девушки всегда более зрелы, чем парни двадцати двух лет.
– Чтобы писать, тебе надо будет найти спокойное место за городом, – продолжала Уна. – Вот мой отец пишет в хижине в дальнем углу своего сада.
– Да ну?
– Конечно. Он терпеть не может журналистов и нигде не бывает. Писатель не живет светской жизнью, он запирается в своем домике и работает, иначе это не писатель, а шут гороховый. Выражение «нью-йоркский писатель» – оксюморон.
Она не сводила с него оценивающего взгляда. Всегда наступает момент, когда влюбленный мужчина чувствует себя как безработный на собеседовании. Он пытался зарабатывать очки каждой фразой. Улыбка Уны была для него все равно что выигрышный билет в лото. Ему приходилось сдерживаться, чтобы не закричать «Йесс!». Она отшвырнула сигарету в сад: через несколько секунд было уже невозможно различить ее в траве среди светлячков, превративших газон в галактику.
– Это нормально, что ты задаешься вопросами о своем будущем, – сказал Джерри, – но я-то не могу позволить себе такой роскоши. Ты забыла о войне. Наша страна посылает в Европу деньги и оружие, но этого мало, скоро начнут посылать людей, и меня убьют.
– Ты пойдешь на войну, солдатик? Защищать свободу? А вот мне плевать, свободна я или нет. Свобода меня не интересует. Я за рабство.
– Кончай пороть чушь, ты пьяна, что ли?
– О’Нилы никогда не пьянеют, – изрекла она, подняв указательный палец правой руки и бутылку в левой. – Ладно, не спорю, чуть-чуть. Откроем еще бутылку… и выыыыпьем за солдаааата свобоооды.
– Если будет война, я не стану отсиживаться у родителей, это точно.
– Ты мой герой. Я провожу тебя до парохода и помашу с пристани кружевным платочком.
На этот раз ее головка нежно прижалась к подбородку Джерри. Он пытался выглядеть твердыней, хотя чувствовал себя таким же хрупким, как эта шестнадцатилетняя нимфетка с неразрешимыми вопросами. Каждый раз, обнимая ее за талию в танце, он словно нажимал на выключатель: его ладонь на черной шерсти автоматически приоткрывала губки Уны, и чем крепче он сжимал ее бедро, тем шире раскрывался ротик. Очень удобная система. На улице пахло хот-догами, жареной картошкой, йодом морских водорослей, субботним вечером. Как милы эти двое, и до чего же мне нравится воображать их на террасе старого дома в Нью-Джерси, под луной, дробящейся вдали в океане… а я пишу, сидя по другую сторону океана, в Биаррице. Они прямо напротив, и я не могу на них насмотреться, пусть семьдесят лет отделяют меня от этого вечера 1941 года, пусть между нами Атлантический океан, пусть их нет в живых, я вижу, как они кружат в танце и целуются, словно кусают спелые плоды, истекающие соком… Целоваться и ссориться – таков секрет счастья. «Love is a touch and yet not a touch».
Любовь – это иметь и не иметь. Когда Вертер случайно касается ноки Шарлотты, он делает это не умышленно: это, так сказать, считается и в то же время не считается. Любовь рождается от невольной ласки, от неподвластного нам движения. Это как говорить с кем-то по телефону: человек здесь, хоть его и нет.
Любовь – это делать вид, будто вам плевать, хоть вам и не плевать. Искать себя, не находя. Такая игра, если усвоить ее правила, может занять целую жизнь.
Они танцуют медленный фокстрот. Редко бывает, что двое в медленном танце хотят одного и того же: обычно один из двоих хочет переспать с партнером, а тот вежливо дожидается конца песни, отворачивая голову…
Произошло странное событие. Описывая Джерри Сэлинджера и Уну О’Нил в Пойнт-Плезант, я решил передохнуть, включил телевизор и… что же я вижу? Пляж Пойнт-Плезант – опустошенный. Ураган «Сэнди» пронесся по этим местам. Доски настила, на котором Джерри поднимал Уну, разлетелись, как соломинки, и попадали кучами, как палочки в игре микадо, бассейны при коттеджах засыпаны песком, большое колесо упало на пляж, а лодки вынесло на крыши домов, забросило в сады, рядом с голубыми горками и поваленными деревьями; машины, поднятые водой на два метра, въехали в гостиные через окна; улицы превратились в озера. Посреди круглой площади стоит рояль, опрокинутый контейнер перекрыл дорогу. Все автомобили стали субмаринами, столбы линии электропередачи переломаны как спички. Странное совпадение: как раз когда я решил рассказать об «ударе молнии» в Пойнт-Плезант, на него обрушился циклон. В октябре 2012 года от антуража лета 1941-го ничего не осталось.
Через несколько часов, за которые опустели две бутылки белого вина и пачка сигарет, закружились обе головы, Джерри и Уны. Так часто бывает, когда влюбляешься впервые в жизни. Чувствуешь себя до того хорошо, что иссякают силы, и вдруг становится страшно оказаться не на высоте: вот тут-то и надо уйти. Уна заговорила, снова торжественно подняв вверх указательный палец.
– Солдат Сэлинджер, я никогда никого так не боялась, – сказала Уна. – У тебя лицо убийцы.
– Ты права: я тебя задушу, чтобы потом сожалеть о тебе… и томиться. Я обожаю томиться, это мое любимое занятие. Все мое детство прошло за ним. Я ни от кого не слышал похвал, когда был маленьким мальчиком, разве только «у него крепкие ноги».
– Это правда, у тебя крепкие ноги. А мы можем томиться вдвоем?
– Конечно. Добро пожаловать в Клуб Томящихся.
Под ее мраморной кожей пульсировали органы, текли по сложному переплетению труб и трубочек кровь, желчь и кислота, трепетали мускулы, нервы и кости за этим лицом; ему хотелось очистить ее, как грушу, увидеть обнаженные вены, изуродовать этого ангела, чтобы не быть больше пленником ее лица, сжевать, как резинку, ее живую плоть. Бесспорно, не стань Джерри писателем, он мог бы сделать блестящую карьеру серийного убийцы. (Он, кстати, кое-кого из них вдохновил.)
– Я тоже люблю томиться, – вздохнула Уна, крутя в руках бокал. – Когда ты уедешь на войну, я буду томиться в вечернем платье. Буду сидеть, вся такая строгая, с поникшей головой, и все станут меня утешать. Мой взгляд будет устремлен в пустоту, и доктор пропишет мне двууглекислый… как его… в общем, питьевую соду. Ах ты, паршивец, как же мне не терпится стать твоей вдовой!
Совершенно пьяные, они открыли друг в друге общую склонность к мрачному. Никто в ту пору слыхом не слыхал о готском юморе; Курт Кобейн и Мэрилин Мэнсон (два будущих читателя Джерри) еще не родились. Уна умела говорить странные вещи так, чтобы ни один мускул не дрогнул на ее лице. В конце концов, она была, возможно, права, готовясь в актрисы.
– Я произнесу душераздирающую речь на твоих похоронах, – продолжала Уна. – Тебя наградят посмертно. Все будут восхищаться моим верным сердечком. Сочувственно пожимать мне руку. Как же мне не терпится оросить слезами твою могилу, Джерри. А потом я выйду замуж за богатого бразильца, и в обмен на комфорт, который он мне обеспечит, ему достанутся моя юность и интеллектуальная аура дочери нобелиата………… (Десяти многоточий недостаточно, чтобы выразить последовавшее за этим неловкое молчание.)
– Ты все-таки мерзавка. Ах, как бы мне хотелось избавиться от твоего присутствия в моей жизни. Мне каждую ночь снится дивный мир, в котором ты не родилась. Каждая секунда моего существования стала адом, с тех пор как я встретил тебя.
– Спасибо. Скорей бы война!
– Выпьем за войну!
Они чокнулись, еще не зная, что их мрачные пожелания вскоре превзойдут все их надежды – хотя тут уместнее безнадежность. Потом Уна поставила бокал и едва не задушила его двумя руками, глядя немигающими глазами, точно оголодавшая.
– Готово дело, я достаточно выпила, чтобы говорить с тобой откровенно. Давай же… скажи это… я знаю, что ты хочешь сказать мне одну вещь и не решаешься уже несколько месяцев… давай… я помогу тебе… повторяй за мной… «I love you, Уна»… смелей, я привыкла… тебе пойдет на пользу… всего четыре слова… I, love, you, Уна.
– Я люблю тебя, Уна. Вся моя жизнь летит в тартарары. Это самоубийство – любить тебя, Уна. Я погиб, пропал ни за грош. Никто никогда не был так счастлив и так жалок. Ты создана мне на погибель. Пусть бы лучше мне отрезали обе ноги, лишь бы не встретить тебя на своем пути.
– Ну во-о-от. Хорошо… тебе полегчало… а теперь слушай меня хорошенько. Я принимаю твою любовь… я буду ее бережно хранить… смотри мне прямо в глаза… я не умею любить, но готова позволить любить себя тебе, и только тебе, сейчас скажу почему: потому что ты слушаешь меня с таким проникновенным видом, когда я несу чушь.
– Из меня тоже вышел бы актер! По рукам. Однажды я напишу лучший роман двадцатого века. А пока я все беру на себя, little Уна. Любить тебя легко. Это так, и ничего тут не поделаешь. Это даже надо бы вменять в обязанность.
Она поцеловала его, закрыв глаза и тесно прижимаясь, пожалуй, чересчур неистово. Я полагаю, что романист-профессионал описал бы здесь окружающий их приморский пейзаж, и ветер, и облака, и траву в росе, но я этого не делаю по двум причинам. Во-первых, потому, что Уна и Джерри плевать хотели на пейзаж; во-вторых, все равно ничего не было видно, еще не рассвело.
– Как чудно… Когда ты меня целуешь, у меня кружится голова, как в лифте, когда он поднимается на верхний этаж Эмпайр-стейт-билдинг…
– Это потому, что ты пьяна, дорогая. А ты знаешь, что если бросить пенни с крыши Эмпайр-стейт-билдинг, он долетит донизу на такой скорости, как если бы весил двести кило? Пенни может убить прохожего, даже не верится, правда?
– О боже, голова кружится, я, кажется, сейчас упаду в обморок…
К горлу Уны вдруг подкатила тошнота, она вскрикнула «oh my God!», бросилась в дом, взбежала по лестнице, зажимая рукой рот, и закрылась в ванной на втором этаже. Мешать водку с пивом и вином не рекомендуется в первый вечер, но молодые люди могут этого не знать, даже если они ирландского происхождения. Сверху из-за двери Джерри услышал не самые романтические звуки. Он вошел и оказался один на первом этаже в темной гостиной. Провел рукой по корешкам французских романов в книжном шкафу, коря себя, что сболтнул эту чушь про пенни. Уйти, остаться? Он не знал, как помочь Уне, не показавшись навязчивым. До него донесся ее хрип: «Мой отец – Эмпайр-стейт-билдинг!» Проснулась ее мать и, выйдя из своей спальни, прошла к ней в ванную. Он слышал, как они там разговаривали.
– Уна? – крикнул Джерри, подойдя к лестнице. – Хочешь, я почищу тебе зубы?
После очень долгого ожидания – успели запеть дрозды на деревьях – к нему спустилась Агнес, мать Уны.
– Уна неважно себя чувствует, я думаю, вам лучше уйти, она не хочет, чтобы ее видели в таком состоянии.
И Джерри оказался за закрытой дверью, едва успев сказать: «Мне очень жаль, пожелайте ей от меня доброй ночи, мое почтение, мэм». Перед тем как захлопнуть дверь, экс-миссис О’Нил (от которой тоже попахивало спиртным) миролюбиво добавила:
– Я дала ей соды. Это от всего помогает, знаете ли, зубы отбеливает, для пищеварения полезно, я даже делаю из нее маску для лица. Уна еще дитя, you know. Она строит из себя светскую женщину, но на самом деле это просто младенец, с ней надо обращатьсяочень бережно. Договорились?
– Конечно договорились, но я…
Дверь захлопнулась, прервав его лепет.
Как будто он виноват, что она может преодолеть свою робость, лишь будучи мертвецки пьяной. Он-то полагал, что ирландка должна уметь пить. Уна ухитрилась заставить его забыть, что ей всего шестнадцать. Джерри заметил, что уже рассвело. Летом на пляжах Нью-Джерси ночи коротки; солнце заходит; несколько бокалов – и оно всходит вновь. Здесь кто-нибудь вроде Сильвии Плат[55] добавил бы светочувствительную фразу типа: «Рассветное солнце, такое простое, сияло сквозь зеленую листву растений в маленькой оранжерее, и цветочный узор на обитом ситчиком диване был наивным и розовым в утреннем свете». Люблю эти паузы, дающие читателю время передохнуть, выпить или сходить в туалет. Ах, если бы только я мог писать так. Но я скажу только, что первый луч солнца был фиалкового цвета и это было чертовски красиво.
Бредя в одиночестве под смутный ропот волн по променаду Бредшоу-Бич, мимо закрытого кинотеатра, Джерри думал о том, что никогда уже не будет так счастлив, как в эту ночь. Совершенно состоявшаяся встреча – сколько раз в жизни такое бывает? Однажды. Только однажды, и вы это знаете не хуже меня.
Джерри почесывал голову, повторяя вслух один и тот же вопрос: «Во что я вляпался, боже мой?» Он шумно дышал и хмурил брови. Поцеловать девушку, которую боготворишь больше всех на свете, – конечно, победа, но если девушку тут же рвет, как прикажете это понимать? Быть может, это доказательство того, что он не оставил ее равнодушной. Взбаламутил во всех смыслах слова. Или же он ей противен, и с этого дня имя Джерри Сэлинджера станет синонимом тошноты. Он не знал, надо ли надеяться, что она все запомнит, или пусть лучше забудет завтра же. Влюбиться – значит нажить на свою голову новую проблему, требующую решения. Позвонить ей, написать письмо? Как увидеться с нею вновь, не показавшись назойливым? Как снискать восхищение балованного дитятка, которым восхищается Весь-Нью-Йорк? Джерри вступил в войну задолго до своей страны.
IV
The toast of cafe society[56]