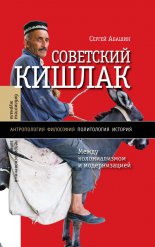Дорога великанов Дюген Марк

– У тебя есть причины не спать?
– Может быть, и нет. Но факт остается фактом.
Он похлопал меня по плечу.
– Когда будешь каждую ночь ложиться рядом с моей дочерью, бессонницу как рукой снимет. Нет лучшего лекарства для сна, чем женщина. Как расследование?
– Я обнаружил следы девушек в одном сообществе хиппи на севере Сан-Франциско. Либо они решили в принципе там не задерживаться, либо скоро туда вернутся. Там непросто проводить расследование: хиппи укрывают дезертиров и молчат как рыбы. При виде меня они тут же понимают, что я чужой.
– Теперь ты специалист по исчезновениям студенток. Успокоил господина Дала?
– Да, если можно так сказать. Родители отреагировали очень отрицательно: они думали, что знают свою дочь.
– Это понятно. По крайней мере, теперь Дал перестанет названивать мэру, а то он мне все нервы истрепал. Не знаю, что я сказал бы, если бы Венди перешла на сторону хиппи. Думаю, когда вы поженитесь, этот вопрос можно будет закрыть. Кстати, насчет свадьбы. Мы об этом никогда не говорили, Эл, но какую религию ты исповедуешь?
– Католическую.
Диган широко улыбнулся.
– Католическую? Черт возьми, это прекрасно! Знаешь, меня обычно мало интересуют такие вещи. Я хожу в церковь, хоть и не верю толком, но мои бабушка с дедушкой – они с юга Ирландии, и меня бы напрягало, если бы… в общем, ты католик, я рад. Хорошо…
– Венди вам не рассказала о том, как мы договорились?
– Нет… Венди мне далеко не всё рассказывает о вас. Кстати, пропали еще студентки…
Он порылся в бумагах на своем столе, напоминающем Иерусалимский храм после сожжения, и протянул мне три листка.
– Ничего особенного. Но хорошо бы, чтобы ты занялся…
Он положил ноги на стол и поглядел в окно.
– Я допрашивал Макмаллана. Никогда в жизни не видел таких психов. Я говорил с его матерью. Она утверждает, что до смерти лучшего друга Макмаллан был блестящим уравновешенным мальчиком. А после смерти друга он замкнулся в себе и стал сходить с ума до такой степени, что родители решили поместить его в психиатрическую больницу. Парня полечили и выпустили. Но нескольких минут разговора достаточно, чтобы понять: этот человек совершенно сумасшедший. Семьи погибших даже не увидят его на электрическом стуле.
– Почему?
– В Калифорнии принят мораторий на смертную казнь. Думаешь, Макмаллан родился убийцей?
Я глубоко задумался: вопрос того стоил.
– Думаю, процент людей, рождающихся убийцами, ничтожен. Остальные просто хотят расквитаться с обществом за пережитую боль. И когда я говорю «общество», я имею в виду в особенности семьи. Семья – рассадник преступности. Вместо того чтобы говорить о том, каким удивительно нормальным был Макмаллан, лучше бы его мать рассказала, что привело его к срыву, как семья боролась с его гомосексуальностью, как его жестоко подавляли и как, в конце концов, он выплеснул свой гнев и свою неудовлетворенность, вскрыв животы бедным девушкам, словно собственной родительнице. Из сотни людей с теми же проблемами около шестидесяти справляются при помощи алкоголя и наркотиков. Около тридцати восьми человек кончают жизнь самоубийством. И еще двое становятся серийными убийцами. Всё просто.
– Надеюсь, что второй негодяй будет убивать в другом штате. Калифорния уже достаточно настрадалась.
Дигана вызвали на место заурядного преступления: муж избивал жену, и та пустила ему пять пуль в лоб. Видимо, несчастная страдала долго – иначе и одной пули хватило бы. Перед уходом Диган пригласил меня на ужин в субботу вечером.
61
Я вышел из участка и почувствовал себя нехорошо. Мне казалось, что я не справлюсь со своими эмоциями, пока не поговорю с матерью.
Я отправился в университет во время обеденного перерыва. Мать сидела в кабинете одна, угрюмо жевала сэндвич и домашний салат, после ночи пьянства выглядела плохо, еле-еле держалась. Ее огромные очки с толстыми стеклами съехали на нос. Увидев меня, она отпрянула:
– Что ты здесь делаешь, Эл? Я тебя уже сто раз просила не приходить ко мне на работу и не отвлекать меня! – Она почти шептала – специально, чтобы никто не услышал. – Надеюсь, ты не деньги клянчить явился, после того как меня обокрал?
– Пить надо меньше.
Я подошел к закрытому окну и сложил руки на спине. В комнате сразу потемнело.
Мать поднялась со стула, чтобы выйти. Я преградил ей дорогу к двери. Как только я покинул свой наблюдательный пункт у окна, в комнате сразу посветлело.
– Я пришел, чтобы ты со мной поговорила.
– Поговорила?
– Неужели тебе нечего сказать? Подумай хорошенько!
– Что ты имеешь в виду, Эл? Здесь не место для семейных сцен, ты это знаешь.
– Ты не орешь только здесь, поэтому я пришел именно сюда.
– Мне нечего сказать кроме того, что ты страшно меня разочаровал.
– И всё?
– Всё.
Надо было видеть отвращение на ее лице.
– Я пришел сказать, что меня взяли на работу в полицию.
Она лишь вздохнула. И только.
– Ты сможешь оплачивать жилье и съедешь?
– Я тебе уже говорил, мама, что собираюсь жениться и жить вместе с женой.
– Она знает, что ты сделал?
– Нет.
– Лучше бы ты ее предупредил. Ее отец коп. Рано или поздно он раскопает твое криминальное досье.
– Досье больше нет. Я прошел комиссию психиатров, и меня признали способным вести нормальную жизнь. Но для этого мне необходимо, чтобы ты со мной поговорила, чтобы ты объяснилась, понимаешь?
– Чего ты от меня хочешь? Чтобы я объяснила тебе, почему ты урод? Такова жизнь, Эл. Некоторые рождаются нормальными людьми, некоторые – уродами. Ты можешь изображать хорошего человека, но навсегда останешься маленьким мальчиком, который отрубал головы котам своей матери; ты навсегда останешься подростком, который выстрелил в спины бабушки с дедушкой. Ты не виноват, Эл, ты таким родился. Ты не сопереживаешь другим людям. Чужая боль тебя не интересует, на мою боль тебе плевать. Ты знаешь, что я страдаю. Думаешь, я пью от большого счастья? Я пью, чтобы забыть о твоей бесчувственности по отношению ко мне. Ты не представляешь себе, сколько горя мне принес. Ты не представляешь, что значит для матери иметь сына преступника. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я прыгала от восторга и представляла тебя студентам? Ты, наверное, способен выжить, Эл, но не жить. Потому что ты потерял честь. Отец хочет с тобой общаться? Нет. Он вычеркнул тебя из жизни, стер тебя. Из-за тебя он даже не знает, что его старшая дочь мертва. Так о чем мне с тобой говорить?
Она села на стул и задумчиво откусила от сэндвича. Проглотила, печально посмотрела на меня:
– Единственный вопрос, который сейчас передо мной стоит: позволить ли наивной девушке, воспринимающей тебя как рыцаря-великана, разрушить свою жизнь? С моей стороны это было бы безответственно. Если что-нибудь произойдет, правосудие может призвать меня к ответу, Эл. Это логично.
Она выбросила остатки сэндвича в мусорное ведро под столом.
– Я пока точно не решила, что буду делать. Может, промолчу. В любом случае в твоих интересах оставить меня в покое.
Не думал, что гнев способен пропитать человека до кончиков волос, однако именно это со мной и случилось. В меня словно проник злой дух, который хотел уничтожить всё вокруг себя – комнату, здание, факультет – и оставить лишь расщепленную на атомы пустоту. Впрочем, гнев не завладел моим сознанием полностью и, как всегда, испарился. Мать вернулась к работе.
Примерно четверть часа я приводил себя в порядок, прежде чем сесть за руль. Я открыл бутылку вина и выпил ее залпом. Лучше мне не стало, но выпивать вторую бутылку я не хотел. По дороге я ехал медленно, слушал радио, чтобы отвлечься. Мужик с мягким высоким голосом пел песню с дурацким припевом: «Лучше быть чертом, чем парнем этой ведьмы». В конце ведущий произнес имя певца: Скип Джеймс. Затем настала очередь рекламы: «А вы уже попробовали новый дезодорант?» и так далее. Вечно люди что-нибудь продают и никого не уважают.
На меня снова накатило. Я знал, почему больше не сплю: мои фантазии отступили.
62
Покидая университет, оказываешься на возвышенности Санта-Круса, откуда видна полоска океана и, если повезет, Монтерей. Там даже скамейку поставили, чтобы народ мог сидеть и любоваться пейзажем, но – странное дело! – от дороги скамейку отделяла колючая проволока. Именно в этом месте я остановился, чтобы подвезти двух девушек.
Я не знал, стоит ли, достаточно ли я спокоен, чтобы выслушивать пустую болтовню, но в итоге все-таки посмотрел на часы и пригласил подружек в салон. Они меня не боялись. Они пронзительно смеялись, так что у меня уши закладывало, и щебетали о своем, словно я в принципе не существовал. На склоне я резко затормозил. Обе девушки уткнулись носом кто во что. Казалось, до нас уже доносились звуки прибоя, хотя мы были в пяти или шести километрах от океана. Девушки не сильно ударились, зато сразу поняли, кто в машине хозяин. Я извинился.
– Простите, – сказал я, – когда у тебя размер обуви сорок девять, волей-неволей держишь ногу на тормозе постоянно.
Девушки поверили и сразу притихли.
– Куда вас отвезти?
Они ехали в Эптос. Я сказал, что тоже там живу. Они не знали, где находится мой дом, но какая разница? Я сказал, мне еще надо кое-что купить. А именно: проигрыватель и пластинку. Девушки поддержали меня с большим энтузиазмом и пообещали показать пару магазинов на выезде из Санта-Круса.
Меня приняли за электрика, и я почему-то обиделся, хотя электриком работал мой отец. Когда я объявил, что я полицейский, подружки извинились, но я понял, что им по барабану. Продавец в магазине никак не мог отыскать Скипа Джеймса, но наконец выудил альбом тридцатых годов. Девушки постоянно смеялись над какой-то ерундой, словно таким образом пытались от чего-то отвлечься. Пища и визжа, они снова забрались в машину. Мы направились к Эптосу.
63
К матери я вернулся лишь на следующий вечер – с проигрывателем и с альбомом Скипа Джеймса. На моем месте стояла машина Салли Энфилд – пришлось припарковаться перед ней. Я поднялся на второй этаж, чтобы немного отдохнуть. До меня доносились привычные пьяные разговоры, в которые я не очень вслушивался. Я хотел спать. И только.
Меня охватила тревога – и возникло беспричинное желание заплакать. Мое тело словно весило тонну, и я отслеживал каждый свой вздох, чтобы не забывать наполнять легкие. Никогда я не чувствовал такой усталости. Я взял конверт пластинки и посмотрел на фотографию Скипа Джеймса. Никогда не думал, что музыка и тем более черный музыкант могут произвести на меня впечатление. Чернокожих музыкантов я видел в основном в Лос-Анджелесе, когда жил у отца. Впрочем, я не имел ничего против негров. Мой отец говорил: «Блюз – это душа, которая отдыхает». Теперь я понимал смысл этих слов. Следовательно, мать ошибалась, и на самом деле я умел сочувствовать другим людям. А вот мать не жалела никого.
Я уснул на полчаса, затем меня разбудил хохот окончательно нажравшихся теток. От алкоголя и сигарет у них сели связки, и хрипотца звучала зловеще. Я включил проигрыватель и прослушал Скипа в первый раз, затем во второй, сделал громче, еще громче и наконец врубил на полную мощность. Хохот внезапно прекратился. Тетки стучали по потолку шваброй. Мать вопила. Тогда я спустился вниз. Увидел дверь, запертую на ключ. Постучался. Никто не ответил. Я постучался сильнее. В отчаянии я пробил кулаком деревянную дверь и повернул ключ. Тетки стояли посреди гостиной с бокалами в руках, перед низким столиком, заваленным бутылками.
– Что тебе надо, Эл? Не видишь, я с друзьями?
Я внимательно поглядел на Салли.
– Я прекрасно знаю твою жалкую подружку.
Указав на нее пальцем, я продолжил:
– Ее ничтожная жизнь ничего не стоит. Когда Салли Энфилд сдохнет, от нее ничего не останется, даже собаки, чтобы писать на могилу. И от тебя, мама, ничего не останется.
От ярости у матери исказилось лицо.
– Если ты сейчас же не уберешься, Эл, я вызову полицейских и всё им расскажу о твоем прошлом!
Вместо того чтобы убраться, я сел на диван и снова посмотрел на Салли Энфилд.
– Отправляйся спать, я дважды повторять не буду.
– Останься! – крикнула мать.
– Салли, что я тебе велел сделать? Семейные истории касаются лишь семьи, членов семьи, кровных родственников, а не приятельниц-алкоголичек. Убирайся отсюда, пока я не разозлился.
– Не двигайся с места, Салли! – крикнула мать.
Я продолжил мягким голосом:
– То, что я хочу тебе сказать, ее не касается. Если только ты не хочешь поделиться семейными тайнами.
Мать опустила руки, и Салли Энфилд направилась в свою комнату, как наказанный ребенок. Мать закурила длинную ментоловую сигарету и налила себе еще вина. Она явно не знала, как от меня отделаться.
– Ты больше никогда, никогда не будешь мною командовать, мама! Мы остались вдвоем – давай: говори! Я знаю: ты считаешь, тебе нечего сказать, но мне кажется, что если ты со мной поговоришь, то я смогу лучше тебя понять. О прощении я не говорю. Родителей не прощают в обмен на слова – родителей прощают, потому что они мама с папой. Поговори со мной.
Несколько секунд она молчала, пила вино маленькими глотками и затягивалась так сильно, что в ее легких, наверное, царила кромешная тьма. Челюсть и руки у нее ходили ходуном. Лед в стакане ударялся о стекло и позвякивал, словно погремушки.
– Почему ты не говоришь со мной о своем отце?
– Об отце? А что мне о нем сказать?
– Не знаю… Подумай.
– Я уже обо всем подумала.
– Однажды вечером в Монтане ты рассказывала папе о том, что твой отец трогал тебя и сестер.
Она расхохоталась.
– Я, наверное, тогда фантазировала, Эл. Мне так было проще. Иногда в отношениях проще выдумать драматичную ситуацию, чтобы всё уладить.
– Ты уверена, что отец не воспользовался тобой?
Она прыснула.
– Конечно, уверена. Мой отец был на такое не способен. Ты ошибаешься, Эл. Ничего подобного никогда не было. Клянусь могилой твоей умершей сестры.
По опыту общения в психиатрической больнице я знал, что, когда речь заходит о вещах, фундаментально важных для человека, он краснеет или бледнеет. Мать же оставалась стабильно пурпурной и, даже судя по жестикуляции, не врала.
– Просто поговори со мной.
Она посмотрела на меня, захохотала как безумная, потом внезапно замолчала и произнесла:
– Эл, не ищи в других людях того, что не дает покоя тебе самому.
Она повторила эти слова несколько раз, хоть и не слишком в них верила, затем обессилела, дошла, пошатываясь, до спальни и закрыла за собой дверь, даже не обернувшись, чтобы не встретиться со мной взглядом. Через секунду, когда я совсем не ждал подвоха, она приоткрыла дверь и произнесла:
– Я должна это прекратить, Эл. Я должна рассказать им о том, какой ты монстр. Если твоя девушка родит тебе ребенка, я этого не вынесу. Я не хочу быть виноватой в распространении зла на земле, понятно?
64
Сюзан вошла и расположилась в маленькой приемной. Эл опоздал. Он извинился:
– Я только что объяснял лицеистам из Сакраменто, почему надо выступать против огнестрельного оружия.
Он сел и протянул ноги так, чтобы не задеть Сюзан.
– Нельзя доверять оружие профанам. Но американцы не желают этого понимать. Без оружия они чувствуют себя словно обнаженными, во всей красе.
Он рассмеялся. Он был в хорошем настроении. Он вздохнул:
– Я вспоминал о нашем приключении в Тоумалесе. Когда вы оттуда уехали?
– Не очень скоро. Я влюбилась в одного типа из Миссисипи. Мне не нравилось, что он спал с другими девушками. Тед нас осуждал и в какой-то момент попросил покинуть сообщество, потому что мы превратились в дурацкую традиционную пару. Некоторые считали, что теория Теда объяснялась его желанием спать со всеми подряд. Я так не думаю. Он был искренне убежден в том, что возврат к традиционным практикам вернет нас к состоянию прежнего общества. Я встретила его через двадцать лет в Сан-Франциско. Мы немного поболтали. Он работал на «Эпл»[97]. И, кажется, успешно. Однако лицо его выражало горечь разочарования в нашем эксперименте. Вы записываете?
– Да. Я перехожу к последней части своей книги. И не знаю, как писать дальше. Я боюсь, что текст попадет в руки кого-нибудь, кто знал меня в прошлом. Могу ли я поговорить об этом с заинтересованным издателем?
– Им нужна законченная рукопись. Потом вы можете ее дорабатывать.
– Хорошо. Я только спрашиваю себя, насколько я могу быть верен реальности. Художественная литература – это реальность. Зачем людям читать, если не для того, чтобы заново чувствовать жизнь? Однако если перегрузить литературу реальностью, то произойдет непоправимое, потому что реальность на самом деле не есть реальность. Это история о яйце и курице. Я проходил комиссию психиатров ради условно-досрочного освобождения.
– И?
– Они снова признали меня совершенно нормальным и безопасным для общества. Но, невзирая на мое примерное поведение, директор тюрьмы не хочет меня выпускать. Он мне лично об этом сообщил. А я признался ему, что прошел комиссию для развлечения. На самом деле мне не очень хочется на свободу. Здесь меня, по крайней мере, кормят, дают крышу над головой – и уважают. Никто из заключенных ни разу не вел себя по отношению ко мне неуважительно. Кроме Макмаллана, назвавшего меня «китом-убийцей»: это мне не понравилось. Макмаллан – маленький тощий человечек, весит, наверное, килограммов пятьдесят пять. Однажды я встретил его в столовой, подошел к нему, аккуратно выдвинул его стул, сел к нему на колени и поставил свой поднос на его поднос. Я поел, никуда не торопясь. Макмаллан вышел из-за стола с фиолетовыми ногами – зато больше никогда не обзывался.
Он улыбнулся и продолжил:
– Мне немного скучно. У меня в жизни нет никакого личного опыта. Это грустно, но это так. Да и как может быть иначе? Это бессмысленно. Итак, стало быть, страна на грани катастрофы?
– Так говорят.
– Мы тратим больше, чем зарабатываем? Здесь это невозможно. В кредит ничего не дают, разве что смерть. Ни денег, ни дружбы, ни любви. Ничего. Я хотел бы чего-то желать. Наказание за удовлетворение желаний – отсутствие любых желаний. Желание – странная штука. Вы до сих пор спите со всеми подряд?
Сюзан покраснела, как робкая пастушка.
– Единственный, с кем я хотела бы спать, вы.
Эл прыснул.
– Даже если бы меня выпустили из тюрьмы, я бы с вами не переспал. Черт побери, даже бывшие заключенные не заслуживают в постели таких уродин, черт!
Сюзан сделала скорбное выражение лица и зарыдала.
– Иногда вы можете быть очень злым.
– Я не злой, Сюзан, – я над вами прикалываюсь.
65
Стояло субботнее утро. Субботним утром сосед всегда готовился к выходу в океан. Его лодка больше напоминала ванну, чем яхту, но денег на приличное судно у него, по-видимому, не было. Он как проклятый проводил в океане целый день, и я задумывался над тем, как он умудряется не потонуть на своем спичечном коробке. Мы никогда не разговаривали. Чем прогрессивнее экономика, тем меньше соседи общаются. Распространенное мнение. В тот день я особенно не хотел ни с кем говорить. Я вышел из дому и захлопнул за собой дверь. Сосед проверял, надежно ли закреплена лодка на прицепе и хорошо ли прикреплен тот к машине. Подобные приключения были ему явно уже не по возрасту.
– Такие приключения мне уже не по возрасту, – сказал он.
Он ждал, что я кивну или опровергну его мысль. Мое молчание его удивило, и я понял: он жалеет, что обратился ко мне. Я понял: он знает, что я сын Корнелл Кеннер – тот самый, который убил своих бабушку с дедушкой. Моя мать этим хвасталась всем подряд. Я даже примерно представляю себе, когда мать впервые меня выдала: с тех пор взгляды соседей изменились. Он продолжал:
– Я боюсь достичь такого возраста, когда ни на что не буду способен! Ох! Я никогда не отплываю очень далеко, но туман сгущается так быстро. В прошлом году я чуть не умер: туман заполонил всё вокруг, и уровень воды поднялся.
Я не собирался с ним разговаривать. Когда я сел в машину, он смущенно произнес:
– Передавайте от меня привет своей матушке.
– Считайте, что уже передал, – ответил я, не задумываясь. Он встал как вкопанный, а я наконец сдвинулся с места.
66
Никогда в жизни я не чувствовал такой усталости. Я проглотил две капсулы с кофеином и поехал на север. В голове гудело. Я чувствовал, что вот-вот взорвусь. Ноги каменели, кровь кипела. На дороге сто один я встроился в левый ряд. Нервы настолько не поддавались контролю, что у меня как будто исчезли всякие рефлексы. Я знал: если кто-нибудь попадет под колеса – затормозить не успею. Хорошо, что на спусках машина не разгонялась быстрее ста тридцати километров в час. Я представлял себе, как врежусь в зад какому-нибудь грузовику с полуприцепом, полным цыплят из Миннесоты. Гнев не проходил, словно температура у ребенка, больного менингитом, – и ничего не помогало. Я должен был разбиться вдребезги и сломать себе шею. В глазах водителей, которых я обгонял, был ужас: они тоже знали, что я разобьюсь.
Между Сакраменто и Сан-Франциско, около Вакавилля – города, в котором, благодаря исправительной колонии, заключенных больше, чем свободных граждан, – я понял, что копы меня остановят и помешают планам, которые я еще толком даже не обдумал. Через какое-то время я припарковал машину. Я чувствовал себя крайне перевозбужденным. Я вошел в кафе на заправке и выпил литр кофе. Затем провел около четверти часа в женском туалете, подставив голову под холодную воду. Одна из дамочек на меня накричала, однако пожалела об этом, когда я поднял на нее глаза. Я выпил еще литр кофе, а затем подумал – не угнать ли мне кабриолет? Чтобы мозги проветрить. Моя маниакальность меня пугала. Я мечтал мчаться со скоростью света, обгоняя ветер, чтобы не уснуть.
Около часа я провел в пригороде Вакавилля в поисках подходящей машины. У тротуара кто-то оставил «Мустанг»[98] – кабриолет 1967 года с крытым верхом. Завел я его за две минуты. Я вернулся к своей машине забрать вещи – точнее, девятимиллиметровый револьвер и веревку. Проверяя, ничего ли я не забыл, я нашел в салоне пачку контрацептивов. На всякий случай я взял ее с собой. Мне страшно повезло, поскольку водитель оставил в бардачке все необходимые документы. Однако я решил ехать медленно и не привлекать к себе внимания.
Сев за руль, я понял, что ехать придется с открытым верхом: иначе голова продавит крышу и автомобиль превратится в одногорбого верблюда. Видимо, изначально не предполагалось, что парень моего роста будет водить такую машинку. Верх я сложил в два счета, однако на этом мои проблемы не закончились. Верх ветрового стекла находился прямо на уровне моих глаз. Сесть ниже я не мог, поэтому пришлось вытянуть шею, чтобы видеть поверх ветрового стекла. Мелкие заботы меня развлекали.
Я поехал по дороге сто один. Пошел дождь, и его капли смешались с моими слезами. Я думал об отце. Всё бы отдал, чтобы его найти. Почему он не связывался со мной? В детстве я был его любимчиком. Он называл меня «малыш», и я ходил в его огромных ботинках, топая по полу. Господи, как я плакал, как я мечтал начать всё с самого начала, с нуля, с чистого листа, стереть прошлое. Он не должен был бросать меня. Я не заслуживал этого. Я знал, что сказал бы, если бы отец позволил мне объясниться. Нет, я не сумасшедший. Нет, у меня нет психоза. У меня просто не оказалось выбора: я совершил ужасные поступки именно из страха безумия. Я всегда удерживал себя на грани безумия и нормальности, я достаточно силен. Не просите у меня невозможного, ребята: не просите парня, который вот-вот сойдет с ума, не защищаться от безумия.
Дождь усиливался. Тяжелые капли падали на мои очки, я видел всё сквозь завесу, словно в болоте, покрытом кувшинками. Я не собирался умирать прямо там, поэтому перестроился в правый ряд и слегка сбавил скорость, хоть и не остановился. Если бы я умер, никто ничего не понял бы в этой истории – и тогда моя жизнь ничего не стоила бы. Я не мог смириться с подобным положением дел. И, однако, мне хотелось пустить себе пулю в лоб, положить конец этой ничтожной жалкой жизни и страданиям. Где мое счастье? Кто знает? Поскольку счастье мне не светило, я изобретал разные ходы и выходы. Странные, согласен, но каждый делает то, что в его силах. Черт! Вовремя остановился. Вовремя – даже если слишком поздно. Слишком поздно не для всех. Никто меня не остановил. Кто меня остановил, а? Никто. Я остановился сам, потому что это позволил мой интеллект. Не зря же у меня IQ выше, чем у Эйнштейна. Часть мозга, отвечающую за эмоции, уничтожили. Это точно. Но я пока еще способен самостоятельно мыслить.
Дождь усиливался. Я перестал протирать очки. Я ориентировался на фары грузовиков впереди меня. Люди из других машин смотрели на меня с изумлением. Я играл в супергероя, которому непогода нипочем. Моя рубашка слилась с моей кожей. Уснуть мне уже не грозило – остальное не важно. В конце концов я остановился, чтобы выпить еще кофе.
67
Я попросил крепкого кофе. С меня стекала вода, официантка наблюдала за мной молча. Она предложила мне салфетку за четверть доллара: своих у нее не осталось. С моих долларов тоже стекала вода. Я обессилел. После того как я высушил волосы, официантка сказала, что узнаёт меня: она обслуживала меня сутки назад. Видимо, я тоже должен был узнать девушку, но, хоть я уже и захаживал в заведение, лиц не помнил.
Я выпил кофе и отправился восвояси. Дождь кончился. Я сел в «Мустанг» и разрыдался. Я звал отца. Я хотел, чтобы он забрал меня, отвез домой; я давился слезами. Вдруг слезы кончились, подобно дождю. Я поехал дальше; денег оставалось ровно на то, чтобы завершить путешествие. Разумеется, при помощи револьвера я мог обеспечить себя чем угодно, но я же не мелкий бандит!
Проезжая Юрику[99], я снова захотел пустить себе пулю в лоб и достойно прервать недостойную жизнь. Я никогда не чувствовал себя ее хозяином, это правда, – зато отлично помню, сколько потратил сил, чтобы изгнать дурные мысли. А ведь достаточно было всего одного поступка – и они отступили бы. Одного-единственного поступка. Я совершил его. Слишком поздно. Мой интеллект преподал мне урок. Мозг Эйнштейна непригоден для простых уравнений. Меня преследуют сожаления. Я не жалею о том, что сделал. В этом моя мать оказалась права: я не сочувствую другим людям. Поэтому мое зло для меня лишь теоретическое зло. Меня не волновала боль, которую я причинял. А в грехах, которые не волнуют, нельзя раскаяться, о них можно сожалеть, но не рыдать до конца дней. И, разумеется, можно себя простить – но лишь перед смертью.
Не все люди умеют сочувствовать. Политики и военные, например, не умеют, но никто их в этом не упрекает. Власть принадлежит безжалостным мужчинам и женщинам. В какой-то степени они мои братья и сестры, и если присмотреться внимательно, то оправдания у нас одинаковые. Я тоже хотел признания тысяч людей. Я тоже хотел привлечь к себе внимание, хоть я и не самовлюбленный извращенец. И даже не просто не извращенец. У меня извращенные способы самообороны. Которую я скоро сниму. И когда я достигну младенческой девственности в своем сознании, я умру. Меня убьют. Они должны меня убить. На их месте я бы так и поступил, поэтому с самого начала пути я борюсь с возможностью подавления своего дьявольского ума. Чтобы доставить такое удовольствие им. Но они не смогут меня казнить, прежде чем я объяснюсь. Общество должно раз и навсегда понять, что я не родился убийцей.
68
На подъезде к «Дороге Великанов» я снова чертыхнулся: только у меня высохла рубашка, как снова пошел дождь. Меня достали непрекращающийся дождь и непредсказуемость погоды, меня достало мокнуть, никакого шарма я в этом не видел. Внизу, у дороги, меня манила автозаправка. Я залил топливо: «Мустанг» оказался весьма прожорлив. Меня обслужил пожилой мужик. Его жена стояла у прилавка; она держала небольшое кафе, где подавали несколько горячих блюд. Старикам давно пора было на пенсию, но, наверное, они не могли прокормить себя иначе.
Я заказал кофе и яичницу из шести яиц с беконом. Хозяйка отправилась на кухню. Входная дверь открылась, и передо мной возникла женщина лет тридцати. Под серым плащом виднелись красивые длинные ноги, их грацию выгодно подчеркивала мини-юбка. Женщина присела, достала сигареты и принялась нервно курить. Я чувствовал, что она хочет ко мне обратиться, но не решается. Я не обращал на нее особого внимания. Я смотрел на фритюрницу, на темное масло внутри, и чуть ли не падал от усталости.
– Вы на север едете?
Я не сразу ответил. Сперва повернулся к женщине.
– Да.
– Можете меня подвезти? Я еду в Юджин[100].
– Я тоже еду в Орегон, но планирую остановиться после границы, в Голд-Биче.
– Ничего, мне подойдет, если вы согласны.
– Да, но есть небольшая проблема. Я на кабриолете и не закрываю верх из-за своего роста – так что, если дождь, комфорт не гарантирую.
– Тогда зачем вы купили кабриолет?
– Я его не купил, а угнал. Это как украсть ботинки в гардеробе стадиона: невозможно угадать, подойдет ли размер.
Я не повернул голову, чтобы увидеть реакцию.
Вернулась хозяйка. Картошка была еще горячая.
Девушка заказала пепси.
– Так вы меня отвезете?
– На ваш страх и риск. Я три дня не спал. Возможно, вам лучше было бы дождаться кого-нибудь другого.
– У меня нет времени. – Ее жизнь меня не интересовала, и об этом я ей сообщил сразу. – Хорошо, я вас отвезу, но я ничего не хочу о вас знать и не хочу чувствовать себя обязанным с вами разговаривать. Я высажу вас около Реддинга[101], если к тому времени мы еще будем живы.
Она вдруг засомневалась.
– Вы правда три дня не спали?
Я пожевал и ответил:
– Правда.
– Ладно, подожду кого-нибудь другого.
Я доел яичницу и сказал:
– У вас не такие проблемы, чтобы рисковать жизнью. Хорошо, что вы это осознали.
Я встал и подошел к кабриолету. Синее небо глядело на меня сверху довольно дерзко. Я поглядел на запад. Грозы не намечалось. Я сел в машину и в тот самый момент, когда собирался тронуться в путь, уснул. Видимо, я проспал около часа. Проснувшись, я увидел, что девушка стоит у машины с чемоданом; плащ она повязала вокруг талии.
– Ну вот, вы выспались. Теперь можете меня отвезти? – обратилась она ко мне, когда я открыл глаза.
– Теперь, после того как я выспался, я больше не хочу никуда вас везти, – сказал я и завел двигатель.
Я сорвался с места и полетел вихрем. Меня одолевали воспоминания, в висках стучала кровь. Сон меня совершенно не расслабил и не придал мне сил. Усталость продолжала на меня давить, как коровье вымя на новорожденного теленка. От оживленного движения на сто первой дороге у меня кружилась голова.
Я покинул трассу, чтобы ехать вдоль океана до Голд-Бича, который находится в устье Роуг-Ривер[102]. В Орегоне я очутился, не отдавая себе в этом отчета. Я не вынашивал план во что бы то ни стало сбежать из Калифорнии: для меня это не имело особого значения. Голд-Бич – последний город перед лесом. Около ста шестидесяти километров я проехал, мысленно не возвращаясь к своему решению. Я намеревался забраться в горы и пустить себе пулю в лоб у расколотого молнией дерева. Впрочем, антураж не так уж и важен: Голд-Бич тоже подойдет.
Серые облака окутала ночь, и темный тревожный океан слился с небосклоном. Пустынный широкий пляж, казалось, презирает городок, ничем не оправдывающий своего существования. Я увидел три мотеля, один – в ирландском стиле. Я подумал о Дигане. И о Венди. До того момента у меня не было ни времени, ни сил думать о них. Однажды Венди рассказала мне о своей матери. Когда у той обнаружили рак, она несколько дней не верила, что умрет. Она говорила Венди, что нет в жизни большего мучения, чем знать свой срок годности. Эта фраза всколыхнула столько воспоминаний об ужасах, мною сотворенных, что я в отчаянии вдавил педаль газа в пол. Чего я ждал?
Вдруг я понял, что обязан совершить хороший поступок. Никогда в жизни я не прятался. И даже если я обезумлю от чувства вины, которое атакует мой мозг, подобно опухоли, я должен сказать Дигану правду. Я обязан сказать ему правду. У него и без меня достаточно неприятностей. Я не такой гад, чтобы не объясниться с людьми, которые мне верили. Я не мог. Я действительно не мог молчать. Однако это решение отнюдь меня не успокоило, а, наоборот, взвинтило еще сильнее.
Вдоль Роуг-Ривер я проехал километров шестнадцать и остановился у подножия горы. Поблизости не обитало ни одной живой души, кроме старика, который держал единственную на многие километры заправку. Усталым водителям она являлась, словно Иисус паломникам. Домик у старика был крохотный. Точь-в-точь телефонная будка посреди эспланады. Вокруг, помимо хвойного леса, впадающей в океан реки и невнятных руин, ничто не отвлекало от глубоких мыслей.
Старик узнал меня. Славный беззубый товарищ видел меня уже в третий раз. Никогда не встречал большего жизнелюба. Он посещал винный клуб и очень гордился своей коллекцией бутылок. К несчастью, пиво он любил в сто раз больше. Но с удовольствием угощал вином клиентов, чтобы хоть как-то компенсировать запредельную цену на бензин.
– Видано ли, чтобы умирающий от жажды, который пешком прошел пустыню Мохаве[103], стал торговаться?
Он предложил мне выпить. Я опустошил бутылку вина, чтобы успокоиться. Старик вытащил вторую бутылку, шутя заметив, что, мол, наконец-то он освободит погреб. У него в легком нашли злокачественную опухоль, которую он заботливо подкармливал никотином вот уже пятьдесят лет.
– Не уверен, что буду здесь, когда ты вернешься в следующий раз. Меня хотят оперировать. Без операции я умру. Но мне нечем заплатить за операцию. То есть я умру либо от голода, либо от опухоли. Вот так всегда в жизни: сперва всё в порядке – а потом судьба устраивает тебе шах и мат. Я не жалуюсь. – Он откупорил вторую бутылку и понюхал пробку. – Это вино с каждым годом всё лучше, но кто будет его хранить? Если хочешь, забирай все бутылки. У меня нет семьи.
– Жаль, но я вряд ли смогу принять подарок.
– Почему же?
– Я долго не проживу.
Он посмотрел на меня изумленно.
– В твоем возрасте, парень, нельзя такое говорить.
Прежде чем удовлетворить любопытство старого, одинокого, скучающего человека, я поднялся:
– Телефон работает?
– Утром работал. Я видел: какой-то парень утром стоял с трубкой в руках и махал руками, словно пытался кого-то в чем-то убедить.
69
Буквально содрогаясь от страха, я дошел до телефонной будки и набрал номер. Втайне я надеялся, что связи нет. На другом конце провода раздались гудки, затем – я уже думал, что повешу трубку, – запыхавшийся женский голос ответил:
– Полиция Санта-Круса. Чем я могу помочь?
Видимо, тетка бежала к телефону от кофейного автомата.
Я попросил капитана Дигана.
– Он сегодня на звонки не отвечает, – ответил сладкий голос.
– Тогда соедините меня с дежурным офицером.
– Это будет лейтенант Карлссон.
Я помнил Карлссона – рыжеватого блондина, со слишком близко посаженными глазами. Время от времени он захаживал в бар «У присяжных», но не пил, просто боялся пропустить веселье. Я ему не очень нравился.
– С кем я разговариваю?