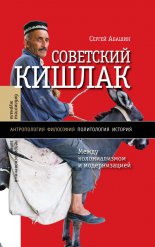Дорога великанов Дюген Марк

– Ты думаешь, что человек, убивший бабушку с дедушкой, способен однажды стать добропорядочным американским гражданином? – спросил он, презрительно на меня посмотрев. – Ты действительно так думаешь, сопляк?
Уверен, что, если бы я не был в наручниках, он не прибавил бы «сопляк». Однако я не сломался:
– У меня были причины так поступить.
– Вот поэтому ты псих. Ты считаешь, что у человека могут быть причины, чтобы убить бабушку с дедушкой. Тебя годами будут держать в лечебнице и учить раскаянию. Но проблема в том, что зло уже в тебе. Ты по ту сторону от нас – и теперь слишком поздно. – Он открыл окно и закурил. – Знаешь, я хотел бы верить в то, что тебя можно вылечить. Но душевнобольных не вылечивают. Если собака укусила ребенка, ты больше не доверяешь ей, хотя через минуту она уже трется носом о твои колени и виляет хвостом. Лучше сразу смириться. Ты перешел черту. Я бы тебя за это не убил. Но я никогда бы не выпустил тебя на свободу.
15
Мы ехали мимо поля, где паслись черные коровы. Издалека больница напоминала огромный свадебный торт на ярком разноцветном блюде или на пестрой скатерти. Сбоку крем слегка подтаял. Торт увеличивался в размерах по мере нашего к нему приближения, стены вокруг него – тоже. Я заметил ограду из колючей проволоки. Сторожевых башен не увидел, но в целом местечко производило впечатление чертовой тюряги. Меня встретили крепкие парни – медбратья. Отвели к какой-то даме, любезной, но жесткой. Медбратья стояли рядом, пока я заполнял бумаги и отвечал на вопросы. Я спросил, могут ли меня навещать. Дама сказала, что да, затем удрученно прибавила: мол, звонили отцу с матерью, предлагали им присутствовать при оформлении в больницу, однако ни он, ни она пока не желают об этом и слышать.
– Со временем острые углы сглаживаются. – Она попыталась меня успокоить. – Надо их понять. Ты не просто убил – ты убил членов своей семьи, родителей отца. Понадобится время, чтобы тебя снова приняли в семью. Возможно, психиатр захочет их увидеть – тогда им придется приехать. Но не думай пока об этом.
На прощание она мне улыбнулась. Конвой в лице медбратьев сопроводил меня в палату. Мы прошли около пятисот метров, не меньше. В этой больнице всё было высоким, длинным, узким. Коридоры тянулись, словно вечность. В секторе для обычных больных (не преступников) попадались пациенты, свободно разгуливавшие туда-сюда. Многие казались жертвами серьезных родовых травм: низкие выпуклые лбы, слишком большие, иногда конусообразные головы. При тусклом свете, еле просачивающемся сквозь крохотные высокие оконца без решеток, картина представлялась мне, мягко говоря, безрадостной. Ни один из пациентов на меня не взглянул. Все они витали где-то далеко, так далеко, что оттуда, наверное, не возвращаются. Одни мучились множеством нервных тиков; другие ступали, как курицы, разлагая каждый шаг на составные. Я никогда не причинил бы этим людям вреда, но человечество, страдающее «церебральным недержанием»[32], вызывало у меня тошноту.
Блок для преступников больше напоминал тюрьму, но там люди были похожи на людей. По крайней мере, те, кого я заметил. В этот послеобеденный час все сидели по своим палатам. Моя была узкой, как штанина. Пройти между кроватью и шкафом невозможно. Окно без решетки располагалось так высоко, что обычный человек не достал бы. Медбратья извинились, сказав, что никто не предупредил их о моем телосложении. Меня оставили одного на полчаса, затем перевели в более просторную палату, если просторным можно назвать помещение, где не ударяешься лбом о стены, когда хочешь развернуться. Выяснив, что сортир на улице, я понял, что лишать свободы меня здесь никто не собирается; впрочем, за исключением некоторых деталей, больница здорово напоминала тюрьму. Тем не менее в одиночной палате я усматривал некоторые плюсы. Как ни странно, обстановка мне нравилась. Я чувствовал себя спокойно. В окно, проделанное в двух метрах над полом, виднелась полоска пастбища вдалеке, стены и колючая проволока. Я лег на кровать и часа два тупо смотрел в потолок, ни о чем не думая, удивительным образом ощущая себя в безопасности.
Я не мог провести годы в этой больнице, свернувшись калачиком на постели. Я позвал охранника и показал ему, что кровать сантиметров на тридцать короче меня. Как я ни прилаживался, ноги всё равно утыкались в спинку. Охранник пообещал мне посмотреть в амбаре, нет ли подходящей койки. Я дождался ужина. Надел форму, предназначенную для самых опасных пациентов (сверток лежал на кровати), и покинул комнату, когда охранник под звуки горна открыл мне дверь. Каждый пациент должен был держаться на расстоянии от других.
В столовой все выстроились гуськом перед кипящими котлами с полужидкой пищей, которую можно есть без ножей. Я присел на свободное место. В тюрьме это делать рискованно. В тюрьме любое место обязательно принадлежит какому-нибудь парню или целой банде. Однако в больнице не чувствовалось ни малейшей агрессии. Никто никого не задирал, каждый смотрел невидящим взглядом. Никто не навязывал своих законов. Убийцы, которых заклеймили как душевнобольных, страшные индивидуалисты: они погружены в себя. Сейчас, имея за плечами огромный опыт, я бы даже назвал сотоварищей по лечебнице тревожными, весьма опасливыми. Прямое столкновение приводит их в ужас. Насилие осуществляется лишь при условии чрезвычайной слабости жертвы. Впрочем, тогда я об этом еще не подозревал. Да и откуда мне было знать? Пациенты украдкой на меня поглядывали, вот, пожалуй, и всё. Мои размеры их впечатляли. И даже не сами размеры, а то, каков этот великан в действии.
Все заключенные, садившиеся возле меня, хотели показать, что я им до лампочки. Кроме одного типа лет пятидесяти, который очень выделялся на фоне остальных своим удивительно благородным утонченным лицом. Он несколько раз мне бегло улыбнулся и подмигнул, словно мы с ним заодно. Но в чем? Я не знал. Я предположил, что мужик, вероятно, гей, хоть я и не похож на мальчиков, о которых обычно мечтают геи. Среди прочих я приметил двоих парней жутковатого вида. Один мужик, тоже лет пятидесяти, смесь вождя краснокожих и какого-нибудь ирландского дальнобойщика, поражал размерами своей головы (любой шляпник умер бы на месте) и безумным взглядом длинных черных глаз (расходящееся косоглазие сыграло свою роль в завершении образа).
Кормили нормально. Лучше, чем в тюрьме, – хотя, наверное, хуже, чем в тюрьме, не бывает. Никто со мной не разговаривал, но я чувствовал, что многие сгорали от любопытства: для своего возраста я слишком быстро попал в психушку да еще в блок для особо опасных преступников. Передо мной уселся тощий парнишка, уродливый до такой степени, словно небеса над ним поглумились. Его тело ходило ходуном, а лицо искажала гримаса. Примерно каждые полминуты он скалился, как дикий зверь. Судя по лысине, волос у него не было никогда. Что-то явно препятствовало их росту. Парень хотел со мной заговорить, но у него не получалось. После каждой неудачной попытки он вытирал лоб. Слюни в уголках его губ вызвали у меня тошноту, я уставился в свою тарелку, чтобы спокойно доесть ужин.
Когда я не хочу на кого-то смотреть, я поднимаю голову и нахожу точку, на которой сосредотачиваюсь. Это мое преимущество. Пользуясь военной метафорой отца, скажу, что я отыскиваю воздушный коридор, где скрываюсь от обстрела. Отец всегда так делал, он тоже отличался немалым ростом. Я даже наблюдал за ним во время этого занятия, когда мать принималась орать как умалишенная. Он стоял, опершись спиной о стену, сложив руки на груди и глядя в никуда.
Я злился на то, что после ареста он ни разу со мной не говорил. С матерью всё иначе: она, наверное, и правда в ярости. Она не хотела приехать, потому что пришлось бы объяснять коллегам, куда и зачем. Я даже не уверен, что она сказала моим сестрам. А если и сказала – представляю себе разговорчик. Толстушки возвращаются домой, одна – с работы, другая – из школы. Мать садится чистить картошку. На горячей сковороде стрекочет масло. Дочери здороваются с матерью. Без объятий. В гостиной сидит новый мамин мужик. Читает газету. Он в тапочках. Ему жарко. Но без тапочек мать не пустила бы его на свою территорию. Не могу его описать, я уже уехал, когда он занял место отца.
Недолго мать страдала. Ей надо трахаться как минимум два раза в день. При этом на мужчину она даже не смотрит. Такой вывод я сделал, проанализировав факты, собранные за четырнадцать лет жизни в комнате прямо под спальней родителей. Особенно мать любит бросить в лицо мужику, который только что увидел рай, фразочку типа: «я не кончила», «ты не умеешь доставить женщине удовольствие», «в постели ты полный ноль» и тому подобное. Тогда мужику не остается ничего, кроме как начать заново.
Короче, представляю, как приходят домой мои сестры, и мать, не поднимая головы, сообщает им: «Ваш брат убил бабушку с дедушкой». Младшая сестра, у которой мозг размером с горошину, наверняка спросила бы: «Каких?» Хотя она прекрасно понимает, что мамины родители давно умерли и мы их никогда не знали. А старшая сестра – вижу, как наяву! – сказала бы: «Вот придурок!» и при этом ни на секунду не перестала бы рыться в холодильнике в поисках какой-нибудь дрянной закуски. Утолив голод, она тут же забыла бы о стариках. Она в принципе лишена эмоций и, по-моему, страдает гипомнезией[33]. Я никогда не видел ее ни веселой, ни грустной. Даже когда она злится, чувствуешь, что она себя заставляет, что для нее это неестественно. Доброта требует слишком сильного интеллектуального напряжения. Сестра не схватывает общий смысл понятия и не способна воспроизвести соответствующий тип поведения.
После ужина мы строем отправились в палаты. Охранник запер меня на засов. Я спросил у него, где можно взять что-нибудь почитать. Он ответил, что в виде исключения вместе с моими лекарствами принесет мне журнал, а доступ к библиотеке я буду иметь со следующего дня. И журнал, и лекарства я получил через полчаса. Я даже не спросил, от какой болезни лекарства. Видимо, от болезни, которая заставила меня убить бабушку с дедушкой. Снотворное подействовало быстро. Я добрался до третьей страницы журнала и теперь с наслаждением пожирал глазами задницу Мэрилин Монро, умершей почти два года назад (что, впрочем, не отразилось на ее притягательности), когда почувствовал, что глаза слипаются сами собой. Давнишние сексуальные фантазии пришлось отложить на потом, я провалился в сон и впервые в жизни проспал всю ночь без единого кошмара.
Проснулся без сил. Тем не менее перед завтраком сообразил вырезать фотографию Монро и повесить в шкаф. Завтрак прошел еще тише, чем ужин, хотя некоторые пациенты вели себя подобно заведенным игрушкам. Кое-кто снова принялся на меня таращиться. Мой возраст всех интриговал. Я был самым молодым из всех и приехал издалека. После кофе и вонючей плюшки меня отвели обратно в комнату, чтобы я подготовился к первой встрече с психиатром. Но я почему-то уснул, да с такой легкостью, словно не спал годами. Медбрат разбудил меня, и я, пошатываясь, добрел до кабинета, напоминающего комнату для допросов, с большим стеклом, через которое персонал наблюдает за безопасностью врача. На какое-то время меня оставили одного, и я снова уснул, положив голову на стол. Мои руки болтались по бокам безо всякой опоры. Вскоре медбрат разбудил меня в очередной раз.
16
Психиатр вошел в кабинет и любезно предложил мне присесть. Я ответил, что вообще-то уже сижу. Он улыбнулся.
– Мы не всегда будем общаться в этой комнате. Это просто проверка на первый раз. Я уверен, что ты будешь вести себя хорошо.
Я сразу же ощутил к себе благосклонное отношение. Благосклонность – то самое слово. Он пристально на меня посмотрел, пытаясь разглядеть за толстыми стеклами мои глаза.
– С тобой случилось страшное. Мы постараемся в тебе что-то исправить. Чтобы однажды ты мог выйти отсюда. Ведь ты хочешь этого?
Голова соображала медленно.
– Чего я должен хотеть?
Он снова улыбнулся.
– Выйти отсюда. Ты хочешь этого?
Я засомневался.
– Пока не знаю.
– Ты хочешь вернуться к жизни, которую ведут нормальные молодые люди твоего возраста?
Я понял, к чему он клонит.
– Мне кажется, вы не знаете, какой жизнью живут так называемые «нормальные люди». Я действительно хочу выйти отсюда. Но не для того, чтобы стать придурком вроде других.
– Эл, в досье сказано о твоем выдающемся интеллекте. Буду с тобой откровенен: мне никогда не встречались пациенты с таким интеллектом. Я впечатлен. Постараюсь быть на высоте. – Помолчав, он добавил: – Я очень рад, что буду с тобой работать. Однако должен тебе сказать, что интеллект ничего не стоит, если человек лишен гибкости. В данный момент твой интеллект для тебя обуза, потому что он зашкаливает и ты не умеешь им управлять. Ты выйдешь отсюда, когда комиссия сочтет, что ты больше не представляешь угрозы ни для общества, ни для себя и что гибкость ума позволяет тебе адаптироваться к разным жизненным ситуациям.
– Но я не представляю опасности для общества. Я замочил бабушку, потому что она не давала мне дышать, и к тому же я считал ее виноватой перед отцом. Что касается дедушки…
– Всё это мне известно. Ты сейчас убеждаешь меня в том, что несешь ответственность за свои поступки. Я не хочу этого слышать. Особенно после того, как ты заявил, что не уверен в своем желании выходить отсюда. Мы с тобой должны разобраться в твоих противоречиях. Будем разговаривать каждое утро. А после обеда будешь работать вместе с другими заключенными. Через несколько недель, если я сочту возможным, тебе позволят продолжать учебу. Расскажи, что тебя интересует, какие у тебя хобби.
Такие, как я, не сразу отвечают на подобные вопросы. Он почувствовал мои сомнения.
– Мотоцикл. Люблю мчаться, подставив лицо ветру. Но это когда со мной всё в порядке. А вообще я любил стрелять. Теперь, наверное, не получится…
– Наверное. Что еще?
– Больше ничего.
– Нет ничего, что бы тебя интересовало?
– Как вам объяснить? Всякий раз, когда меня что-то интересует, я от этого устаю, потому что меня одолевают дурные мысли. Эти мысли берут верх над любым увлечением и мешают мне идти вперед.
– Понятно. Мы об этом поговорим. То есть ты не в силах дочитать книгу до конца, да?
– Да.
– Давай заключим сделку. Ты возьмешь в библиотеке книгу и будешь заставлять себя читать каждый день, не думая ни о чем другом. Десять, двадцать страниц – сколько сможешь. Ты будешь стараться отгонять от себя дурные мысли. И ты выйдешь отсюда, когда убедишь врачей в том, что сам решаешь, о чем тебе думать. Понятно?
– Да.
Я сгорал от любопытства и не мог не задать вопрос:
– А что такое параноидальная шизофрения?
Доктор посмотрел на меня и почесал подбородок.
– Почему ты спрашиваешь?
– Судебный эксперт сказал, что я болен этим…
– А, всё ясно. Не думай об этом. Это жаргон психиатров. Никто точно не может сформулировать определение шизофрении. В общих чертах, шизофрения – это ненормальное поведение, несколько особенных болезней. Однако большинство убийц нормальные люди. Может быть, и ты нормальный, Эл?
– Если я нормальный, то меня стоит отправить обратно в тюрьму?
Он понял, что тюрьма меня не пугает.
– О нет, мой мальчик. Ты не улавливаешь всех тонкостей системы. Если бы тебя признали нормальным, тогда тюрьма грозила бы тебе пожизненно. Но если ты станешь нормальным после больницы, это будет означать, что тебя излечили. И позволь мне дать тебе совет: держись подальше от других, старайся с ними не связываться. Они могут тебя опустошить – и ничего не дадут взамен.
Он поднялся и дружески похлопал меня по плечу.
– Увидимся завтра. В моем кабинете.
Прошу прощения, я забыл описать врача. Так со мной всегда: внешний вид людей для меня не играет особой роли. Чаще всего, глядя на них, я их не вижу, зато представляю их отношение к себе. У Лейтнера были ярко-голубые глаза и квадратные очки в черной оправе. С годами его глаза не утратили блеска. Лет ему, на вид, было около сорока. Он не волок на себе все страдания рода человеческого. Не занимался чужими проблемами, чтобы почувствовать себя лучше. Он казался объективно мыслящим оптимистом. Наверное, за пределами больницы вел нормальную жизнь. Любил спортивные машины, любил скорость, мчаться вдоль океана. Правда, не знаю, мог ли он позволить себе спортивную машину. Мне сложно сказать, что я почувствовал после нашей первой встречи. Обычно я ничего не чувствую. А иногда человек мне не нравится, потому что я инстинктивно чувствую угрозу. Многих я презирал, видя, насколько они уступают мне в интеллектуальном развитии. Доктор Лейтнер не желал мне зла.
Я пошел в библиотеку. Она не отличалась от остальных зданий: длинных, узких, высоких. Мне интересно, о чем думал архитектор, рисуя проект больницы. За две секунды я понял, что библиотекарь на своем месте давно и навсегда. Мне вдруг стало страшно от мысли, что психиатрия не точная наука и вылечить удается не всех. Я вообразил себя через пятьдесят лет – бледным, заросшим, истосковавшимся по свободе. Я отчаянно надеялся на то, что Лейтнер все-таки профессионал. Медбрат, который меня сопровождал, обратился к библиотекарю по фамилии, поприветствовал его, однако тот не ответил. Тот вынимал из коробок книги и складывал их в две стопки. Одну книгу никак не мог пристроить. Спросил у меня, что я хочу почитать, внимательно оглядел мою форму, понял, что я преступник, поправил очки и отправился в путешествие вдоль полок. Вернулся с экземпляром «Преступления и наказания» и положил книгу передо мной, словно хороший бакалейщик, отыскавший нужную приправу.
Почему люди пишут? Часто из глухого тщеславия. Люди гордятся своим горем и хотят разделить его с человечеством, потому что ноша слишком тяжела. Думаю, еще люди пишут, когда не находят поддержки у семьи: тогда семья, в какой-то степени, источник всех несчастий. А читатели дают иллюзию духовной близости в дышащем пространстве, а не в тесном кругу семьи. Иногда пишут с целью оставить о себе память. Но чем жизни писателей лучше жизней других? Порой книга от издателя сразу же попадает в объятия скуки, а то и на помойку. Я знаю, почему я пишу. Я просто хочу догнать поезд человечества.
Достоевский тот еще фрукт. Я лег на узкую кровать, которая мне не по размеру. И погрузился в Достоевского. Я осилил около двадцати страниц, прежде чем пришли дурные мысли. В смятении я провожу часы, не замечая времени. Иногда всё заканчивается сильнейшим оргазмом. Иногда я засыпаю, воображая удовольствия, которые мог бы ощутить.
17
Лейтнер хорошо смотрелся бы в правительстве, среди людей президента Кеннеди. Он выглядел уверенным, в меру расслабленным, в модных очках. Глядя ему в глаза, невозможно было усомниться в том, что демократы спасут мир. Бежевая легкая куртка «Баракута»[34] придавала облику спортивности. Короче, доктор Лейтнер был членом того самого племени, которое мой отец ненавидел еще со времен операции в заливе Свиней[35]. Мой отец так и не простил им предательства, когда они оставили своих товарищей из спецподразделения подыхать на кубинском пляже лишь потому, что кому-то во время высадки не хватило смелости попросить помощи у авиабригады. Отец говорил, что не припомнит подобных подстав со стороны властей за всё время своей военной службы. Позже этот богач, вальяжно развалившийся в Овальном кабинете с сигарой в зубах[36], дорого заплатил за свое решение и за каждую жертву! Так мой отец рассуждал за покером со своими друзьями по армии, выжившими и оставшимися в Хелене после демобилизации. Разумеется, трое из них соглашались с ним и от души честили сволочного президента, предрекая ему адовы муки.
В первые месяцы терапии Лейтнер совсем не говорил со мной о бабушке с дедушкой. А когда я упоминал о них, слушал меня с отсутствующим видом, словно речь шла о чем-то второстепенном. Ни смерть моих стариков, ни ее обстоятельства дока не интересовали. На первом сеансе он установил правила игры. Спросил, люблю ли я шахматы. Дедушка научил меня базовым ходам; вряд ли можно сказать, что я его отблагодарил, прострелив спину и голову, но что было, то было.
Воспоминание о дедушке и шахматах привело меня в крайне неустойчивое эмоциональное состояние. Я сказал Лейтнеру, что сожалею об убийстве. Док сделал исключение и спросил, сочувствую ли я дедушке. Я не очень понимал, что такое сочувствие. Лейтнер объяснил, что это способность поставить себя на место другого человека и понять, что он чувствует. Вопрос меня удивил. Как я мог поставить себя на место дедушки? Как можно поставить себя на место трупа? Десятую долю секунды до выстрела дедушка был дедушкой. Просто стариком, который выгружал из машины продукты. О чем он думал? Скорее всего, он думал: «Не забыл ли я чего-нибудь по списку, который жена составила? А то она будет орать. Хотя она в любом случае будет орать, криком обозначая свою территорию». Возможно, он думал о вкусном обеде, о том, как откроет бутылочку своего любимого пива, или о том, как вечером будет работать в саду. Он также мог думать обо мне, о том, что мой отец, произведя меня на свет, не преподнес ему подарок, или о том, что бабушка со мной слишком сурова и надо ей об этом сказать, но страшно ей об этом говорить, совать нос не в свои дела: ведь старуха не ровён час отравит вечерние часы отдыха, часы пенсионного блаженства. А через десятую долю секунды дедушка, погруженный в раздумья, уже не дедушка. Он ничто. Мертвец.
Я спросил у Лейтнера, где тут место сочувствию. Сочувствуют лишь тому, кто знает, что умрет. Мой отец говорил, что видеть смерть друзей легче, чем видеть их предсмертные муки: «Клянусь тебе, Эл, они взглядом звали на помощь свою мать! Словно потерявшиеся дети». Однако между последней мыслью дедушки и его смертью не прошло и секунды.
Я победил Лейтнера, он замолчал. Только поставил между нами на табурет шахматную доску. Я воспользовался минуткой и спросил о его планах на выходные. Док засомневался, стоит ли отвечать пациенту на личные вопросы. Впрочем, молчание длилось недолго:
– Я купил себе «Харли» пятьдесят седьмого года – и собираюсь задать ему жару.
Я не верил своим ушам. Док понял, что произвел впечатление.
– А какая модель?
– XL Sportster [37].
– Какого цвета?
– Кремовый с золотым. Матовый. Объем двигателя – девятьсот кубических сантиметров. Трансмиссия встроена в картер.
Он почувствовал, что я в шоке.
– Ты воодушевлен?
Я подумал и предложил другое определение:
– Заинтересован. Но не воодушевлен. Когда человек воодушевлен, что-то влияет на его эмоции, занимает его долгое время. А меня ничто не занимает долгое время. Я тяжеловес, быстро выдыхаюсь. Сейчас я рад обсудить с вами мотоцикл, но если бы дискуссия продолжалась, я бы устал и отвлекся. Понимаете?
– Да.
Тем не менее я рассказал ему о своих недавних приключениях с новым мотоциклом. И о мотоцикле, который отец перевез из Форта Харрисон[38] в Хелену еще до конца войны. Одноцилиндровый мотоцикл тридцать четвертого года. Я добавил, что хотел бы забрать старый мотоцикл, когда выйду из больницы, не говоря уж о новеньком, который постепенно покрывается плесенью в полицейском гараже. Я даже окончательно осмелел и спросил, не может ли док забрать мой мотоцикл, поскольку мне больше некого попросить. Он решил, что это неоднозначная просьба, но обещал подумать.
Мы долго обсуждали мотоциклы и дальние дали. Я признался, что мне не хватает и того, и другого; но самое грустное – обидное до слез – заключается в том, что взаперти, в больнице, мне лучше. Я рассказал о том, как в возрасте одиннадцати или двенадцати лет работал помощником кузнеца на ранчо в тридцати двух километрах от Хелены; мать меня заставила. Лошадиные копыта, как женские руки, многое говорят об их обладателе. Док тоже кое-что знал о лошадях: его дедушка держал нескольких для состязаний в коротких забегах на севере Калифорнии, рядом с Маунт-Шастой, – там, где я обменял машину-развалюху на прекрасный байк «Индиан».
Вслух я заметил, что у меня с доком много общего. Разумеется, док не убивал своих бабушку с дедушкой и не страдал психическим расстройством. Судя по обручальному кольцу, дома его ждала жена и, наверное, даже дети. Хотя в пятнадцать лет рано ставить на себе крест, я не сомневался в том, что семья мне не светит. Впрочем, об этом я Лейтнеру не сказал. Безнадежность и одиночество вздымались передо мной, как бурый медведь в лесу Аляски. Я не грустил. Во всяком случае, не больше, чем гомосексуалист, осознавший, что никогда не увидит влагалище: так уж сложилось – о чем сожалеть?
Мы стали играть в шахматы. Он объяснил мне правила игры. Но не только правила. Еще он уточнил, что между ходами принято брать паузу и размышлять столько, сколько хочется. Партия могла длиться час или неделю, без разницы. Во время пауз я рассказывал доку о своей жизни. Иногда он прерывал меня и вспоминал какую-нибудь историю, связанную с моей проблемой. В качестве доказательства своего доброго расположения, по крайней мере, на те несколько месяцев, которые продлится наша авантюра, Лейтнер обещал попробовать забрать мой мотоцикл у полиции Орегона, если, конечно, мой отец об этом еще не позаботился. В результате кончилось тем, что через два месяца док с досадой объявил мне о продаже мотоцикла правовыми органами с целью покрытия некоторых расходов, связанных с моим делом.
18
– Вообрази себя романистом. Как бы ты рассказал свою историю?
По известной вам причине, я никогда не дочитывал романы до конца. Тем не менее некоторые я начинал из чистого любопытства, и, должен признаться, многие того не стоили. Я заметил, что американские авторы часто разворачивают сюжет, сперва обращаясь к истории своей семьи. Словно нельзя рассказать о дереве, не упомянув о корнях. Я спросил у Лейтнера, должен ли придерживаться хронологии. Он ответил категорично:
– Ты никому ничего не должен!
Однако я поступил, как все: просто сделал ход – и понеслось. Перед Лейтнером лежал блокнот, но записи он делал редко. Я рассказал, что в детстве часто думал о жизни и о смерти по причинам, которые изложу чуть позже. Я знаю, что люди жестко противопоставляют жизнь и смерть, их можно понять. Еще будучи ребенком, я уже восторгался тем, как взрослые ценят жизнь и как боятся смерти. Даже глубоко верующие. Помню одну нашу соседку, очень толстую: ее ожирение дошло до того, что дети порой возили ее на тележке. Она была набожной. Ее часто навещал проповедник. Она, как говорится, влачила жалкое существование – без денег, без мужа: с трудом передвигалась, с трудом дышала – отдувалась, как бык, кормила троих детей. По весне, когда солнце пригревало, дети оставляли мать в саду. Она сидела там, по нескольку часов ничего не делая. Мы находились по ту сторону забора и старались не попадаться ей на глаза, чтобы не выслушивать бесконечные монологи. Однажды я все-таки попался, и она не отпускала меня целый час. Она не интересовалась жизнями окружающих, но созерцание личной катастрофы было для нее неисчерпаемой темой. Она поведала мне о своем страхе смерти. Думала, одиннадцатилетний мальчик из ее слов ничего не поймет.
– Я боюсь небытия, Эл: всё, что я вижу вокруг, лучше небытия. Загробного мира нет, и за несколько дней черви съедают ту самую душу, которая якобы отличает нас от прочих Божьих тварей.
Пока она говорила, на ее жирную потную плоть примостилась большая черная муха. Муха неистовствовала над ужасающим телом, что символизировало для меня заранее проигранный бой. Соседка медленно сгибала опухшие руки, отгоняя насекомое. Страх безжалостной смерти отравлял ей жизнь, и только я понимал, до какой степени. Я хотел убить ее, чтобы избавить от страданий; потом сказал себе, что это не мое дело и никто не оценит моего благородства.
Внезапно, пока говорил, я ощутил страшную усталость. Лейтнер удивился.
– Не скажу, что я позавидовал страху смерти, который испытывала та женщина: сам я никогда его не испытывал. Но я почувствовал, что страх смерти – в какой-то степени источник наслаждения. Не более того.
Я продолжил как ни в чем не бывало. Затем вдруг вспомнил о том, какой размер ноги у моего отца.
– Мой отец похож на Джона Уэйна[39]. Он гораздо выше Уэйна, но на лицо они, как братья: твердые и смелые. Еще у них одинаковая походка. Я долго размышлял почему, прежде чем узнал, что у них один размер ноги – слишком маленький по сравнению с ростом. У меня размер сорок девятый, и рост два-двадцать. У моего отца – при росте два-десять – сорок второй размер. Представляете: сорок второй! Это всё равно что на культяпках передвигаться.
Я видел, что Лейтнер радуется моей общительности. Пациент, который болтает без умолку, лучше, чем пациент, из которого слова не вытянешь.
– Мой отец убил кучу народу. Около тридцати человек. И ничего.
– Но у него были на то причины, – возразил Лейтнер. – У государства есть, так сказать, монополия на законное насилие. Я тоже убивал, Эл. В сорок четвертом, в Нормандии[40].
Впрочем, док, судя по всему, не сильно гордился своими убийствами.
– Думаете, через пару лет я мог бы служить во Вьетнаме?
– Зачем?
– Может быть, убийства с благословения страны меня излечат? Так, по крайней мере, началась история моего отца. Он украл рядом с Лос-Анджелесом мотоцикл и оскорбил полицейских, которые его арестовали. Копы узнали, что отец покинул предприятие, производившее военные самолеты. Он работал электриком в «Мак-Доннелле» – оснащал электричеством «Би-25»[41]. Обожал скорость, но, так как денег на «Харли» у него не водилось, он угнал классный байк и поехал по дороге сто один к Олимпии. Пересекать границу он не собирался[42]. Поскольку отца подозревали в намерении дезертировать, его приговорили к трем годам заключения. Через несколько недель после ареста отцу предложили вступить в отряд специальных войск, где требовались такие парни, как он. Он вышел из тюрьмы в Лос-Анджелесе и направился в Хелену на поезде в сопровождении военной полиции. Отец рассказывал, что по приезде принял Форт Харрисон за декорации к фильму. Хижины из деревянных досок стояли друг за дружкой на равнине, окруженной грозными горами. Большинство местных не ладили с правосудием, но никто из них никогда не совершал ни убийств, ни серьезных преступлений. Они были драчунами, забияками, мошенниками, хулиганами, в общем, даже симпатичными ребятами. Отец отличался удивительным телосложением и высоким ростом, однако часто говорил о неискоренимом страхе перед физическим насилием. Он искренне считал, что в постоянном страхе невозможно достойно жить, а потому обещал себе измениться. Солдафоны бесконечно тренировались: государство хотело сделать из них самый ловкий и сильный отряд армии США. Всю зиму они карабкались по скалам, спускались с гор на лыжах, учились управлять самолетами и пользоваться самыми разными видами оружия. Больше отец ничего не рассказывал. Я знаю, что его отправили в Италию. Многие, слишком многие из его сослуживцев погибли, поэтому он не любил хвастаться сражениями. Но для меня отец настоящий герой.
Я никогда особенно не любил Монтану. Зимой там холодно, как в склепе, а летом жарко, как в преисподней.
Я окончательно обессилел от своего рассказа в тот момент, когда понял, что сейчас поставлю Лейтнеру шах и мат.
19
Моя мать родилась и выросла вместе с тремя своими сестрами на ферме в Монтане. Родителей матери я не знал: в конце войны они погибли в автокатастрофе. Дедушка был немецкого происхождения, родом из Баварии; его дед уехал из Германии в Монтану. Родители матери погибли из-за дедушкиного пьянства: в день своей смерти он выпил около пяти литров пива. Затем машину стариков вынесло с дороги, и она несколько раз перевернулась. Это произошло через несколько недель после знакомства моих родителей субботним вечером в баре Хелены. Отец пришел с тремя друзьями, двое из которых выжили в войне. Они как следует выпили, и отец почувствовал влечение к этой высокой женщине, ростом примерно метр девяносто, обычно не пользующейся популярностью у мужчин. Думаю, мать бросилась в объятия отца потому, что шанс встретить мужчину на двадцать сантиметров выше нее мог больше никогда не представиться, а ей, несомненно, хотелось выглядеть маленькой и хрупкой рядом с великаном, который ласково клал ей руку на шею. Отец не особенно разбирался в женщинах. Если четко не представляешь себе своих желаний, рискуешь оказаться в постели с копией собственной матери.
Лейтнер расхохотался.
– С чего ты это взял?
Я старался найти ответ, но не мог.
Едва заарканив мужчину, и бабушка, и мать, обе высокие и властные, всячески выказывали ему свое презрение. Это правда. Когда отец ушел, я думал, мать сойдет с ума от одной мысли об одиночестве. Однако она стала встречаться с сотрудником банка. Надо было слышать, как она разговаривала с ним на первых порах; я, конечно, подслушивал их беседы из своей комнаты. Она говорила ему ласковые слова, устраивала стриптиз, а потом просила отыметь ее, как последнюю шлюху. Не знаю, имел ли он ее как последнюю шлюху, только грохот стоял такой, словно надо мной по деревянному мосту проезжает товарный поезд. Как только парень заглатывал крючок, моя мать превращалась в монстра.
Я удивился, узнав о том, что смерть родителей облегчила матери жизнь. Она призналась в этом отцу во время одной из тех ссор, которые вспыхивали, стоило им только остаться в спальне одним. Обиженная непониманием отца, мать живописала ему, как старик терял над собой контроль и лапал дочерей. Мать ни разу от этого не пострадала, но младшая сестра испытала всё. В том числе содомию. В те времена я не знал, что это такое, но слышал, как отец сказал: «Замолчи, ребенок же внизу». Я сразу отправился за словарем. В словаре слово определялось довольно витиевато, словно авторы чего-то стыдились, однако я примерно понял, что содомия – это особая форма проникновения, немного… животного проникновения…
– Не думаю, Эл, что это форма животного проникновения. Напротив, она характерна для нашего вида с его представлениями о власти.
Мне показалось, Лейтнер на секунду замялся, решив, что чересчур разоткровенничался с шестнадцатилетним подростком, однако сомнения его тут же рассеялись: он понял, что говорит со взрослым человеком.
Когда я сделал ход ферзем, доку оставалась лишь рокировка. Впрочем, всё равно я побил бы его через три хода.
Моя мать вышла замуж за моего отца – героя, подарившего ей мою старшую сестру, – и оказалась в маленькой квартирке с электриком, который проводил свободное время, играя в карты с приятелями и охотясь. Он страстно любил покер и всегда играл с одними и теми же. Брюс Гэберти и Эндрю Стэмп служили в спецвойсках и, подобно отцу, никогда не вспоминали прошлое. Отец радовался, зная, что они рядом, в тишине. Они говорили о многом – только не о войне. Когда Джо Бенфорд, их четвертый товарищ, поднимал тему с азартом парня, проторчавшего три года в офицерской столовой, он встречал гробовое молчание.
Мужики играли субботними вечерами в подвале около моей комнаты. Обычно они много смеялись и шутили – тишина означала лишь одно: Бенфорд снова открыл рот не по делу. Мать считала себя хозяйкой дома: ведь она купила его на деньги от продажи ранчо своих родителей. По крайней мере, два или три раза в день она давала понять, что дом – ее личная собственность. Думаю, отца это унижало. Не проходило и дня, чтобы мать не напоминала о том, как отец ее разочаровал. Она хотела покинуть Монтану. Она хотела снова видеть отца в авиационной промышленности, чтобы он карабкался вверх по должностной лестнице и чтобы мы в конце концов купили дом на западе. Отец говорил, что не готов уехать из Монтаны, что ему необходимы просторы дикой природы, иначе он не выживет.
– С какой стати ты можешь не выжить, идиот? – Отец ничего не отвечал, и мать прибавляла: – Если бы я знала, что встретила хилую девчонку, которая не в силах оправиться от смерти друзей, я бы и близко к тебе не подошла! Я не родила бы тебе троих детей и не пожертвовала бы ради тебя своим местом в обществе!
Отец никогда не реагировал на оскорбления. Но я чувствовал, что мать своими кровожадными намерениями выбивает его из колеи. Когда мать наступала, отец смотрел под ноги, только под ноги. Мне так хотелось ему сказать: «Папа! Ради всего святого, подними голову, папа!» А он просто стоял, как маленький мальчик, и ждал, пока сердитая мать успокоится. Мать никогда не пыталась ударить отца. Она могла, но, наверное, боялась его возможной реакции: вдруг он бы взбунтовался?
Однажды утром он ушел навсегда. Ушел, чтобы помешать себе убить ее. Он двадцать лет не смел поднять на нее руку. Он предпочел избежать этого. Но я уверен: он точно убил бы мать – особенно если бы поднял на нее руку в моем присутствии. В присутствии моих сестер мать, возможно, выжила бы: ведь они просто жирные курицы – а мой отец не дурак. Он любил меня, хотя и не показывал своих чувств. Иногда я видел, что ему как бы стыдно за то, что он не примерный отец. И он страдал, сильно страдал. Не знаю почему. Его словно беспрестанно одолевали призраки.
Лейтнер ликовал и хотел меня остановить, потому что я мчался со страшной скоростью, рискуя разбить самые хрупкие воспоминания. Я поддержал дока одним ударом – вот вам, пожалуйста, шах и мат. Он не верил своим глазам. Впервые в жизни он проигрывал шестнадцатилетнему парню. Моя команда побеждала. И вместо того чтобы раздосадоваться, Лейтнер наслаждался. Этот человек глубоко уважал интеллект, хотя в моем случае имел дело с извращенным сознанием. Думаю, ему порядком надоели молчаливые пациенты: с аутизмом Лейтнер боролся каждый день. Он снял очки, положил их рядом, потом протер.
Я помню этот момент: он отпечатался в моей памяти как несколько секунд ликования, радости и надежды на жизнь.
Сеанс уже заканчивался, но Лейтнер хотел знать, читаю ли я по его рекомендации.
– Какую книгу выбрал?
– Досто…
– «Преступление и наказание». Да, понятно, библиотекарь обожает подсовывать этот роман новичкам из твоего блока. Тебе удалось сосредоточиться?
– Думаю, да.
– А как насчет дурных мыслей?
– Они ждут.
– Ты что-нибудь можешь сказать о книге?
– Пару слов. «Тогда он еще не верил в реальность своих снов и только позволял им щекотать себя, соблазнять себя гадкими сладкими обещаниями». И чуть дальше: «Он стал воспринимать “гадкие сны” как план для дальнейшей реализации…» Неплохо, да?
Лейтнер улыбнулся и посмотрел на часы. Мы прозанимались гораздо дольше положенного.
– Еще мне нравится пассаж об алкоголике в трактире. Мои родители оба пьют, но не до такой степени, чтобы совсем распадаться и тонуть. Когда мои родители пьют, они просто чуть больше становятся собой.
20
Первое время за обедом ко мне никто не подсаживался, словно пациенты, по соображениям безопасности, держали дистанцию. Стаффорд долго, с сомнением меня разглядывал. Наконец поднялся и присел рядом. Задрал голову, чтобы придать себе важности. Ему было где-то между сорока и шестьюдесятью. Судя по гусиной коже на шее, морщинистой и складчатой, словно увешанной гирляндами, – скорее, ближе к шестидесяти. Очевидно, мужик хотел со мной подружиться, что я заранее воспринял как посягательство на мою свободу. Я не шелохнулся, а лишь выпрямил спину и продолжил смотреть прямо перед собой. Мужик потянул меня за рукав.
– Эй, парень, не хочешь поговорить?
Не спеша, но с жадностью я проглотил огромную ложку пюре. Затем свысока посмотрел на соседа:
– Говорить – проще всего на свете. Каждый считает своим долгом говорить, болтать, чесать языком; такое ощущение, что это никогда не кончится.
Он кивнул. Но не один раз, а десять, двадцать кряду. Тихим голосом спросил, что привело меня в больницу, как будто мое преступление – государственная тайна. Когда я ответил, что пристрелил бабушку с дедушкой, он посмотрел на меня с сомнением, даже разочарованно: наверное, надеялся на что-то более впечатляющее.
– На какой возраст я выгляжу?
Я колебался, но, видя, как мужик из кожи вон лезет, чтобы понравиться, ответил:
– На пятьдесят с хвостиком.
Он захохотал как умалишенный:
– Я родился за год до начала века.
Несложно сосчитать.
Я вспомнил о рекомендации Лейтнера. Никто из моего блока не представлял для меня особой опасности, но связываться с этими извращенцами себе дороже. Я не имел ничего общего с насильниками и душевнобольными, которые не отличали женщину от мужчины, взрослого от ребенка и человека от козы, – им лишь бы самоутвердиться. От одной мысли о том, что я в одном ряду с этими ублюдками, меня захлестнула волна гнева. Я бы реагировал иначе, если бы из меня не пытались выбить чувство вины.
Я вернулся в комнату. Мне предписали сеанс групповой психотерапии, но еще не знали, в какой группе. Около полутора часов я лежал и читал. Устроился спиной к двери, чтобы в окно видеть кусочек неба, каждый день одинакового, голубого с белыми облаками. Я погружался в текст медленно – боялся уйти в литературу с головой.
Надзиратель отвлек меня от чтения, и мы отправились в прачечную на другом конце больницы. Пришлось преодолеть тысячу коридоров цвета мочи, столь же естественного для стен больницы, как алый – для крови. Я знал, что работа в прачечной – рискованное дело: мои способности к адаптации будут оценивать по ней. Я по шею увяз в грязи – настало время отмываться. Логично.
Каждую неделю в прачечную попадало около двух тысяч простыней, тонны формы всевозможных размеров, не говоря о нижнем белье. Работников привлекали, однако, чересчур много. Одни пациенты сортировали грязные вещи, другие распределяли их по большим стиральным машинам, третьи отвечали за сушку, глажку и раздачу. Впрочем, на кухне требовалась куда большая ловкость. Двое или трое пациентов осилили кулинарное искусство, но все остальные, включая надзирателей, чувствовали при этом, что обед под угрозой. Надо признаться – и я говорю это искренне, – что большинство заключенных в больнице, в отличие от меня, настоящие психи. Им не доверили бы серьезную работу. По крайней мере, так мне казалось до того, как я попал в прачечную, где чуть не упал в обморок. Запах порошка, в сочетании с влажностью мавританской бани, напомнил мне прачечную в Монтане. Я почувствовал себя так нехорошо, что чуть было не развернулся на триста шестьдесят градусов. Однако я стремился убедить врачей в том, что я нормальный человек. А единственный способ доказать свою нормальность – вести себя как разумный парень. Впрочем, в тот момент я, наверное, обменял бы двадцать лет тюрьмы на признание собственной ответственности.
Я убил старуху из-за ее ржавого скрипучего голоса, который сверлил мне мозг всякий раз, когда я удалялся от участка, обработанного и покоренного бабулей, разбитого на огороды, огражденные от кроликов и кротов. Ужас заключается в том, что я не особо хотел покидать этот участок. Это меня угнетало. Однако я не мог смириться с тем, что бабушка запрещает мне то, чего я сам себе не позволяю. Вопрос требовал радикального решения. Но когда я стрелял, я об этом не думал. Совсем. Не знаю, выше ли мой IQ, чем у Эйнштейна, но знаю, что в юности я не слишком много думал: я боролся с мыслями, которые приходили сами собой.
Воспоминания, смешанные с запахом стирального порошка и грязного белья, повергли меня в состояние глухой ярости. Я мог кого-нибудь убить, только не знал кого, поэтому буря постепенно улеглась. Надзиратель вверил меня сотруднику, который объяснил, что делать. Я вспомнил о том, как подрабатывал, будучи мальчишкой. Наниматели вечно дивились моей скорости. Я помогал кузнецу на ранчо, клеймил скот и продавал зимой газеты на торговой улице Хелены. Стоял такой холод, что я слышал, как скалы зловеще трескались по швам. Мать, с целью меня закалить, запретила носить перчатки. Мне тогда исполнилось одиннадцать лет. Я помню, как старик остановился и купил у меня газету, сказав, что новости в моем штате свежее, чем только что пойманная им рыба. Мать говорила, что отцовское воспитание превратит меня в девчонку. Так она утверждала на пустой желудок, зато, выпив, орала, что отец сделает из меня педика весом в сто килограммов. (До сих пор не понимаю, как вес влияет на сексуальную ориентацию.)
Несомненно, моя неприязнь к Монтане датируется этим периодом – холодов и маминых криков. В стужу она почему-то хотела, чтобы я вымерзал как бездомная собака. Отправляла меня в школу в рубашке и в куртке без подкладки, без перчаток, без шапки, – я буквально умирал в ожидании школьного автобуса. Если кто-нибудь упрекал мать, она отвечала, что, в отличие от других детей, укутанных с головы до ног, я никогда не болею. А когда наступало лето, особенно в период сильной жары, она выдумывала для меня изнурительную работу.
О том, что такое гомосексуальность, я узнал лишь в больнице. Через несколько месяцев после прибытия я застал трех парней, предававшихся утехам среди куч грязного белья. Мне показалось, что одного из них заставили, – я вмешался: хотел помочь. Все трое разошлись, не сказав ни слова. Это событие не вызвало во мне никаких чувств: ни отвращения, ни желания.
Сначала мне очень не нравилось складывать простыни. Мы работали вдесятером, по двое. Одним из моих напарников был маленький старик с грустными глазами. Он всё время улыбался; на его лысом черепе вместо волос виднелись голубые вены. После работы он подходил ко мне забавным танцующим шагом. Мне казалось, он друг Стаффорда – того, который заговорил со мной за обедом. Но насколько Стаффорд производил впечатление нормального парня, настолько его приятель казался съехавшим с катушек. Когда он рассказал, что в моем возрасте тоже убил своих бабушку с дедушкой, а затем его арестовали за изнасилование малолеток, мне стало нехорошо. Правда, последнее обвинение он с жаром отрицал, утверждая, что жертвы хотели сексуального контакта и сами провоцировали его. Старику явно давали огромные дозы лекарств: глаза у него впали, и лицо поражало противоестественной бледностью. Видя, что папаша мается с простынями втрое дольше, я принял на себя большую часть работы. Он сопротивлялся, однако мой рост и его лекарства поставили в нашем споре точку. Потом он вел себя со мной, как потерянная собака, ищущая хозяина. Я гордился своим авторитетом: именно благодаря ему я перестал принимать таблетки которые всем пациентам раздавали перед сном.
С Лейтнером я был честен. Я сказал ему, что не хочу походить на всех этих зомби, которые шатаются по больнице в состоянии транса. Он заверил меня в том, что таблетки, которые мне давали, только расслабляли меня и облегчали чувство вины.
– Я часто чувствовал себя виноватым, но не знаю в чем.
Док не хотел настаивать, поэтому позволил мне не принимать таблетки. Однако вопрос вины явно не давал ему покоя.
– Ты никогда не переживал из-за дедушки?
– Я пытался переживать, но не вижу в этом никакого смысла. Почему вы от меня этого требуете?
Он закурил трубку, которой я у него никогда раньше не видел и которая не клеилась с его образом, запустил руку в волосы и насмешливо произнес:
– Моя работа заключается в том, чтобы задавать много вопросов. Я не всегда знаю, почему их задаю. И не всегда знаю, когда получу ответ. Иногда ответ приходит, когда я его не жду. Когда ты говоришь мне о дедушке, я думаю о другом дедушке. Я не знал его, но интересовался его жизнью. Этот человек жил на Среднем Западе[43] и много занимался внуком. Отец ребенка бросил, мать наведывалась нечасто: возила тяжелые грузы из города в город. Затем она сошлась со славным малым и снова взяла мальчика к себе. Он стал нервным депрессивным подростком. Однажды без видимой причины он убил мать и ее нового мужа. Его приговорили к смерти. Казнили. Дедушка на казнь не пришел, но через несколько дней умер от горя. Думаешь, парню стоило и дедушку убить, чтобы избавить от страданий?
– Думаю, смерти в этой истории заслуживает лишь один человек – сукин сын отец, бросивший сына. Но эта история не похожа на мою. Дедушка никогда мною особенно не занимался. Я не слишком хорошо его знал. На день рождения он подарил мне винчестер, но не столько для того, чтобы меня порадовать, сколько для того, чтобы удовлетворить бабушку: она с ума сходила из-за кроликов и кротов, которые поедали ее морковку. Ферма простиралась на две тысячи квадратных метров, но бабушка страшно пеклась о двадцати сотках своего огорода. Если бы я считал, что отец дорожит своими родителями, то засомневался бы, прежде чем их пристрелить. Наверное, он был в шоке, но теперь ему, скорее всего, плевать. Я его напугал, я знаю. Но он на меня не сердится. Он тоже убивал; он понимает, что это такое, и понимает, что иногда выбор стоит между убийством другого и собственной смертью. Почему я должен был пожертвовать своей жизнью ради старухи? Почему? А что касается подростка, о котором вы мне рассказали, я думаю, он действительно псих, если так промазал. Надо потерять рассудок, чтобы перепутать мишени!
– Эл, ты когда-нибудь терял рассудок?
– Можете отправить меня обратно в тюрьму, но я никогда не терял головы. Должен вам признаться, доктор Лейтнер: меня мучает мысль о том, что меня не отправили в тюрьму. Меня просто списали со счетов, меня приняли за несчастного психованного парня. Мать смотрела на меня, как лошадь – на собственное дерьмо, сестры – как на препятствие по пути к холодильнику, бабуля – как на козла отпущения, а дед – как на парня, из-за которого могут быть проблемы с женой. После всего этого, конечно, можно чувствовать свою вину, свою ничтожность: ведь надо быть монстром, чтобы родственники так к тебе относились. Отец единственный шел мне навстречу, но лишь тогда, когда это позволяла мать. Вот почему я немного разбираюсь в самобичевании и хочу, чтобы люди уважали отсутствие чувства вины у меня.
Глаза у Лейтнера сияли: я его заинтересовал.
– Эл, у меня нет цели снова отправить тебя в тюрьму. Я хочу, чтобы ты вернулся к жизни в нормальном обществе, но только тогда, когда ты не будешь представлять опасности для себя и для других. Пока ты будешь упорствовать, утверждая, что имел право убить бабушку, а дедушку пристрелил из чувства сострадания, тебя будут считать больным. Эл, мы знакомы не так давно, но ты вызываешь у меня симпатию. Пойми, общество пересмотрит свое отношение к тебе, когда ты раскаешься. Без раскаяния цивилизация не существует. Не раскаиваются только звери. Я тебе уже говорил, Эл, только государство может оправдать чье-либо убийство в интересах общества. Но общество всегда будет считать тебя больным преступником, если ты сам позволишь себе убивать. Общество избавится от тебя тем или иным способом, поверь мне. Обычно у человека в сознании существуют некие рамки, установленные обществом, и заходить за эти рамки нельзя. В твоем сознании рамки отсутствуют. Ты не различаешь добро и зло, потому что тебя этому не научили и тебя не любили достаточно. Граница между добром и злом в твоем сознании расплывается. Я попробую ее восстановить, и ты мне поможешь. Твоя семья сделала тебе больно, и твое сознание помутилось. Когда боль зашкаливает, сознание может изменяться. Именно это с тобой и случилось. Теперь скажи мне: когда ты пересек границу сада, ты услышал голос бабушки? Это он заставил тебя выстрелить? Почему? Он тебе о чем-то напомнил? Или нет, попробуем иначе. Ты говорил, что в детстве часто испытывал чувство вины. Из-за чего?
Я помнил о мощной тревоге, которая разрывала мне сердце. Тревога охватывала меня, когда я поднимался по лестнице из погреба на первый этаж. На свету, на воздухе, я ощущал себя невольником. Огромные пространства вокруг дома меня сковывали. Попадая в мир, я задыхался, чувствуя, как тело трепещет и наполняется тревогой.
Помимо родительской спальни, в доме было три комнаты: две для моих сестер и одна для гостей. В последней никто никогда не жил, однако она пустовала. Еще наверху располагался чердак, иногда я бегал туда тайком.
Моя комната была не такой уж и маленькой, по правде говоря, хотя, конечно, в глазах детей всё выглядит больше, чем на самом деле. Она занимала примерно треть подвала нашего дома – для ребенка пространство большое, даже слишком. Не знаю, можно ли говорить о комнате: ведь ничто не отделяло меня от парового котла. Огромный котел на керосине функционировал круглосуточно: либо обогревая дом, либо кипятя воду. Каждый час минут на пятнадцать котел открывался, и я видел, как в топке извергается адово пламя. Хотя на уроках катехизиса нам рассказывали, что Бог в конце нашей жизни решит, куда нас отправить, в рай или в ад, я думал, что моя песенка уже спета. О своем страхе я поведал католическому священнику в Хелене – высокому и доброму малому, насколько я могу судить о доброте. Однажды он неожиданно заявился к матери. Мать рассердилась: она не любила сюрпризов. Сперва она вела себя резко и говорила, что даже посланник Божий обязан предупреждать о своем визите. Однако священник не испугался ни маминого роста, ни грубого голоса, охрипшего от алкоголя и табака. Мать думала, священник пришел жаловаться на мое поведение, и сразу сказала, что, мол, ее ребенок несет в себе зло. Священник ответил, что вряд ли, а затем объяснил причину своего визита. Мать долго и внимательно на него смотрела – такая открытая и проницательная дама. Она объяснила, что как раз хотела напугать меня огнем и печкой, чтобы я знал, какой ад ожидает меня при плохом поведении. Священник попросил разрешения осмотреть дом, и мать извинилась за то, что не может показать мою комнату, ибо я содержу ее в неописуемом бардаке. Мать поднялась и выпроводила священника, не предложив ему даже чашки кофе. После его ухода я убежал и спрятался, боялся криков и наказаний. Однако во время ужина мать, забыв про меня, принялась попрекать отца.
На следующий день я решил преподать ей урок. Мать любила кошек. Думаю, только кошек она и любила. Гордилась ими, поскольку они выигрывали конкурсы красоты. К моим сестрам мать испытывала благосклонное равнодушие, ведь они не были ни кошками, ни мужчинами: позволяла им объедаться, как свиньям, и призывала к целомудрию. У матери была черная кошка с длинной шерстью, очень редкой породы. Она родила котят, которых мать продала, – всех, кроме одного. На следующий день после визита священника я вернулся из школы домой и поймал котенка. Он царапал мои ладони с таким отчаянием, словно чувствовал, что его ждет. Я колебался между жалостью к беззащитному животному и острой потребностью наказать родительницу. Потом я засунул котенка в печку и захлопнул дверцу. А когда мать, сидя напротив и буравя меня беспощадным взглядом, допытывалась, где котенок, я наслаждался ее муками. Я не отводил глаз, но неумолимо и упорно молчал. Мать готова была буквально выбить из меня правду, однако передумала: стакан скотча ее утихомирил. Я живьем спалил маминого конкурсного котенка.
Через полгода я обезглавил другого котенка, тельце закопал, а голову спрятал в своей комнате, в коробке для заплаток велосипедных шин. Не знаю, как она очутилась в комнате, при том что велосипеда у меня нет. Мать регулярно перерывала мои вещи, как тюремный надзиратель, в поисках чего-то, о чем я не имел конкретного понятия. Так она обнаружила гниющую голову котенка и принялась орать, сперва от гнева, потом от отчаяния: не могла смириться с тем, что родила палача. И, как всегда, чем больше росла ярость, тем быстрее мать от меня отдалялась. Она никогда не кричала, стоя со мной нос к носу. Странным образом, это событие сблизило меня с младшей сестрой.
Я делаю в своем повествовании паузу. Всё, что я рассказываю, далеко не в точности повторяет то, что я поведал Лейтнеру. Шестнадцатилетний подросток, даже очень развитый, не способен рассказывать столь гладко и в то же время спонтанно: ведь он, то есть я, не привык к исповедям. Иногда док вытягивал из меня воспоминания по капле, а затем сам регулировал их прерывистый поток. Мне нравилось, что Лейтнер меня не судит. Ни разу не слышал, чтобы он давал моим действиям оценочную характеристику. История с обезглавливанием заставила его содрогнуться, хотя он знал ее раньше: она фигурировала в протоколе, составленном во время моего ареста после разговора полиции с матерью. Мать заявила, что случившееся ее не удивляет, поскольку я уже однажды обезглавил кота.
Лейтнер встал и принялся бродить по кабинету. Впервые я заметил, что из окна открывается вид на деревню и что Лейтнер не запирает окно на засов. Но мне не хотелось никуда уходить. Даже если бы передо мной распахнули все двери и расстелили красную ковровую дорожку, я не ушел бы из больницы, потому что за ее пределами мне не с кем поговорить.
Вскоре Лейтнер занял свое место, и у него на лице отразилось удовлетворение. Он прояснял ситуацию для самого себя:
– Из-за нее ты теряешь голову. Из-за нее ты теряешь голову, отрубаешь голову дорогому ей существу. Вы квиты. Сперва ты засовываешь котенка в печку. Это реакция на печку и на огонь, которым тебя пугают. Но этого недостаточно. Ты отрубаешь голову ее котенку и хранишь в комнате, зная, что мать обязательно ее найдет. Ты следишь за моей мыслью?
Я следил.
– Это символично. Ты отрубил голову котенку, потому что не осмелился отрубить голову матери. Тебе хотелось обезглавить мать?
– Нет, никогда.
– Тем не менее голову ты теряешь именно из-за нее.
Он задумывается.
– До этого момента ты всё контролируешь. Ситуация выходит из-под контроля, когда ты приезжаешь к бабушке с дедушкой. Ты не очень хорошо знал бабушку. Сколько раз ты видел ее раньше?
– Два раза.
– Она тебе чужая? Ты чувствуешь к ней привязанность?
– Думаю, я никогда ни к кому не чувствовал привязанности.
– Даже к отцу?
– К отцу чувствовал.
– Бабушка напоминает тебе о матери. Такая же сокрушительница духа. Твой отец недаром женился на матери: она похожа на его собственную мать. Когда он начинает отдавать себе в этом отчет, он разводится, потому что спать с собственной матерью неприемлемо. Для тебя бабушка олицетворяет мать. Подсознательно ты считаешь, что в союзе родителей виновата она. Ты следишь за моей логикой?
Я следил, впрочем, ничего особенно нового для себя не открывая.
– Ты винишь в своем рождении бабушку. Бабушка несет настоящую ответственность: то, что ты можешь пережить, если речь идет о матери, не можешь пережить, когда речь идет о бабушке. Так возникает идея убийства. То, что удерживало тебя от убийства матери, не удерживает от убийства бабушки. Двери перед тобой широко распахнуты, ты ждешь лишь сигнала. Сигналом оказывается голос, крик: бабушка на тебя кричит. Бабушкин огород напоминает тебе другую ненавистную территорию: подвал родительского дома. Нет никаких сомнений в том, что ты должен действовать. Либо она, либо ты. Либо жизнь, либо безумие. Убивая, ты стремишься избежать безумия. То есть ты не безумен. Однако и полную ответственность ты тоже не можешь нести: тобой движет искра безумия. Ничего хорошего ты не сделал, Эл. Нельзя вершить правосудие самому, особенно когда общество не в состоянии принять твоего решения. Ты же знаешь, Эл, и в Библии сказано: «Не убий».
Он выдохнул с такой силой, словно всё самое сложное было уже позади. Снял очки и положил перед собой, чтобы проверить, надо ли протереть стекла. Откинулся, вытянул ноги.
– В наших краях люди очень интересуются своим географическим происхождением. Лучше бы они интересовались своим психологическим происхождением. Твоя история, Эл, началась очень давно. И мы никогда не узнаем, что превратило отца твоей матери в сексуального извращенца, стремящегося к инцесту. Твоя мать, наверное, всегда из-за него будет ненавидеть мужчин. Она могла бы держаться от них подальше – но нет, напротив: она собирает их вокруг себя, чтобы удобнее было потом растоптать. Твой отец попался в капкан. Что касается тебя, ты собственность своей матери – вещь, которой она распоряжалась, как хотела. Ты должен был как-то вырваться, искоренить зло. А как мы искореняем зло? Мы уничтожаем. Чтобы вылечить дерево, надо отрубить сухие ветки. Ты в какой-то степени так и поступил. Хорошо еще, что не всю семью перестрелял. Я работал над одним делом: парень, прежде чем покончить с собой, вырезал целиком всю свою семью. Это удивительным образом напоминает акт уничтожения расы…
Лейтнер помолчал.
– Вряд ли твой отец станет общаться с твоими сестрами. Дети от первой жены олицетворяют для него крах, катастрофу, муки, отчаяние и разочарование. Ты описываешь своих сестер как бессмысленных существ. Твоему отцу, герою войны, необходимо избавиться от вас, чтобы всё начать заново. Мне жаль, но ты больше никогда не увидишь отца, Эл. Когда он избавился от тебя в Лос-Анджелесе, отправив к бабушке с дедушкой, он, таким образом, себя защитил. Он понимает, что ты ни в чем перед ним не провинился, но его угнетал один твой вид.
Секунду Лейтнер поразмыслил.
– Я уверен, что перед поездкой в Лос-Анджелес ты собирался покончить с собой.
– Да, два раза.
– А сколько раз ты собирался убить свою мать?
– Тоже два.
– Ты решил покончить с собой сразу после того, как решил убить мать?
– Да, сразу.
Лейтнер прервал сеанс внезапно, словно мы двигались слишком быстро. Партию в шахматы мы даже не начали. На лице у дока читалось удовлетворение, которого я не ощущал. Я думал о том, насколько понимание ситуации меняет дело.
Следующие сеансы прошли так, словно всё главное было сказано. Тем не менее мы продолжали раскручивать историю. Дока интересовало мое отношение к младшей сестре. С ней мы играли в странные игры. Старое парикмахерское кресло, оказавшееся в доме непонятно зачем, служило нам электрическим стулом. По очереди мы привязывали друг друга проводом за запястья. В качестве пульта управления мы использовали трансформатор с переключателем, который выкопали из папиных вещей. С его помощью мы пускали ток и постепенно увеличивали мощность. Всего было шесть отметок. На максимальной наших пыток не выдержал бы и крупный рогатый скот. Мы тестировали свою устойчивость к боли. Стоило матери раскрыть какую-нибудь нашу шалость – мы казнили друг друга на электрическом стуле. Обнаружение головы котенка обошлось мне дороже всего. Мы с сестрой оба знали, что на шестерке я могу не выдержать. Однако любопытство сильнее разума. Я сел на стул, сестра аккуратно привязала мне руки. Я чувствовал: она упивается пыткой. Сознание я потерял в первые же секунды. Сестра испугалась и побежала за матерью, которая принимала копов: ей причитались санкции за вождение в пьяном виде. Мать неспешно спустилась вниз и, увидев, что я очнулся, пообещала наказать меня. Однако к тому моменту я пережил казнь на электрическом стуле – чего же еще мне было бояться?
Мать быстро забыла о злосчастной игре: видимо, электрический стул ее не впечатлил. Она переживала за свои водительские права. Штраф оказался крупным, и мать боялась за репутацию: ведь она всегда работала над имиджем добропорядочной дисциплинированной женщины.