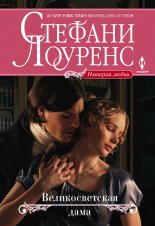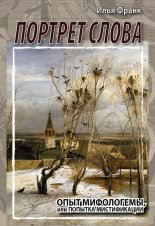Опыты Монтень Мишель

К читателю
Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя,что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Янисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы моинедостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставитьсвоеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а этопроизойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следымоего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить топредставление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу,чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полномпараде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном иобыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо,а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мойтаким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо смоим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, какговорят, и по-сейчас еще наслаждаются сладостной свободою изначальныхзаконов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотою нарисовал бысебя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги —я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету стольлегковесному и ничтожному. Прощай же!
Де Монтень
Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.
Книга первая
Глава I
Различными средствами можно достичь одного и того же
Если мы оскорбили кого-нибудь и он, собираясь отметить нам, воленпоступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить егосердце — это растрогать его своею покорностью и вызвать в нем чувствожалости и сострадания. И, однако, отвага и твердость — средства прямопротивоположные — оказывали порою то же самое действие.
Эдуард, принц Уэльский [1], тот самый, который столь долго держал всвоей власти нашу Гиень [2], человек, чей характер и чья судьба отмеченымногими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой ихгород, оставался глух к воплям народа, женщин и детей, обреченных на бойню,моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, подвигаясь всеглубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые сневиданной храбростью, одни сдерживали натиск его победоносного войска.Изумление, вызванное в нем зрелищем столь исключительной доблести, иуважение к ней притупили острие его гнева и, начав с этих трех, он пощадилзатем и остальных горожан.
Скандербег [3], властитель Эпира, погнался как-то за одним из своихсолдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гневуниженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его сошпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость егоначальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уваженияобразом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физическойсиле и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий примерсовершенно иначе.
Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога Баварского, не пожелал нив чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самымипозорными и унизительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамамблагородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено быловыйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося насебе все, что они смогут взять. Они же, руководясь великодушным порывом,решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора дотакой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал отумиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды кпобежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему ик его подданным [4].
На меня одинаково легко могли бы воздействовать и первый и второйспособы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию иснисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, каккажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем,для стоиков жалость есть чувство, достойное осуждения; они хотят, чтобы,помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывалисострадания к ним.
Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными; ведьони показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоихназванных средств, остались неколебимыми перед первым из них и не устоялиперед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердцесостраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким, откудапроистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковыженщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам имольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести естьпроявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, атакже упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могутоказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который,учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что онипродолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного ипредуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида [5], согнувшегося подбременем обвинений и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами имольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда [6], красноречивообрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видомпопрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться забаллотировочные шары и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляливеличие его души и бесстрашие.
Дионисий Старший [7], взяв после продолжительных и напряженных усилийРегий [8] и захватив в нем вражеского военачальника Фотона, человека высокойдоблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагическийпример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велелутопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они,стало быть, обрели свое счастье на день раньше его. Затем Дионисий велелсорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу, жестоко и позорнобичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон,однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с гордым инезависимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородноеи правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозилпоследнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов,что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу нетолько не возмущают их, но что, напротив, изумленные столь редкимбесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднятьмятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство итайком утопить его в море.
Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющеесясущество — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразноепредставление. Вот перед нами Помпеи, даровавший пощаду всему городумамертинцев [9], на которых он перед тем был сильно разгневан, единственноиз уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина — Зенона [10]; последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственноймилости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, которыйоказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии [11],нисколько не помог этим ни себе ни другим.
А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр,превосходящий храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно стольмилостивый к побежденным врагам, завладев после величайших усилий городомГазой [12], наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительноеискусство и доблесть которого он имел возможность не раз испытать во времяосады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненныйи истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпоймакедонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталасьему столь дорогою ценой, — ибо, помимо больших потерь в его войске, егосамого только что дважды ранили, — крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так,как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можнопридумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, нобольше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. ТогдаАлександр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал:«Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна-единственная мольба?Но поверь мне, я преодолею твое безмолвие и, если я не могу исторгнуть изтебя слово, то исторгну хотя бы стоны». И распаляясь все больше и больше, онвелел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за неюживым, раздирая, таким образом, и уродуя его тело. Случилось ли это из-затого, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для негоделом привычным и не вызывала в нем восхищения? Или быть может, он настольковысоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другомнечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему отприроды безудержность гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И,действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надополагать, при взятии и разорении Фив [13], когда у него на глазах было самымбезжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все илишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрыхшесть тысяч, причем никого из них не видели бегущим или умоляющим о пощаде;напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случая столкнуться наулице с врагом-победителем, навлекая на себя таким путем почетную смерть. Небыло никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних силотметить за себя и во всеоружии отчаянья найти утешение в том, что онпродает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть,однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня,чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока непролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался заоружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцатьтысяч рабов.
Глава II
О скорби
Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я нелюблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает егоисключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель,совесть — чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестилиэтим же словом коварство и злобу. Ведь это — чувство, всегда приносящеевред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоикивоспрещают мудрецу предаваться ему.
Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражениеи попав в плен к Камбизу [1], царю персидскому, увидел свою дочь, такжеставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него водеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громкостенали, сам он остался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, непромолвил ни слова; то же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел,как его сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных втолпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражатькрайнюю скорбь [2].
Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из нашихвельмож [3]. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своегостаршего брата, и притом того, кто был опорою и гордостью всего рода; спустянекоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего такжепредметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он попрошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломленэтим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, чтоподало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этимпоследним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, чтодля скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было ещенескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.
Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную вышеисторию, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ ПсамменитаКамбизу, пожелавшему узнать, почему, оставаясь безучастным к горькой долесына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одногоиз его друзей. «Оттого, — сказал Псамменит, — что лишь это последнееогорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мнедва первых удара, не существует способа выражения».
Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнегоживописца [4], который, стремясь изобразить скорбь присутствующих призаклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибельэтой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношениипредела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, оннарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степеньотчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтамивымысел, будто несчастная мать Ниобея [5], потеряв сначала семерых сыновей,а затем столько же дочерей и не выдержав стольких утрат, в конце концовпревратилась в скалу —
- Diriguisse malis. [6]
Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухоеоцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья,превосходящие наши силы.
И, действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу,стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случается с нами под свежимвпечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себяскованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях, — анекоторое время спустя, разразившись, наконец, слезами и жалобами, мыощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себялегче и свободнее.
- Et via vix tandem voci laxata dolore est. [7]
Во время войны короля Фердинанда со вдовою венгерского короля Иоанна, вбитве при Буде [8], немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схваткитело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменноюхрабростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав вместе состальными, кто же все-таки этот всадник, он, после того как с убитого снялидоспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время, как всевокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы;выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным кмертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов [9], и он, оцепенев, не пал замертво наземь.
- Chi puo dir com’egli arde, in picciol fuoco. [10]
Говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:
- misero quod omnes
- Eripit sensus mihi. Nam simul te,
- Lesbia, aspexi, nihil est super mi
- Quod loquar amens.
- Lingua sed torpet, tenuis sub artus
- Flamma dimanat, sonitu suopte
- Tinniunt aures, gemina teguntur
- Lumina nocte. [11]
Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучаястрасть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша душаотягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.
Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременноовладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их попричине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть,которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильнаястрасть.
- Curae leves loquuntur, ingentes stupent. [12]
Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.
- Ut me conspexit venientem, et Troia circum
- Arma amens vidit, magnis exterrita monstris,
- Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,
- Labitur, et longo vix tandem tempore fatur. [13]
Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына,возвратившегося после поражения при Каннах [14], кроме Софокла и тиранаДионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец, Тальвы [15],умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованныхему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и кнашему веку: так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего онтак страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой ивскоре умер [16]. И чтобы привести еще более примечательное свидетельствочеловеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, аименно, что Диодор Диалектик [17] умер во время ученого спора, так какиспытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразитьвыставленный против него аргумент.
Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти.Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же, благодаряпостоянному размышлению, я с каждым днем все более черствею и закаляюсь.
Глава III
Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»
Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему иучат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше непомышлять, — ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, —затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, еслитолько можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжалитворить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы былидеятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других иэту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываемгде-то вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают насспособности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, чтобудет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. Calamitosus estanimus futuri anxius. [1]
Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело ипознай самого себя» [2]. Каждая из обеих половин этой заповеди включает всебе и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг нашихобязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всегоон должен познать, что он такое и на что он способен. Кто достаточно знаетсебя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя ипечется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодныхмыслей и неразрешимых задач. Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivitnunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapienta semper eo contenta estquod adest, neque eam unquam sui poenitet. [3]
Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее итревожиться о нем.
Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболееобоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждатьдеяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не ихгоспода. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобыоно обрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием ихпреемников: ведь и то и другое мы нередко ценим дороже жизни. Этот обычайприносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайнежелателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, что кего памяти относятся точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаныповиноваться и покорятся всякому без исключения государю, так как он имеетна это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели.Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сноситьнедостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своимодобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждаетсяв нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходитконец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободувыражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славуверных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошоизвестны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувстваличной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит незаслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном,делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, чтоязык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетногопритворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был,приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия [4].
Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которыене побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из нихна вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе илюбил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того, как ты убил свою мать,как ты стал поджигателем, скоморохом, возницею на ристалищах, я возненавиделтебя, ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нерономвопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что яне видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния». [5] Но кто жев здравом уме вздумал бы обсуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких ичудовищных преступлениях этого императора, которые заклеймили его послесмерти и останутся на вечные времена?
Меня огорчает, что, при всей безупречности принятого у лакедемонянобраза жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: послесмерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшисьбеспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стенали иплакали, возглашая, что покойный — каков бы он ни был на деле — был лучшимиз их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, котораяпринадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, ктоимеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самомунизшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи насвете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смертине может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жили умер, как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и еслипотомство его презренно? [6] Пока мы движемся, мы устремляем наши заботыкуда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаембольше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, еслиб сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может бытьсчастлив лишь после того, как перестал существовать.
- Quisquam
- Vix radicitus e vita se tollit, et eiicit:
- Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse,
- Nec removet satis a proiecto corpore sese, et
- Vindicat. [7]
Бертран Дю Геклен [8] умер во время осады замка Ранкон, расположенногоблиз Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудиливозложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д’Альвиано [9],начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя тамвоенными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо былопроследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войскевенецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск.Теодоро Тривульцио [10], однако, воспротивился этому: он предпочел пробитьсяоткрытою силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает, — сказалон, — чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, высказал послесмерти страх перед ними».
Здесь будет кстати вспомнить о том, что, согласно обычаям греков,всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело,как бы отказывался тем самым от чести быть победителем и лишался, такимобразом, права на то, чтобы воздвигнуть трофей [11]. Победителями считалисьте, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий [12]не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне скоринфянами, и, напротив, Агесилай [13] закрепил за собой сомнительнуюпобеду над беотийцами.
Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде небыло свойственно не только простирать заботы о себе за пределы своегоземного существования, но, сверх того, также верить, что милости небадовольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки.Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности, — не говоряуже о примерах из нашего времени, — что я не вижу нужды распространяться обэтом. Эдуард I [14], король английский, удостоверившись во времяпродолжительных войн своих с шотландским королем Робертом [15], насколькоего присутствие способствовало успеху в делах, — ибо всему, чем он личноруководил, неизменно сопутствовала победа, — умирая, связал своего сынаторжественной клятвой, чтобы тот, после его кончины, выварил его тело и,отделив кости от мяса, предал погребению плоть; что до костей, то он завещалсыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случитсядраться с шотландцами, — словно судьба роковым образом привязала победу кего костяку.
Ян Жижка [16], возмутивший Богемию ради поддержки заблуждений Уиклифа [17], высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа ичтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву сврагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые имв упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сражаться сиспанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о техудачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Светаберут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, дабыони служили им примером храбрости и залогом победы [18].
В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава,которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последниеприписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти.Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда [19],который, почувствовав, что смертельно ранен выстрелом из аркебузы, наубеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизнипоказывать врагу спину, и продолжал биться, пока его не покинули силы;чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказалсвоему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умеретьлицом к неприятелю; так он и скончался.
Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример,который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. ИмператорМаксимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа [20], был государем,наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесноюкрасотою. Но наряду с этими качествами он обладал еще одним, вовсе несвойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшимигосударственными делами, превращают порою в трон свой стульчак: он непозволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближенному из своихслуг. Он всегда мочился в укромном месте и, будучи стыдлив, какдевственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было техчастей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, неведающим ни в чем стеснения, я, тем не менее, также наделен от природыстыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня нетолкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромныхпоступков и не обнажаю ни перед кем того, что по обычаю должно бытьприкрыто. Я страдаю скорее застенчивостью, и притом в большей мере, чемподобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Ноимператор Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, чтоособо оговорил в своем завещании, чтобы ему после кончины наделиподштанники, и добавил в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает сего трупом, завязали глаза. Если Кир [21] завещал своим детям, чтобы ни они,ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему,после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснениеэтому в каком-нибудь религиозном веровании; ведь и его историк и сам он,помимо прочих великих достоинств, отличались еще и тем, что насаждали напротяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам. Мнеочень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи,об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и навоенном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытываяневыносимые боли, причиняемые каменною болезнью, он в последние часы своейжизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониаласвоих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, чтоони примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивойпросьбой даже к самому королю, которого видел перед своей кончиной, чтобытот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя своеходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждавшими, чточеловек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался,по-видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля стольжеланного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством ицеремониалом своих собственных похорон.
Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.
А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства,образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мнеединокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том,чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, нопроявлять при этом исключительную, совершенно не принятую в таких случаях,бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю,что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнююволю Марка Эмилия Лепида [22], запретившего своим наследникам устраивать емупосле смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность ивоздержанность в том только и заключаются, чтобы избегать расточительности иизлишества, когда они уже не могут более доставить нам пользу иудовольствие? Вот, действительно, легкий и недорогой способсамосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этотсчет распоряжения, то, полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле,каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философЛикон [23] поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело землетам, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобыони не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляюобычаю установить распорядок похоронного обряда и охотно отдам свое мертвоетело на благоусмотрение тех, — кто бы это ни оказался, — кому придется взятьна себя эту заботу: Totus hic locus est contemnendus in nobis, nonnegligendus in nostris. [24] И святая истина сказана одним из святых: Curatiofuneris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, maqis sunt vivorum solatia,quam subsidia mortuorum. [25] Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновенияего жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: «Каквам будет угодно». Если бы я простирал заботы о своем будущем столь далеко,я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить идышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышностипогребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе своибезжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувстватем, что бесчувственно, кто умеет жить своей собственной смертью.
Я проникаюсь ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления ипредставляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю обесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав дажевыслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравшиху лакедемонян морское сражение при Аргинусских островах [26], самоезначительное, самое ожесточенное среди всех, какие когда-либо давалисьгреками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу наднеприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а незадержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитыхсограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда явспоминаю о Диомедоне, одном из осужденных на казнь, человеке замечательнойвоинской доблести и гражданских добродетелей. Выслушав обвинительныйприговор, он вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервыепозволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не длясамозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость стольжестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающейэтих судей судьбе; он обратился к богам с мольбою не карать их за приговори, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение техобетов, которые были даны им и его товарищами, в ознаменование стольблистательного успеха, уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказавбольше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно,твердой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако,судьба при сходных обстоятельствах отметила афинянам. Хабрий,главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, возглавлявшимморские силы спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил всепреимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, толькоиз опасения, как бы не подвергнуться столь же печальной участи, какаяпостигла его предшественников. И, чтобы не потерять в море несколько труповсвоих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и невредимыхврагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейшийпредрассудок.
- Quaeris quo iaceas post obitum loco?
- Quo non nata iacent. [27]
Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем ненарушаемого покоя:
- Neque sepulcrum, quo recipiatur, habeat portum corporis.
- Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis. [28]
Глава IV
О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы, когда ей недостает настоящих
Один из наших дворян, которого мучали жесточайшие припадки подагры,когда врачи убеждали его отказаться от употребления в пищу кушаний изсоленого мяса, имел обыкновение остроумно отвечать, что в разгар мучений иболей ему хочется иметь под рукой что-нибудь, на чем он мог бы сорвать своюзлость, и что, ругая и проклиная то колбасу, то бычий язык или окорок, ониспытывает от этого облегчение. Но, право же, подобно тому, как мы ощущаемдосаду, если, подняв для удара руку, не поражаем предмета, в который метили,и наши усилия растрачены зря, или, скажем, как для того, чтобы тот или инойпейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности вдаль,но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, котораяслужила б ему опорой:
- Ventus ut amittit vires, nisi robore densae
- Occurrant silvae, spatio diffusus inani. [1]
так же, мне кажется, и душа, потрясенная и взволнованная, бесплоднопогружается в самое себя, если не занять ее чем-то внешним; нужнобеспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью еестремлений и направлять ее деятельность. Плутарх говорит по поводу тех, ктоиспытывает чрезмерно нежные чувства к собачкам и обезьянкам, что заложеннаяв нас потребность любить, не находя естественного выхода, создает, лишь быне прозябать в праздности, привязанности вымышленные и вздорные [2]. И мывидим, действительно, что душа, теснимая страстями, предпочитает обольщатьсебя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые исама порою не верит, чем оставаться в бездействии. Вот почему дикие звери,обезумев от ярости, набрасываются на оружие или на камень, которые ранилиих, или, раздирая себя собственными зубами, пытаются выместить на себемучающую их боль.
- Pannonis haud aliter post ictum saevior ursa,
- Cui iaculum parva Libys amentavit habena
- Se rotat in vulnus, telumque irata receptum
- Impetit, et secum fugientem circuit hastam. [3]
Каких только причин ни придумываем мы для объяснения тех несчастий,которые с нами случаются! За что ни хватаемся мы, с основанием или безвсякого основания, лишь бы было к чему придраться! Не эти светлые кудри,которые ты рвешь на себе, и не белизна этой груди, которую ты, во властиотчаянья, бьешь так беспощадно, наслали смертоносный свинец на твоеголюбимого брата: ищи виновных не здесь. Ливии, рассказав о скорби римскоговойска в Испании по случаю гибели двух прославленных братьев [4], егополководцев, добавляет: Flere omnes repente et offensare capita. [5] Таковобщераспространенный обычай. И разве не остроумно сказал философ Бион оцаре, который в отчаянии рвал на себе волосы: «Этот человек, кажется,думает, что плешь облегчит его скорбь» [6]. Кому из нас не случалось видеть,как жуют и глотают карты, как кусают игральную кость, чтобы выместить хотьна чем-нибудь свой проигрыш? Ксеркс велел высечь море — Геллеспонт [7] иналожить на него цепи, он обрушил на него поток брани и послал горе Афонвызов на поединок. Кир на несколько дней задержал целое войско, чтобыотомстить реке Гинд за страх, испытанный им при переправе через нее.Калигула [8] распорядился снести до основания прекрасный во всех отношенияхдом из-за тех огорчений, которые претерпела в нем его мать.
В молодости я слышал о короле одной из соседних стран, который, получивот бога славную трепку, поклялся отметить за нее; он приказал, чтобы десятьлет сряду в его стране не молились богу, не вспоминали о нем и, пока этоткороль держит в своих руках власть, даже не верили в него. Этим рассказомподчеркивалась не столько вздорность, сколько бахвальство того народа, окотором шла речь: оба эти порока связаны неразрывными узами, но в подобныхпоступках проявляется, по правде говоря, больше заносчивости, нежелиглупости.
Император Август [9], претерпев жестокую бурю на море, разгневался набога Нептуна и, чтобы отметить ему, приказал на время праздничных игр вцирке убрать его статую, стоявшую среди изображений прочих богов. В этом егоможно извинить еще меньше, чем всех предыдущих, и все же этот поступокАвгуста более простителен, чем то, что случилось впоследствии. Когда до негодошла весть о поражении, понесенном его полководцем Квинтилием Варом вГермании, он стал биться в ярости и отчаянье головою о стену, без концавыкрикивая одно и то же: «О Вар, отдай мне мои легионы!» [10] Но наибольшеебезумие, — ведь тут примешивается еще и кощунство, — постигает тех, ктообращается непосредственно к богу или судьбе, словно она может услышать нашусловесную пальбу; они уподобляются в этом фракийцам, которые, когда сверкаетмолния или гремит гром, вступают в титаническую борьбу с небом, стремясьтучею стрел образумить разъяренного бога. Итак, как говорит древний поэт уПлутарха:
- Когда ты в ярости судьбу ругаешь,
- Ты этим только воздух сотрясаешь [11].
Впрочем, мы никогда не кончим, если захотим высказать все, что можно, восуждение человеческой несдержанности.
Глава V
Вправе ли комендант осажденной крепости выходить из нее для переговоров с противником?
Луций Марций, римский легат, во время войны с Персеем, цареммакедонским, стремясь выиграть время, чтобы привести в боевую готовностьсвое войско, затеял переговоры о мире, и царь, обманутый ими, заключилперемирие на несколько дней, предоставив, таким образом, неприятелювозможность и время вооружиться и приготовиться, что и повело кокончательному разгрому Персея [1]. Но случилось так, что старцы-сенаторы,еще хранившие в памяти нравы своих отцов, осудили действия Марция какпротиворечащие древним установлениям, которые заключались, по их словам, втом, чтобы побеждать доблестью, а не хитростью, не засадами и не ночнымисхватками, не притворным бегством и неожиданным ударом по неприятелю, атакже не начиная войны прежде ее объявления, но, напротив, зачастую оповещаязаранее о часе и месте предстоящей битвы. Исходя из этого, они выдали Пирруего врача, задумавшего предать его, а фалискам — их злонамеренного учителя [2]. Это были правила подлинно римские, не имеющие ничего общего с греческойизворотливостью и пуническим вероломством, у каковых народов считалось, чтоменьше чести и славы в том, чтобы побеждать силою, а не хитростью иуловками. Обман, по мнению этих сенаторов, может увенчаться успехом вотдельных случаях, но побежденным считает себя лишь тот, кто уверен, что егоодолели не хитростью и не благодаря случайным обстоятельствам, а воинскойдоблестью, в прямой схватке лицом к лицу на войне, которая протекала всоответствии с установленными законами и с соблюдением принятых правил. Поречам этих славных людей ясно видно, что им еще не было известнонижеследующее премудрое изречение:
- dolus an virtus quis in hoste requirat? [3]
Ахейцы, рассказывает Полибий, презирали обман и никогда не прибегали кнему на войне; они ценили победу только тогда, когда им удавалось сломитьмужество и сопротивление неприятеля [4]. Eam vir sanctus et sapiens scietveram esse victoriam, quae salva fide et integra dignitate parabitur, [5] — говоритдругой римский автор.
- Vos ne velit an me regnare hera quidve ferat fors
- Virtute experiamur. [6]
В царстве тернатском [7], именуемом нами с легкой душою варварским,общепринятые обычаи запрещают идти войною, не объявив ее предварительно и несообщив врагу полного перечня всех сил и средств, которые будут применены вэтой войне, а именно, сколько у тебя воинов, каково их снаряжение, а такжеоборонительное и наступательное оружие. Однако, если, невзирая на это,неприятель не уступает и не идет на мирное разрешение спора, они неостанавливаются ни перед чем и полагают, что в этом случае никто не имеетправа упрекать их в предательстве, вероломстве, хитрости и всем прочем, чтомогло бы послужить средством к обеспечению легкой победы.
Флорентийцы в былые времена были до такой степени далеки от желанияполучить перевес над врагом с помощью внезапного нападения, что за месяцвперед предупреждали о выступлении своего войска, звоня в большой колокол,который назывался у них Мартинелла.
Что касается нас, которые на этот счет гораздо менее щепетильны, нас,считающих, что, кто извлек из войны выгоду, тот достоин и славы, нас,повторяющих вслед за Лисандром, что, где недостает львиной шкуры, там нужнопришить клочок лисьей, то наши воззрения ни в какой степени не осуждаютобщепринятых способов внезапного нападения на врага. И нет часа, говорим мы,когда военачальнику полагается быть более начеку, чем в час веденияпереговоров или заключения мира. Поэтому для всякого теперешнего воинанепреложно правило, по которому комендант осажденной крепости не должен нипри каких обстоятельствах выходить из нее для переговоров с неприятелем. Вовремена наших отцов в нарушении этого правила упрекали господ де Монмора иде Л’Ассиньи, защищавших Музон от графа Нассауского [8].
Но бывает и так, что нарушение этого правила имеет свое оправдание.Так, например, оно извинительно для того, кто выходит из крепости, обеспечивсебе безопасность и преимущество, как это сделал граф Гвидо ди Рангоне (еслиправ Дю Белле, ибо, по словам Гвиччардини, это был не кто иной, как он сам)в городе Реджо [9], когда встретился с господином де Л’Экю для веденияпереговоров. Он остановился на таком незначительном расстоянии от крепостныхстен, что, когда во время переговоров вспыхнула ссора и противники взялисьза оружие, господин де Л’Экю и прибывшие с ним не только оказались болееслабою стороною, — ведь тогда-то и был убит Алессандро Тривульцио, — но исамому господину де Л’Экю пришлось, доверившись графу на слово, последоватьза ним в крепость, чтобы укрыться от угрожавшей ему опасности.
Антигон, осадив Евмена в городе Нора [10], настойчиво предлагал емувыйти из крепости для ведения переговоров. В числе разных доводов в пользусвоего предложения он привел также следующий: Эвмену, мол, надлежитпредстать перед ним потому, что он, Антигон, более велик и могуществен, начто Евмен дал следующий достойный ответ: «Пока у меня в руках меч, нетчеловека, которого я мог бы признать выше себя». И он согласился напредложение Антигона не раньше, чем тот, уступив его требованиям, отдал емув заложники своего племянника Птолемея.
Впрочем, попадаются и такие военачальники, которые имеют основаниедумать, что они поступили правильно, доверившись слову осаждающих и выйдя изкрепости. В качестве примера можно привести историю Анри де Во, рыцаря изШампани, осажденного англичанами в замке Коммерси. Бертелеми де Бонн,начальствовавший над осаждавшими, подвел подкоп под большую часть этогозамка, так что оставалось только поднести огонь к запалу, чтобы похоронитьосажденных под развалинами, после чего предложил вышеназванному Анри выйтииз крепости и вступить с ним в переговоры, убеждая его, что это будет к егоже благу, в доказательство чего и открыл ему свои козыри. После того какрыцарь Анри воочию убедился, что его ожидает неотвратимая гибель, онпроникся чувством глубокой признательности к своему врагу и сдался со всемисвоими солдатами на милость победителя. В подкопе был устроен взрыв,деревянные подпоры рухнули, замок был уничтожен до основания.
Я склонен оказывать доверие людям, но я обнаружил бы это пред всеми сбольшой неохотою, если бы мое поведение подавало кому-нибудь повод считать,что меня побуждают к нему отчаяние и малодушие, а не душевная прямота и верав людскую честность.
Глава VI
Час переговоров — опасный час
Надо сказать, что не так давно я наблюдал в городе Мюссидане [1],находящемся по соседству со мной, — как те, кто был выбит оттуда нашейармией, а также приверженцы их жаловались на предательство, ибо во времяпереговоров, условившись о перемирии, они подверглись внезапному нападению ибыли разбиты наголову. Подобная жалоба в другой век могла бы, пожалуй,вызвать сочувствие. Но, как я говорил выше, наши обычаи не имеют большеничего общего с правилами былых времен. Вот почему не следует доверять другдругу, пока договор не скреплен последней печатью; да и при наличии этого,чего не случается!
Никогда, впрочем, нельзя с уверенностью рассчитывать, что победоносноевойско станет соблюдать обязательства, которые дарованы победителем городу,сдавшемуся на сравнительно мягких и милостивых условиях и согласившемусявпустить еще разгоряченных боем солдат. Луций Эмилий Регилл, римский претор,потеряв время в бесплодных попытках захватить силою город фокейцев, ибожители его защищались с поразительною отвагой, пошел, в конце концов, с нимина соглашение, по которому он принимал их под свою руку в качестве «друзейримского народа» и должен был вступить в их город, как в город союзников.Этим он окончательно рассеял их опасения насчет возможности каких-либовраждебных действий со стороны победителей. Но, когда они вошли в город —ибо Эмилий, желая показать себя во всем блеске, ввел туда все свое войско, —усилия, которые он прилагал, чтобы держать их в узде, оказались напрасными,и значительная часть города была разгромлена у него на глазах: жаждапограбить и отметить поборола в них уважение к его власти и привычкуповиноваться.
Клеомен имел обыкновение говорить, что, каковы бы ни были злодеяния,совершаемые во время войны в отношении неприятеля, они выходят за пределыправосудия и не подчиняются его приговорам — за них не судят ни боги, нилюди. Договорившись с аргивянами о перемирии на семь дней, он напал на нихуже в третью ночь, когда их лагерь был погружен в сон, и нанес имжесточайшее поражение, ссылаясь в дальнейшем на то, что в его договоре оперемирии ни словом не упоминается о ночах. Боги, однако, покарали его заэто изощренное вероломство.
Жители города Казилина [2], беспечно полагаясь на свою безопасность,подверглись во время переговоров внезапному нападению, и это произошло в векнаисправедливейших и благороднейших полководцев превосходящего во всехотношениях римского войска. В самом деле, нигде ведь не сказано, что нам недозволено в подобающем месте и в подобающий час воспользоваться глупостьюнеприятеля, подобно тому, как мы извлекаем для себя выгоду из его трусости.Война, естественно, имеет множество привилегий, которые в условиях военныхдействий совершенно разумны, вопреки нашему разуму; здесь не соблюдаютправила: neminem id agere, ut ex alterius praedetur inscitia. [3]
Меня поражает, однако, та безграничность, какую допускает в отношенииотмеченных привилегий такой автор, как Ксенофонт, о чем свидетельствуют иречи и деяния его якобы совершенного самодержца; а ведь в подобных вопросахэто — писатель, обладающий исключительным весом, ибо он — прославленныйполководец и философ из числа ближайших учеников Сократа. Далеко не всегда ине во всем я могу согласиться с его чрезмерно широкими, по-моему, взглядамина этот предмет [4].
Господин д’Обиньи, обложив осадою Капую, подверг ее жесточайшейбомбардировке, после чего сеньор Фабрицио Колонна, комендант города, стоя настене бастиона, начал переговоры о сдаче, и, так как его солдаты утратилибдительность, наши ворвались в крепость и не оставили в ней камня на камне [5]. А вот еще более свежий в нашей памяти случай. Сеньор Джулиано Роммеродопустил в Ивуа [6] большой промах: он вышел из крепости для веденияпереговоров с коннетаблем — и что же? — возвращаясь назад, обнаружил, чтоона захвачена неприятелем. Я расскажу еще об одном событии, дабы показать,что порою и мы оставались в накладе: маркиз Пескарский осаждал Геную, гденачальствовал покровительствуемый нами герцог Оттавиано Фрегозо; переговорымежду обоими военачальниками шли настолько успешно, что соглашение междуними считалось уже делом решенным. Однако в момент их завершения испанцыпроникли в город и стали распоряжаться в нем, словно и в самом деле одержалирешительную победу [7]. И впоследствии также город Линьи в Барруа, гденачальствовал граф де Бриенн, а осадою руководил сам император, был захваченв то самое время, когда уполномоченный вышеназванного графа — Бертейль,выйдя за пределы крепостных стен ради переговоров, вел их с представителямипротивника [8].
- Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,
- Vincasi о per fortuna о per ingegno, [9] —
так, по крайней мере, принято говорить. Впрочем, философ Хрисипп [10]не разделял этого мнения, и я также далек от того, чтобы признать его доконца справедливым. Он говорил, что соревнующиеся в беге должны приложитьвсе свои силы, чтобы опередить остальных; но при этом им никоим образом неразрешается хватать рукою соперника, тем самым задерживать его, илиподставлять ему ногу, чтобы он упал.
И еще благороднее ответ великого Александра Полисперхонту, которыйсоветовал воспользоваться ночной темнотой для неожиданного нападения навойска Дария. «Не в моих правилах, — сказал Александр, — одерживатьуворованную победу» — Malo me fortunae poeniteat, quam victoriae pudeat. [11]
- Atque idem fugientem haud est dignatus Orodem
- Sternere, nec iacta caecum dare cuspide vulnus;
- Obvius, adversoque occurrit, seque viro vir
- Contulit, haud furto melior, sed fortibus armis. [12]
Глава VII
О том, что наши намерения являются судьями наших поступков
Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, чтоэти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключилсоглашение с доном Филиппом, сыном императора Максимилиана, или — чтобыпридать его имени еще больший блеск — отцом императора Карла V, в том, чтовышеупомянутый Филипп передаст в его руки герцога Саффолка, его врага изпартии Белой Розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище вНидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизньэтого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своемусыну в оставленном им завещании немедленно после его кончины умертвитьгерцога Саффолка [1]. Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена намгерцогом Альбой и героями которой были несчастные графы Горн и Эгмонт,заключает в себе много такого, что заслуживает внимания [2]. Так, например,граф Эгмонт, уговоривший своего товарища графа Горна отдаться в руки герцогуАльбе и уверивший его в безопасности этого шага, настойчиво домогалсяумереть первым; он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которымон связал себя по отношению к графу Горну. Но ясно, что в первом израссказанных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как вовтором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его насебя и не умирал. Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил ивозможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вненашей власти, то распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей:она-то и является неизбежно единственной основой и мерилом человеческогодолга. Вот почему граф Эгмонт, и душою и разумом сохранявший верностьданному им обещанию, хотя не имел никакой возможности его исполнить, безсомнения был бы освобожден от своего обязательства, если бы даже и пережилграфа Горна. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего своеслово, никоим образом не может найти себе оправдание в том, что он отложилказнь герцога до своей смерти; равным образом, нет оправдания и томукаменщику у Геродота, который, соблюдая с безупречною честностью в течениевсей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, своего владыки, умирая,открыл ее своим детям [3].
Я видел на своем веку немало таких людей, которые, хотя совесть иуличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легкомирились с этим, рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своейкончины, путем завещания. Такой образ действий ни в коем случае нельзяоправдать: плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, чтожелают возместить причиненный ими убыток ценою столь малых усилий и стольмало поступаясь своей выгодой. Право, им надлежало бы поделиться тем, что имвзаправду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем большетрудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бытакое возмещение и тем больше было бы им заслуги. Раскаяние требует жертв.
Еще хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу ккому-нибудь из своих ближних, выражая ее лишь в последнем изъявлении своейволи. Возбуждая в обиженном неприязнь к их памяти, они показывают тем самым,что мало пекутся о своей чести и еще меньше о совести, ибо не хотят угаситьв себе злобного чувства хотя бы из уважения к смерти и оставляют его житьпосле себя. Они подобны тем неправедным судьям, которые без концаоткладывают свой приговор и выносят его лишь тогда, когда ими уже утраченовсякое представление о сути самого дела.
Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказаланичего такого, чего ранее не сказала моя жизнь.
Глава VIII
О праздности
Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячамивидов сорных и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях,необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определеннымисеменами; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенныегруды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкоепотомство, их необходимо снабдить семенем со стороны, — так же и с нашимумом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его вузде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, побескрайним полям воображения:
- Sicut aquae tremulum labris ubi lumen ahenis
- Sole repercussum, aut radiantis imagine lunae
- Omnia pervolitat late loca, iamque sub auras
- Erigitur, summique ferit laquearia tecti. [1]
И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождал бы наш ум,пребывая в таком возбуждении,
- velut aegri somnia, vanae
- Finguntur species. [2]
Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель,ибо, как говорится, кто везде, тот нигде:
- Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat. [3]
Уединившись с недавнего времени у себя дома [4], я проникся намерениемне заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении ипокое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мнепоказалось, что для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чемпредоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою,сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легчедостигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, болеезрелым. Но я нахожу, что
- variam semper dant otia mentem [5]
и что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задает себево сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И,действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг надруга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желаярассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переноситьих на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится.
Глава IX
О лжецах
Нет человека, которому пристало бы меньше моего затевать разговоры опамяти. Ведь я не нахожу в себе ни малейших следов ее и не думаю, чтобы вовсем мире существовала другая память столь же чудовищно немощная. Всеостальные мои способности незначительны и вполне заурядны. Но в отношенииэтой я представляю собой нечто совсем исключительное и редкостное и потомузаслуживаю, пожалуй, известности и громкого имени.
Не говоря уже о понятных каждому неудобствах, которые я претерпеваю отэтого — ведь, принимая во внимание насущную необходимость памяти, Платон сдостаточным основанием назвал ее великою и могущественною богинею [1], — вмоих краях, если хотят сказать о том или ином человеке, что он совершеннолишен ума, то говорят, что он лишен памяти, и всякий раз, как я принимаюсьсетовать на недостаток своей, меня начинают журить и разуверять, как если быя утверждал, что безумен. Люди не видят различия между памятью испособностью мыслить, и это значительно ухудшает мое положение. Но онинесправедливы ко мне, ибо на опыте установлено, что превосходная памятьвесьма часто уживается с сомнительными умственными способностями. Онинесправедливы еще и в другом отношении: ничто не удается мне так хорошо, какбыть верным другом, а между тем, на моем наречии неблагодарностьобозначается тем же словом, которым именуют также мою болезнь. О силе моейпривязанности судят по моей памяти; природный недостаток перерастает, такимобразом, в нравственный. «Он забыл, — говорят в этих случаях, — исполнитьтакую-то мою просьбу и такое-то свое обещание. Он забывает своих друзей. Онне вспомнил, что из любви ко мне ему следовало сказать или сделать то-то ито-то и, напротив, умолчать о том-то и том-то». Я, и в самом деле, могулегко позабыть то-то и то-то, но сознательно пренебречь поручением, данныммне моим другом, — нет, такого со мной не бывает. Пусть они удовольствуютсямоею бедой и не превращают ее в своего рода коварство, которому таквраждебна моя натура.
Кое в чем я все же вижу для себя утешение. Во-первых, в этом своемнедостатке я нахожу существенную опору, борясь с другим, еще худшим, которыйлегко мог бы развиться во мне, а именно с честолюбием, ибо последнееявляется непосильным бременем для того, кто устранился от жизни большогосвета. Далее, как подсказывают многочисленные примеры подобного рода изжизни природы, она щедро укрепила во мне другие способности в той же мере, вкакой обездолила в отношении вышеназванной. В самом деле, ведь я мог быусыпить и обессилить мой ум и мою проницательность, идя проторенными путями,как это делает целый мир, не упражняя и не совершенствуя своих собственныхсил, если бы, облагодетельствованный хорошею памятью, имел всегда передсобою чужие мнения и измышления чужого ума. Кроме того, я немногословен вбеседе, ибо память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел.Наконец, если бы память была у меня хорошая, я оглушал бы своей болтовнеюдрузей, так как припоминаемые мною предметы пробуждали бы заложенную во мнеспособность, худо ли хорошо ли, владеть и распоряжаться ими, поощряя, темсамым, и воспламеняя мои разглагольствования. А это — сущее бедствие. Яиспытал его лично на деле, в общении с иными из числа моих близких друзей;по мере того, как память воскрешает перед ними события или вещи со всемиподробностями и во всей их наглядности, они до такой степени замедляют ходсвоего рассказа, настолько загромождают его никому не нужными мелочами, что,если рассказ сам по себе хорош, они обязательно убьют его прелесть, если жеплох, то вам только и остается, что проклинать либо выпавшее на их долюсчастье, то есть хорошую память, либо, напротив, несчастье, то есть неумениемыслить. Право же, если кто разойдется, тому нелегко завершить своиразглагольствования или оборвать их на полуслове. А ведь нет лучшего способаузнать силу коня, как испытать его уменье останавливаться сразу и плавно. Нодаже среди дельных людей мне известны такие, которые хотят, да не могутостановить свой разгон. И, силясь отыскать точку, где бы задержать, наконец,свой шаг, они продолжают тащиться, болтая и ковыляя, точно люди,изнемогающие от усталости. Особенно опасны тут старики, которые сохраняютпамять о былых делах, но не помнят о том, что уже много раз повторяли своиповествования. И я не раз наблюдал, как весьма занимательные рассказыстановились в устах какого-нибудь почтенного старца на редкость скучными;ведь каждый из слушателей насладился ими, по крайней мере, добрую сотню раз.Во-вторых, я нахожу для себя утешение также и в том, что моя скверная памятьхранит в себе меньше воспоминаний об испытанных мною обидах; как говаривалодин древний писатель [2], мне нужно было бы составить их список и хранитьего при себе, следуя в этом примеру Дария, который, дабы не забыватьоскорблений, нанесенных ему афинянами, велел своему слуге трижды возглашатьвсякий раз, как он будет садиться за стол: «Царь, помни об афинянах». Далее:местности, где я уже побывал прежде, или прочитанные ранее книги всегдарадуют меня свежестью новизны.
Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на своюпамять, тому нелегко складно лгать. Мне хорошо известно, что грамматикиустанавливают различие между выражениями: «говорить ложно» и «лгать». Ониразъясняют, что «говорить ложно» это значит — говорить вещи, которые несоответствуют истине, но, тем не менее, воспринимаются говорящим какистинные, а также, что слово «лгать» по-латыни — а от латинского словапроизошло и наше французское — означает почти то же самое, что «идти противсобственной совести» [3]. Здесь, во всяком случае, я веду речь лишь о тех,которые говорят одно, а про себя знают другое. А это либо те, чьи слова, таксказать, чистейший вымысел, либо те, кто лишь отчасти скрывает и искажаетистину. Но, слегка скрывая и искажая ее, они рано или поздно, если наводитьих снова и снова на один и тот же сюжет, сами изобличат себя во лжи, так какнемыслимо, чтобы в их воображении не возникало всякий раз то представление овещи, как она есть, которое первым отложилось в их памяти и затем прочнозапечатлелось в ней, закрепившись в процессе познания, а затем и знания еесвойств; а это первоначальное представление понемногу вытесняет из памятивымысел, который не может обладать такой же устойчивостью и прочностью,поскольку обстоятельства первого ознакомления с вещью, всплывая всякий разснова в нашем уме, заслоняют воспоминание о привнесенном извне, ложном иизвращенном. В тех же случаях, когда все сказанное людьми — сплошной вымысели у них самих нет противоречащих этому вымыслу впечатлений, они, очевидно,имеют меньше оснований опасаться промаха. Однако и тут, раз их вымысел —призрак, нечто неуловимое, он так и стремится ускользнуть из их памяти, еслиона недостаточно цепкая.
Я частенько наблюдал подобные промахи, и, что всего забавнее, ониприключались именно с теми, кто, можно сказать, сделал своею профессиейстроить свою речь так, чтобы она помогала в делах, а также была бы приятнавлиятельным лицам, к которым обращена. Но раз обстоятельства, которым ониготовы подчинить душу и совесть, подвержены бесчисленным изменениям, то и имприходится бесконечно разнообразить свои слова. А это приводит к тому, чтоту же самую вещь они принуждены называть то серой, то желтой, и перед однимиз своих собеседников утверждать одно, а перед другим — совершенно другое.Если те при случае сопоставят столь несходные между собой суждения, то вочто превращается великолепное искусство этих говорунов? А кроме того, и онисами, забывая об осторожности, изобличают себя во лжи, ибо какая же памятьспособна вместить такое количество вымышленных, несхожих друг с другомобразов одного и того же предмета? Я встречал многих моих современников,завидовавших славе, которою пользуются обладатели этой блистательнойразновидности благоразумия. Они не замечают, однако, того, что слава славою,а толку от нее — никакого.
И, действительно, лживость — гнуснейший порок. Только слово делает наслюдьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мысознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы егосожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление. Я нахожу,что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что;что их карают за проступки, совершенные по неведению и неразумию и невлекущие за собой никаких последствий. Одна только лживость и, пожалуй, внесколько меньшей мере, упрямство кажутся мне теми из детских пороков, сзарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться.Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь лжи, прямоудивительно, до чего трудно возвратить его к правде! От этого и проистекает,что мы встречаем людей, в других отношениях вполне честных идобропорядочных, но покоренных и порабощенных этим пороком. У меня естьпортной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотябы словечка правды, и притом даже тогда, когда она могла бы доставить емутолько выгоду.
Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бызначительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположноетому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысячобличий и не имеет пределов.
Пифагорейцы считают, что благо определенно и ограниченно, тогда как злонеопределенно и неограниченно. Тысячи путей уводят от цели, и лишьодин-единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже радипредотвращения грозящей мне величайшей беды я мог бы заставить себявоспользоваться явной и беззастенчивой ложью.
Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществезнакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам не знаком: Ut externusalieno non sit hominis vice. [4] Но насколько же лживый язык, как средствообщения, хуже молчания!
Король Франциск I хвалился, как ловко он обвел вокруг пальца посламиланского герцога Франческе Сфорца — Франческо Таверну, человека весьмапрославленного в искусстве заговаривать зубы своему собеседнику. Тот былпослан ко двору вашего короля, чтобы принести его величеству извинениясвоего государя в связи c одним весьма важным, излагаемым ниже делом.Король, которого незадолго до того вытеснили из Италии и даже из Миланскойобласти, желая располагать сведениями обо всем, что там происходит, придумалдержать при особе миланского герцога одного дворянина, в действительностисвоего посла, но проживавшего под видом частного человека, приехавшего тудаякобы по своим личным делам. И это было тем более необходимо, что герцог,завися больше от императора, чем от нас, а в то время особенно, так каксватался за его племянницу, дочь короля Дании, ныне вдовствующую герцогинюлотарингскую, не мог, не причиняя себе большого ущерба, открыто поддерживатьс нами сношения и вступать в какие либо переговоры. Лицом, подходящим дляподдержания связи между обоими государями, и оказался некто Мервейль,королевский конюший и миланский дворянин [5]. Этот последний, снабженныйтайными верительными грамотами и инструкциями, которые вручаются обычнопослам, а также, для отвода глаз и соблюдения тайны, рекомендательнымиписьмами к герцогу, относившимися к личным делам этого дворянина, провел примиланском дворе столь долгое время, что вызвал неудовольствие императора,каковое обстоятельство, как мы предполагаем, и явилось истинною причинойвсего происшедшего дальше. А случилось вот что: воспользовавшись какпредлогом каким-то убийством, герцог приказал в два дня закончить судебноеразбирательство и повелел в одну прекрасную ночь отрубить голову названномуМарвейлю. И так как король, требуя удовлетворения, обратился по поводу этогодела с посланием ко всем христианским государям, в том числе и к самомумиланскому герцогу, мессер Франческо, посол последнего, заготовилпространное и лживое изложение этой истории, которое и представил королю вовремя утреннего приема.
В нем он утверждал, стремясь обелить своего господина, что тот никогдане считал Мервейля не кем иным, как частным лицом, миланским дворянином исвоим подданным, прибывшим в Милан ради собственных дел и пребывавшим тамисключительно в этих целях; далее, он решительно отрицал, будто герцогу былоизвестно о том, что Мервейль состоял на службе у короля Франциска и даже,что этот последний знал его лично, вследствие чего у герцога не былорешительно никаких оснований смотреть на Мервейля, как на посла короляФранциска. Король, однако, тесня его, в свою очередь, различными вопросами ивозражениями, подкапываясь под него различными способами и прижав, наконец,к стене, потребовал у посла объяснения, почему же, в таком случае, казньбыла произведена ночью и как бы тайком. На этот последний вопрос бедняга,запутавшись окончательно и стремясь соблюсти учтивость, ответил, что герцог,глубоко почитая его величество, был бы весьма опечален, если бы подобнаяказнь была совершена днем. Нетрудно представить себе, что, допустив такойгрубый промах, к тому же перед человеком с таким тонким нюхом, как корольФранциск I, он был тут же пойман с поличным [6].
Папа Юлий II направил в свое время посла к английскому королю споручением восстановить его против вышеназванного французского короля. Послетого, как посол изложил все, что было ему поручено, английский король [7],отвечая ему, заговорил о трудностях, с которыми, по его мнению, сопряженаподготовка к войне со столь могущественной державой, как Франция, и привел вподкрепление своих слов несколько соображений. Посол весьма некстати заметилна это, что и он подумал обо всем этом и даже сообщил о своих сомненияхпапе. Эти слова, очень плохо согласовавшиеся с целями посольства,состоявшими в том, чтобы побудить английского короля немедленно же начатьвойну, вызвали у этого последнего подозрение, впоследствии подтвердившеесяна деле, что посол в душе был на стороне Франции. Он сообщил об этом папе;имущество посла было конфисковано, и сам он едва не поплатился жизнью.
Глава Х
О речи живой и о речи медлительной
- Не всем таланты все дарованы бывают [1]
Это относится, как мы можем убедиться, и к красноречию; однимсвойственна легкость и живость в речах, и они, как говорится, за словом вкарман не полезут, во всеоружии всегда и везде, тогда как другие, болеетяжелые на подъем, напротив, не вымолвит ни единого слова, не обдумавпредварительно своей речи и основательно не поработав над нею. И подобнотому, как дамам советуют иногда, в каких играх и телесных упражнениях имлучше участвовать, чтобы выставить напоказ все, что в них есть самогопривлекательного [2], так и я на вопрос, какой из этих двух видовкрасноречия, которым в наше время пользуются преимущественно проповедники иадвокаты, под стать первым и какой — вторым, я посоветовал бы человеку,говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо,адвокатом. Ведь обязанности первого предоставляют ему сколько угодно досугадля подготовки, а кроме того, его деятельность постоянно протекает в одномнаправлении, спокойно и ровно, в то время как обстоятельства, в которыхживет и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку,причем неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла и ему тутже на месте приходится изыскивать новые приемы защиты.
Между тем, при свидании папы Климента с королем Франциском,происходившем в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуайе [3],человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся ивысоко там ценимый, получив поручение произнести приветственную речь папе,имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нею и, какговорят, привез ее из Парижа в совершенно готовом виде. Но в тот самый день,когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы вприветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задетьнаходившихся при нем послов других государей, уведомил короля о желательноми, по его мнению, соответствующем месту и времени содержании речи. Кнесчастью, однако, это было совсем не то, над чем трудился господин Пуайе,так что подготовленная им речь оказалась ненужною, и ему надлежало вкратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособнымк выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу ДюБелле [4].
Труд адвоката сложнее труда проповедника, и все же мы встречаем,по-моему, больше сносных адвокатов, чем проповедников. Так, по крайней мере,обстоит дело во Франции.
Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота ивнезапность, тогда как уму — основательность и медлительность. Но как тот,кто, не располагая досугом для подготовки, остается немым, так и тот, ктоговорит одинаково хорошо, независимо от того, располагал ли он перед этимдосугом, представляют собою крайности. О Севере Кассии [5] рассказывают, чтоон говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи ичто своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказываюттакже, что ему шло на пользу, если его раздражали во время произнесенияречи, и что противники остерегались задевать его за живое, опасаясь, как быгнев не удвоил его красноречия [6]. Я знаю, по личному опыту, людей с такимскладом характера, с которым несовместима кропотливая и напряженнаяподготовка. Если у таких людей мысль в том или ином случае не течет легко исвободно, она становится не способною к чему-либо путному. Мы говорим обиных сочинениях, что от них несет маслом и лампой, так как огромный труд,который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости инеуклюжести. К тому же стремление сделать как можно лучше и напряженностьдуши, чрезмерно скованной и поглощенной делом, искажают ее творение,калечат, душат его, вроде того, как это происходит иногда с водой, котораябудучи сжата и стеснена своим собственным напором и изобилием, не находитдля себя выхода из открытого, но слишком узкого для нее отверстия.
У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногдатак: им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как,например, ярость Кассия, — такое волнение было бы для них слишком грубым; ихнатура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении — в каких-либо особыхвпечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного склада,предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Легкое волнение придает емужизнь и пробуждает талант.
Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. Случай имеет надо мнойбольшую власть, чем я сам. Обстоятельства, общество, в котором я нахожусь,наконец, звучание моего голоса извлекают из моего ума больше, чем я мог быобнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребусебе самому.
Мои речи, вследствие этого, стоят больше, чем мои писания, если вообщедопустимо выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности.
Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу, и, вообще, ячаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощисамоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкоеи остроумное (я очень хорошо понимаю, что для другого может быть плохо то,что для меня очень хорошо; оставим ложную скромность: каждый старается вмеру своих способностей). И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает,что я уже больше не знаю, что я хотел сказать; и случается, что стороннийчеловек понимает меня лучше, чем я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякийраз, когда в этом является надобность [7], от меня бы ровно ничего неосталось. Но может настать такой час, когда забытое мною озарится светомболее ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моейтеперешней растерянности.
Глава XI
О предсказаниях
Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться ещезадолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пыталсяустановить причины постигшего их упадка: Cur isto modo iam oracula Delphisnon eduntur non modo nostra aetate sed iamdiu ut modo nihil possit essecontemptius? [1] Но что касается другихпредсказаний: по костям и внутренностям приносимых в жертву животных, укоторых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мереприспособлено к этому [2], по тому, как роются в земле куры, по полетуразличных птиц, aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus, [3] помолнии, по извилинам рек, multa cernunt aruspices, multa augures provident,multa oraculis declarantur, multa vaticinationibus, multa somniis, multaportentis [4] и иным приметам, на которых древние по большей части основывалисвои начинания, как государственные, так и частные, то наша религияупразднила их. Но все же и у нас сохраняются кое-какие способы заглядывать вбудущее: при помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и ещемногого другого, что служит ясным свидетельством неудержимого любопытстванашей души, жаждущей заглянуть в будущее, точно ей не хватает забот внастоящем:
- cur hans tibi rector Olympi
- Sollicitis visum mortalibus addere curam,
- Noscant venturas ut dira per omina clades,
- Sit subitum quodcunque paras, sit caeca futuri
- Mens hominum fati, liceat sperare timenti. [5]
Ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Miserum est enim nihilproficientem angi, [6] и это,действительно, так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами.
Вот почему случившееся с Франческо, маркизом Салуцким, показалось мневесьма примечательным. Командуя той армией короля Франциска, что находиласьпо ту сторону гор, бесконечно обласканный нашим двором, обязанный королюсвоим титулом и своими владениями, конфискованными у его брата и отданнымимаркизу, не имея, наконец, ни малейшего повода к измене своему государю, темболее, что душа его противилась этому, он позволил запугать себя (как быловыяснено впоследствии) предсказаниями об успехах, ожидающих в будущемимператора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепыхпредсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получилинастолько широкое распространение, что, вследствие слухов о грозящем намякобы разгроме, в Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставяогромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своимприближенным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, надфранцузской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов, онподнял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшимнесчастьем, каково бы ни было расположение звезд. Но он вел себя при этомкак человек, раздираемый противоположными побуждениями, ибо, имея в своихруках различные города и военную славу, находясь всего в двух шагах отнеприятельских войск под начальством Антонио де Лейва [7], он мог бы,пользуясь нашим неведением о задуманной им измене, причинить значительнобольше вреда. Ведь его предательство не стоило ни одной жизни, ни одногогорода, кроме Фоссано [8], да и то после долгой борьбы за него.
- Prudens futuri temporis exitum
- Caliginosa nocte premit Deus,
- Ridetque si mortalis ultra
- Fas trepidat.
- . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ille potens sul
- Laetusque deget, cui licet in diem
- Dixisse: Vixi. Cras vel atra
- Nube polum paler occupato
- Vel sole puro. [9]
- Laetus in praesens animus, quod ultra est,
- Oderit curare. [10]
Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами:Ista sic reciprocantur, ut et, si divinatio sit, dii sint; et, si dii sint,sit divinatio. [11] Гораздо разумнее говорит Пакувий:
- Nam istis qui linguam avium intelligunt,
- Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo,
- Magis audiendum quam auscultandum censeo. [12]
Столь прославленное искусство тосканцев [13] угадывать будущее возниклоследующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большойпласт земли, увидел, как из-под него вышел Тагет, полубог с лицом ребенка имудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по частигаданий собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли [14].Дальнейшее развитие этого искусства стоит его возникновения.
Что до меня, то я предпочел бы руководствоваться в своих делах скореесчетом очков брошенных мною игральных костей, чем подобными бреднями.
И действительно, во всех государствах с республиканским устройством надолю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданномфантазией Платона, он предоставляет жребию решать многие важные вещи. Междупрочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключалисьпосредством жребия; этому случайному выбору он придает настолько большоезначение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должнывоспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежитизгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-нибудь из изгнанников, выросши,обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращен на родину; равнымобразом, кто из составленных на родине, достигнув юношеского возраста, неоправдает надежд, тот может быть, в свою очередь, изгнан в чужие края.
Я знаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи [15], ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Нопоскольку в таких альманах можно найти все, что угодно, в них, очевидно,наряду с ложью должна содержаться и доля правды. Quis est enim qui totumdiem iaculans non aliquando conlineet? [16] Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу пороюих правоту. Уж лучше бы они всегда лгали: тогда люди знали бы, что о нихдумать. Добавим, что никто не ведет счета их промахам, как бы часты и обычныони ни были; что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то импридают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутсянам чем-то непостижимым и изумительным. Вот как Диагор, по прозвищу Атеист,находясь в Самофракии, ответил тому, кто, показав ему в храме многочисленныедарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении,обратился к нему с вопросом: «Ну вот, ты, который считаешь, что богамглубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасенныхмилосердием?» «Пусть так, — ответил Диагор. — Но ведь тут нет изображенийутонувших, а их несравненно больше». Цицерон говорит, что между всемифилософами, разделявшими веру в богов, один Ксенофан Колофонский пыталсябороться с предсказателями разного рода [17]. Тем менее удивительно, чтоиные из наших властителей, как мы видим, все еще придают значение подобнойнелепости, и нередко себе во вред.
Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгуИоахима, аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап, их имена и ихоблик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров ипатриархов [18]. Но собственными глазами я видел лишь вот что: во временаобщественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются вовласть суеверий и пытаются выискать в небесных знамениях причину ипредвестие обрушившихся на них несчастий. И так как мои современникиобнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришел к убеждению,что, поскольку для умов острых и праздных это занятие не что иное, какразвлечение, всякий, кто склонен к такого рода умствованиям, кто умеетповернуть их то в ту, то в другую сторону, может отыскать в любых писанияхвсе, чего бы он ни искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей —это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, вкоторые авторы этих книг не вложили определенного смысла с тем, чтобыпотомство находило здесь все, чего бы ни пожелало.
«Демон» Сократа [19] был, по-видимому, неким побуждением его воли,возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, стольвозвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением вмудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, быливсегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той илииной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие унего стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумиюнаших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие побуждения. Нередко яи сам их испытывал; они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают откакой-либо вещи, — последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этимпобуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливымпоследствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вродебожественного внушения.
Глава XII
О стойкости
Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, тоэто вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, отугрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно, и опасаться, какбы они не постигали его. Напротив, все средства — при условии, что они небесчестны, — способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не толькодозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мынуждаемся в ней, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средствбороться. Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во времябоя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленныйна нас удар.
Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с полясражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, иони оборачивались к нему спиною с большей опасностью для него, чем если быстояли к нему лицом.
Турки и сейчас еще знают толк в этом деле.
Сократ — у Платона — потешается над Лахесом, определявшим храбростьследующим образом: «Неколебимо стоять в строю перед лицом врага». — «Как! —восклицает Сократ. — Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая предним?» И в подкрепление своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энеяза уменье искусно применять бегство. А после того как Лахет, подумав, долженбыл признать, что таков действительно обычай у скифов, да и вообще у всехконных воинов, Сократ привел ему в пример еще пехотинцев-лакедемонян, народ,столь привыкший стойко сражаться в пешем строю: в битве при Платеях, послебезуспешных попыток прорвать фалангу персов, они решили рассыпаться иподаться назад, чтобы, создав, таким образом, видимость бегства, разорвать ирассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаряэтой хитрости они добились победы [1].
Относительно скифов рассказывают, будто Дарий во время похода,предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя сжестокими упреками за то, что он непрерывно отступает пред ним и уклоняетсяот открытого боя. На что Индатирс [2] — таково было имя царя — ответил, чтоотступает не из страха пред ним, ибо вообще не боится никого на свете, нопотому, что таков обычай скифов на войне; ведь у них нет ни возделываемыхполей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг имине поживился. Однако, добавил он, если Дарию так уж не терпится сойтись спротивником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятсямогилы предков Индатирса: там он найдет, с кем померяться силами.
И все же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случаетсяна войне, считается позорным бояться ядер, поскольку принято думать, что отних все равно не спастись вследствие их стремительности и мощи. И не разбывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонялголову, вызывал, по меньшей мере, хохот товарищей.
Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императораКарла V против нас. Маркиз дель Гуасто, отправившись на разведку к городуАрлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившейприблизиться к городу, был замечен господами де Бонневалем и сенешалемАженуа, которые прохаживались в амфитеатре арльского цирка. Последниеуказали на маркиза дель Гуасто господину де Вилье, начальнику артиллерии, итот так метко навел кулеврину [3], что если бы названный выше маркиз,заметив, что по нем открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то,наверно, получил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло за нескольколет перед тем и с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, материнашего короля [4], во время осады Мондольфо, крепости в Италии,расположенной в области, называемой Викариатом [5]: увидев, что уже поднеслифитиль к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросилсяна землю, нырнув, можно сказать, словно утка. Ибо иначе ядро, котороепронеслось почти над его головой, угодило бы, без сомнения, ему прямо вживот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились намиобдуманно, ибо, как можно составить себе суждение, высок ли прицел илинизок, когда все совершается с такою внезапностью? И гораздо вернее будетпредположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба ичто, действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехомугодить под ядро, как и избегнуть его попадания.
Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притомв таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могуудержаться от дрожи; мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалосьи с другими людьми, которые похрабрее меня.
Даже стоикам, и тем ясно, что душа мудреца, как они себе егопредставляют, неспособна устоять перед внезапно обрушившимися на неевпечатлениями и образами и что этот мудрец отдает законную дань природе,когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохотобвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти: лишь бы мысльсохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум, оставаясьнепоколебимым и верным себе, не поддался чувству страха или страдания. Стеми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, еслииметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если — вторую. Ибоу людей обычного склада действие страстей не остается поверхностным, нопроникает в глубины их разума, заражая и отравляя его. Такой человек мыслитпод прямым воздействием страстей и как бы повинуясь им. Вот вам полное иверное изображение душевного состояния мудреца-стоика:
- Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes. [6]
Мудрец, в понимании перипатетиков, не свободен от душевных потрясений,но он умеряет их.
Глава XIII
Церемониал при встрече царствующих особ
Нет предмета, сколь бы ничтожен он ни был, который оказался бынеуместным среди этой моей причудливой смеси. Согласно принятым у насправилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а темболее к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, еслион предуведомил нас о своем прибытии. Больше того, королева НаваррскаяМаргарита [1] добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливовыйти из дому, как это часто случается, навстречу тому, кто должен егопосетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее иучтивее ожидать его у себя, хотя бы из опасения разминуться с ним в пути, ичто в таких случаях достаточно проводить его в предназначенные ему покои.
Что до меня, то я частенько забываю как о той, так и о другой из этихпустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякиецеремонии. Есть люди, которые иногда на это обижаются. Но что поделаешь!Лучше обидеть кого-нибудь один-единственный раз, чем постоянно терпетьсамому обиду: это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чемубежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственнойберлоге?
А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякогорода: оно гласит, что нижестоящим подобает являться первыми, тогда как лицамболее видным приличествует, чтобы их дожидались. Однако же перед встречеюпапы Климента с королем Франциском, имевшею произойти в Марселе, король,отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставивпапе в течение двух или трех дней устраиваться и отдыхать, и лишь послеэтого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот жепапа и император назначили встречу в Болонье, император предоставил папевозможность прибыть туда первым, сам же приехал несколько позже. Присвиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие,следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагаетсябыть в назначенном месте прежде других и даже прежде того государя, в чьихвладениях происходит встреча; считают, что эта уловка применяется ради того,чтобы таким способом создать видимость, будто низшие разыскивают высшего идомогаются встречи с ним, а не наоборот.
Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждогосословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошовоспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобызнать законы нашей французской учтивости; больше того, я в состояниипреподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно,чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся намстеснительными, и если мы забываем их предумышленно, а не поневоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередковстречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, чтоони были чересчур учтивы, и несносны вследствие того, что были чересчурвежливы.
А впрочем, уменье держать себя с людьми — вещь очень полезная. Подобнолюбезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствуетустановлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться напримере других и, вместе с тем, подавать пример и выказывать себя с хорошейстороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания ипоучительное для окружающих.
Глава XIV
О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них
Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи,а представления, которые они создали себе о них [1]. И если бы кто-нибудьмог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайномного для облегчения нашей жалкой человеческой участи. Ведь если страдания ивпрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей властилибо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себяв наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и неприспособить к нашей собственной выгоде? И если то, что мы называем злом имучением, не есть само по себе ни зло, ни мучение, и только наше воображениенаделяет его подобными качествами, то не кто иной, как мы сами, можемизменить их на другие. Располагая свободой выбора, не испытывая никакогодавления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие,отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищетуи позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этотпривкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и намсамим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно лидоказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таковым, или,по крайней мере, чем бы оно ни являлось, — что от нас самих зависит придатьему другой привкус и другой облик, ибо все, в конце концов, сводится кэтому.
Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагаласама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы всознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы ивсе они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями исредствами познания и суждения. Однако различие в представлениях об одних итех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, чтоэти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашимисклонностями; кто-нибудь, быть может, и воспринимает их, по счастливойслучайности в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча прочих видит вних совершенно иную, непохожую сущность.
Мы смотрим на смерть, нищету и страдание, как на наших злейших врагов.Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшею извсех ужасных вещей, для других — единственное прибежище от тревог здешнейжизни, высшее благо, источник нашей свободы, полное и окончательноеосвобождение от всех бедствий? И в то время, как одни в страхе и трепетеожидают ее приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни.
Есть даже такие, которые сожалеют о ее доступности для каждого:
- Mors utinam pavidos vita subducere nolles,
- Sed virtus te sola daret. [2]
Но не будем вспоминать людей прославленной доблести, вроде Теодора,который сказал Лисимаху, угрожавшему, что убьет его: «Ты свершишь в такомслучае подвиг, посильный и шпанской мушке!» [3] Большинство философов самисебе предписали смерть или, содействуя ей, ускорили ее.
А сколько мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, ипритом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и сужасающими мучениями, сохраняли такое присутствие духа, — кто из упрямства,а кто и по простоте душевной, — что в них не замечалось никакой перемены посравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжения относительносвоих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательнымии иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и, совсемкак Сократ, пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели нависелицу, заявил, что не следует идти этой улицей, так как он можетвстретиться с лавочником, который схватит его за шиворот: за ним есть старыйдолжок. Другой просил палача не прикасаться к его шее, чтобы он не затряссяот смеха, до такой степени он боится щекотки. Третий ответил духовнику,который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим Спасителем:«В таком случае, отправляйтесь-ка туда сами; что до меня, то я нынчепощусь». Четвертый пожелал пить и, так как палач пригубил первым, сказал,что после него ни за что не станет пить, так как боится заболеть дурноюболезнью. Кто не слышал рассказа об одном пикардийце? Когда он уже стоял уподножия виселицы, к нему подвели публичную женщину и пообещали, что если онсогласится жениться на ней, то ему будет дарована жизнь (ведь нашеправосудие порою идет на это); взглянув на нее и заметив, что она припадаетна одну ногу, он крикнул: «Валяй, надевай петлю! Она колченогая». Существуетрассказ в таком же роде об одном датчанине, которому должны были отрубитьголову. Стоя уже на помосте, он отказался от помилования на сходных условияхлишь потому, что у женщины, которую ему предложили в жены, были ввалившиесящеки и чересчур острый нос. Один слуга из Тулузы, обвиненный в ереси, вдоказательство правильности своей веры мог сослаться только на то, чтотакова вера его господина, молодого студента, заключенного вместе с ним втемницу; он пошел на смерть, так и не позволив себе усомниться в правотесвоего господина. Мы знаем из книг, что когда Людовик XI захватил городАррас, среди его жителей оказалось немало таких, которые предпочли бытьповешенными, лишь бы не прокричать: «Да здравствует король!».
В царстве Нарсингском [4] жены жрецов и посейчас еще погребаются заживовместе со своими умершими мужьями. Всех прочих женщин сжигают живыми напохоронах их мужей, и они умирают не только с поразительной стойкостью, но,как говорят, даже с радостью. А когда предается сожжению тело ихскончавшегося государя, все его жены, наложницы, любимицы и должностные лицавсякого звания, а также слуги, образовав большую толпу, с такой охотойсобираются у костра, чтобы броситься в него и сгореть вместе со своимвластелином, что, надо полагать, у них почитается великою честьюсопутствовать ему в смерти.
А что сказать об этих низких душонках — шутах? Среди них попадаютсяпорой и такие, которые не хотят расставаться с привычным для нихбалагурством даже перед лицом смерти. Один из них, когда палач, вешая его,уже вышиб из-под него подставку, крикнул: «Эх, где наша не пропадала!» — чтобыло его излюбленной прибауткой. Другой, лежа на соломенном тюфяке у самогоочага и находясь при последнем издыхании, ответил врачу, спросившему, гдеименно он чувствует боль: «между постелью и очагом». А когда пришелсвященник и, желая совершить над ним обряд соборования, стал нащупывать егоступни, которые он от боли подобрал под себя, он сказал: «Вы найдете их наконцах моих ног». Тому, кто убеждал его вручить себя нашему господу, онзадал вопрос: «А кто же меня доставит к нему?» и, когда услышал в ответ:«Быть может, вы сами, если будет на то его божья воля», то сказал: «Но ведья буду у него, пожалуй, лишь завтра вечером». — «Вы только вручите себя еговоле, — заметил на это его собеседник, — и вы окажетесь там очень скоро». —«В таком случае, — заявил умирающий, — уж лучше я сам себя и вручу ему» [5].
Во время наших последних войн за Милан, когда он столько раз переходилиз рук в руки, народ, истомленный столь частыми превратностями судьбы,настолько проникся жаждою смерти, что, по словам моего отца, он видел тамсписок, в котором насчитывалось не менее двадцати пяти взрослых мужчин,отцов семейств, покончивших самоубийством в течение одной только недели [6].Нечто подобное наблюдалось и при осаде Брутом города Ксанфа [7]; егожителей, — мужчин, женщин, детей — охватило столь страстное желание умереть,что люди, стремясь избавиться от грозящей им смерти, не прилагают к этомустолько усилий, сколько приложили они, чтобы избавиться от ненавистной имжизни; и Бруту с трудом удалось спасти лишь ничтожное их число.
Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людейотстаивать его даже ценою жизни.
Первый пункт той прекрасной и возвышенной клятвы, которую принесла исдержала Греция во время греко-персидских войн, гласил, что каждый скореесменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские [8]. А скольмногие во время греко-турецких войн предпочитали умереть мучительнойсмертью, лишь бы не осквернить обрезания и не подвергнуться обряду крещения!И нет религии, которая не могла бы побудить к чему-либо подобному.
После того как кастильские короли изгнали из своего государства евреев,король португальский Иоанн [9] предоставил им в своих владениях убежище,взыскав по восемь экю с души и поставив условием, чтобы к определенномусроку они покинули пределы его королевства; он обещал для этой целиснарядить корабли, которые должны будут перевезти их в Африку. В назначенныйдень, по истечении коего все не подчинившиеся указу, согласно сделанному импредупреждению, обращались в рабов, им были предоставлены весьма скудноснаряженные корабли. Те, кто взошел на них, подверглись жесткому и грубомуобращению со стороны судовых команд, которые, не говоря уже о другихиздевательствах, возили их по морю взад и вперед, пока изгнанники не съеливсех взятых с собою припасов и не оказались вынуждены покупать их у моряковпо таким баснословным ценам, что к тому времени, когда, наконец, их высадилина берег, они были обобраны до нитки.
Когда известие об этом бесчеловечном обращении распространилось средиоставшихся в Португалии, большинство предпочло стать рабами, а некоторыепритворно выразили готовность переменить веру. Король Мануэль, наследовавшийИоанну, сначала возвратил им свободу, но затем, изменив свое решение,установил новый срок, по истечении коего им надлежало покинуть страну, длячего были выделены три гавани, где им предстояло погрузиться на суда. Онрассчитывал, как говорит в своей превосходно написанной на латыни книгеисторик нашего времени епископ Озорно [10], что если блага свободы, которуюон им даровал, не могли склонить их к христианству, то к этому их принудитстрах подвергнуться, подобно ранее уехавшим соплеменникам, грабежу состороны моряков, а также нежелание покинуть страну, где они привыклирасполагать большими богатствами, и отправиться в чужие, неведомые края. Ноубедившись, что надежды его были напрасны и что евреи, несмотря ни на что,решили уехать, он отказался предоставить им две гавани из числапервоначально назначенных трех, рассчитывая, что продолжительность итрудности переезда отпугнут некоторых из них, или имея в виду собрать ихвсех в одно место, дабы с большим удобством исполнить задуманное. А задумалон вот что: он повелел вырвать из рук матерей и отцов всех детей, недостигших четырнадцатилетнего возраста, чтобы отправить их в такое место,где бы они не могли ни видеться, ни общаться с родителями, и там воспитатьих в нашей религии. Говорят, что это приказание явилось причиной ужасногозрелища. Естественная любовь родителей к детям и этих последних к родителям,равно как и рвение к древней вере не могли примириться с этим жестокимприказом. Здесь можно было увидеть, как родители кончали с собой; можно былоувидеть и еще более ужасные сцены, когда они, движимые любовью исостраданием к своим маленьким детям, бросали их в колодцы, чтобы хоть этимпутем избежать исполнения над ними закона. Пропустив назначенный для нихсрок из-за нехватки кораблей, они снова были обращены в рабство. Некоторыеиз них стали христианами, однако и теперь, по прошествии целых ста лет, малокто в Португалии верит в искренность их обращения или приверженностьхристианскому исповеданию их потомства, хотя привычка и время действуютгораздо сильнее, чем принуждение [11]. Quoties non modo ductores nostri, —говорит Цицерон, — sed universi etiam exercitus ad non dubiam mortemconcurrerunt. [12]
Мне привелось наблюдать одного из моих ближайших друзей, который всейдушой стремился к смерти: это была настоящая страсть, укоренившаяся в нем иподкрепляемая рассуждениями и доводами всякого рода, страсть, от которой яне в силах был его отвратить; и при первой же возможности покончить с собойпри почетных для него обстоятельствах он, без всяких видимых оснований,устремился навстречу смерти, влекомый мучительной и жгучей жаждой ее.
Мы располагаем примерами подобного рода и для нашего времени, вплоть додетей, которые из боязни какой-нибудь ничтожной неприятности накладывали насебя руки. «Чего только мы ни страшимся, — говорит по этому поводу одиндревний писатель [13], — если страшимся даже того, что трусость избраласвоим прибежищем?» Если бы я стал перечислять всех лиц мужского и женскогопола, принадлежавших к различным сословиям, исповедовавших самую различнуюверу, которые даже в былые, более счастливые времена с душевной твердостьюждали наступления смерти, больше того, сами искали ее, одни — чтобыизбавиться от невзгод земного существования, другие — просто от пресыщенияжизнью, третьи — в чаянии лучшего существования в ином мире, — я никогда быне кончил. Число их столь велико, что поистине мне легче было бы перечестьтех, кто страшился смерти.
Только вот еще что. Однажды во время сильной бури философ Пиррон [14],желая ободрить некоторых из своих спутников, которые, как он видел, боялисьбольше других, указал им на находившегося вместе с ними на корабле борова,не обращавшего ни малейшего внимания на непогоду. Так что же, решимся ли мыутверждать, что преимущества, доставляемые нашим разумом, которым мы такгордимся и благодаря которому являемся господами и повелителями прочихтварей земных, даны нам на наше мучение? К чему нам познание вещей, еслииз-за него мы теряем спокойствие и безмятежность, которыми в противномслучае обладали бы, и оказываемся в худшем положении, чем боров Пиррона? Неупотребим ли мы во вред себе способность разумения, дарованную нам радинашего вящего блага, если будем применять ее наперекор целям природы иобщему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы ивозможности на пользу себе?
Мне скажут, пожалуй: «Ваши соображения справедливы, пока речь идет осмерти. Но что скажете вы о нищете? Что скажете вы о страдании, на котороеАристипп [15], Иероним и большинство мудрецов смотрели как на самое ужасноеиз несчастий? И разве отвергавшие его на словах не признавали его на деле?»Помпей, придя навестить Посидония [16] и застав его терзаемым тяжкой имучительной болезнью, принес свои извинения в том, что выбрал стольнеподходящее время, чтобы послушать его философские рассуждения. «Да недопустят боги, — ответил ему Посидоний, — чтобы боль возымела надо мнойстолько власти и могла воспрепятствовать мне рассуждать и говорить об этомпредмете». И он сразу же пустился в рассуждения о презрении к боли. Междутем она делала свое дело и ни на мгновение не оставляла его, так что он,наконец, воскликнул: «Сколько бы ты, боль, ни старалась, твои усилия тщетны;я все равно не назову тебя злом». Этот рассказ, которому придают столькозначения, свидетельствует ли он в действительности о презрении к боли? Здесьидет речь лишь о борьбе со словами. Ведь если бы страдания не беспокоилиПосидония, с чего бы ему прерывать свои рассуждения? И почему придавал онтакую важность тому, что отказывал боли в наименовании ее злом?
Здесь не все зависит от воображения. Если в иных случаях мы и следуемпроизволу наших суждений, то тут есть некая достоверность, которая сама засебя говорит. Судьями в этом являются наши чувства:
- Qui nisi sunt veri, ratio quoque falsa sit omnis. [17]
Можем ли мы заставить нашу кожу поверить, что удары бича лишь щекочутее? Или убедить наши органы вкуса, что настойка алоэ — это белое вино? БоровПиррона — еще одно доказательство в нашу пользу. Он не знает страха передсмертью, но, если его начнут колотить, он станет визжать и почувствует боль.Можем ли мы побороть общий закон природы, согласно которому все живущее наземле боится боли? Деревья — и те как будто издают стоны, когда им наносятувечья. Что касается смерти, то ощущать ее мы не можем; мы постигаем еетолько рассудком, ибо от жизни она отделена не более, чем мгновением:
- Aut fuit, aut veniet, nihil est praesentis in illa,
- Morsque minus poenae quam mora mortis habet. [18]
Тысячи животных, тысячи людей умирают прежде, чем успеваютпочувствовать приближение смерти. И действительно, когда мы говорим, чтострашимся смерти, то думаем прежде всего о боли, ее обычной предшественнице.
Правда, если верить одному из отцов церкви, malam mortem non facit,nisi quod sequitur mortem. [19] Но, мне кажется, правильнее было бы сказать, что ни то,что предшествует смерти, ни то, что за ней следует, собственно к ней неотносится. Мы извиняем себя без достаточных оснований. И, как говорит опыт,дело тут скорее в невыносимости для нас мысли о смерти, которая делаетневыносимой также и боль, мучительность которой мы ощущаем вдвойне,поскольку она предвещает нам смерть. Но так как разум бросает нам упрек вмалодушии за то, что мы боимся столь внезапной, столь неизбежной и стольнеощутимой вещи, мы прибегаем к этому, наиболее удобному оправданию своегостраха.
Любую болезнь, если она не таит в себе никакой другой опасности, кромепричиняемых ею страданий, мы зовем неопасною. Кто же станет считать зубнуюболь или, скажем, подагру, как бы мучительны они ни были, настоящейболезнью, раз они не смертельны? Но допустим, что в смерти нас больше всегопугает страдание, — совершенно так же, как и в нищете нет ничего страшного,кроме того, что, заставляя нас терпеть голод и жажду, зной и холод,бессонные ночи и прочие невзгоды, она делает нас добычей страдания.
Так вот, будем вести речь только о физической боли. Я отдаю ей должное:она — наихудший из спутников нашего существования, и я признаю это с полнойготовностью. Я принадлежу к числу тех, кто ненавидит ее всей душой, ктоизбегает ее, как только может, и, благодарение господу, до этого времени мнене пришлось еще по-настоящему познакомиться с нею. Но ведь в нашей власти,если не устранить ее полностью, то, во всяком случае, до некоторой степениумерить терпением и, как бы ни страдало наше тело, сохранить свой разум исвою душу неколебимыми.
Если бы это было не так, кто среди нас стал бы ценить добродетели,доблесть, силу, величие духа, решительность? В чем бы они проявляли себя,если бы не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу? Avidaest periculi virtus. [20] Если бы неприходилось спать на голой земле, выносить в полном вооружении полуденныйзной, питаться кониной или ослятиной, подвергаться опасности бытьизрубленным на куски, терпеть, когда у вас извлекают засевшую в костях пулю,зашивают рану, промывают, зондируют, прижигают ее каленым железом, — в чеммогли бы мы выказать то превосходство, которым желаем отличиться отнизменных натур? И когда мудрецы говорят, что из двух одинаково славныхдеяний более заманчивым нам кажется то, выполнить которое составляет большетруда, то это отнюдь не похоже на совет избегать страданий и боли. Non enimhilaritate, nec lascivia, nec risu aut ioco comite levitatis, sed saepeetiam trister firmitate et constantia sunt beati. [21] Вот почему никак нельзя было разубедить наших предков в том, чтопобеды, одержанные в открытом бою, среди превратностей, которыми чреватавойна, более почетны, чем достигнутые без всякой опасности, одной лишьловкостью и изворотливостью:
- Laetius est, quoties magno sibi constat honestum. [22]
Кроме того, мы должны находить для себя утешение также и в том, чтообычно, если боль весьма мучительна, она не бывает очень продолжительной,если же она продолжительна, то не бывает особенно мучительной: si gravis, brevis; silongus, levis. [23] Ты не будешь испытывать ееслишком долго, если чувствуешь ее слишком сильно; она положит конец либосебе, либо тебе. И то и другое ведет, в итоге, к одному и тому же. Если тыне в силах перенести ее, она сама унесет тебя. Memineris maximos mortefiniri: parvos multa habere intervalla requietis; mediocrium nos essedominos: ut si tolerabiles sint, feramus, sin minus, e vita quum ea nonplaceat, tanquam e theatro exeamus. [24]
Невыносимо мучительной делается для нас боль оттого, что мы не привыклиискать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи,несмотря на то, что именно она — единственная и полновластная госпожа инашего состояния и нашего поведения. Нашему телу свойственно более или менееодинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же наша бесконечноизменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этомспособностью приспосабливать к себе и к своему состоянию, — каким бы этосостояние ни было, — ощущения нашего тела и все прочие его проявления. Вотпочему ее должно изучать и исследовать, вот почему надо приводить в движениескрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов, неттакой силы, которая могла бы противостоять ее склонностям и ее выбору. Переднею — тысяча самых разнообразных возможностей; так предоставим же ей ту изних, которая может обеспечить нашу сохранность и наш покой, и тогда мы нетолько укроемся от ударов судьбы, но, даже испытывая страдания и обиды,будем считать, если она того пожелает, что нас осчастливили иоблагодетельствовали ее удары.
Она извлекает для себя пользу решительно из всего. Даже заблуждения,даже сны — и они служат ее целям: у нее все пойдет в дело, лишь бы оградитьнас от опасности и тревоги.
Легко видеть, что именно обостряет наши страдания и наслаждения: это —сила действия нашего ума. Животные, ум которых таится под спудом,предоставляют своему телу свободно и непосредственно, а следовательно, ипочти тождественно для каждого вида, выражать одолевающие их чувства; в этомлегко убедиться, глядя на их движения, которые при сходных обстоятельствахвсегда одинаковы. Если бы мы не стесняли в этом законных прав частей нашеготела, то надо думать, нам стало бы от этого много лучше, ибо природанаделила их в должной мере естественным влечением к наслаждению иестественной способностью переносить страдание. Да они и не могли бы бытьнеестественными, так как они свойственны всем и одинаковы для всех. Нопоскольку мы отчасти освободились от предписаний природы, чтобы предатьсянеобузданной свободе нашего воображения, постараемся, по крайней мере,помочь себе, направив его в наиболее приятную сторону.
Платон опасается нашей склонности предаваться всем своим существомстраданию и наслаждению, потому что она слишком подчиняет душу нашему телу ипривязывает ее к нему [25]. Что до меня, то я опасаюсь скорее обратного, аименно, что она отрывает и отдаляет их друг от друга.
Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще большераспаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится ещебезжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужносопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаемсяей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем ее. И кактело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.
Обратимся, однако, к примерам — этому подспорью людей слабосильных,вроде меня, — и тут мы сразу убедимся, что со страданием дело обстоит также, как и с драгоценными камнями, которые светятся ярче или более тускло, взависимости от того, в какую оправу мы их заключаем; подобно этому истрадание захватывает нас настолько, насколько мы поддаемся ему. Tantumdoluerunt, — говорит св. Августин, — quantum doloribus se inserverunt. [26]Мы ощущаем гораздо сильнее надрез, сделанный бритвой хирурга, чем десятокранений шпагою, полученных нами в пылу сражения. Боли при родовых схватках иврачами и самим богом считаются необыкновенно мучительными, и мы обставляемэто событие всевозможными церемониями, а, между тем, существуют народы,которые не ставят их ни во что. Я уже не говорю о спартанских женщинах;напомню лишь о швейцарках, женах наших наемников-пехотинцев. Чем отличаетсяих образ жизни после родов? Разве только тем, что, шагая вслед за мужьями,сегодня иная из них несет ребенка у себя на шее, тогда как вчера еще носилаего в своем чреве. А что сказать об этих страшных цыганках, которые снуютмежду нами? Они отправляются к ближайшей воде, чтобы обмыть новорожденного иискупаться самим. Оставим в стороне также веселых девиц, скрывающих, какправило, и свою беременность и появление на свет божий младенца. Вспомнимлишь о почтенной супруге Сабина, римской матроне, которая, не желаябеспокоить других, вынесла муки рождения двух близнецов совсем одна, безчьей-либо помощи и без единого крика и стона. Простой мальчишка-спартанец,украв лисицу и спрятав ее у себя под плащом, допустил, чтобы она прогрызлаему живот, лишь бы не выдать себя (ведь они, как известно, гораздо большебоялись проявить неловкость при краже, чем мы — наказания за нее). Другой,кадя благовониями во время заклания жертвы и выронив из кадильницы уголек,упавший ему за рукав, допустил, чтобы он прожег ему тело до самой кости,опасаясь нарушить происходившее таинство. В той же Спарте можно было увидетьмножество мальчиков семилетнего возраста, которые, подвергаясь, согласнопринятому в этой стране обычаю, испытанию доблести, не менялись даже в лице,когда их засекали до смерти. Цицерон видел разделившихся на группы детей,которые дрались, пуская в ход кулаки, ноги и даже зубы, пока не падали безсознания, так и не признав себя побежденными. Nunquam naturam mos vinceret:est enim ea semper invicta; sed nos umbris, deliciis, otio, languore,desidia animum infecimus; opinionibus maloque more delinitum mollivimus. [27] Кому не известнаистория Муция Сцеволы, который, пробравшись в неприятельский лагерь, чтобыубить вражеского военачальника, и потерпев неудачу, решил все же добитьсясвоего и освободить родину, прибегнув к весьма необыкновенному средству? Сэтой целью он не только признался Порсенне — тому царю, которого собиралсяубить, — в своем первоначальном намерении, но еще добавил, что в римскомлагере есть немало его единомышленников, людей такой же закалки, как он,поклявшихся совершить то же самое. И, чтобы показать, какова же эта закалка,он, попросив принести жаровню, положил на нее свою руку и смотрел спокойно,как она пеклась и поджаривалась, до тех пор, пока царь, придя в ужас, неповелел сам унести жаровню. Ну а тот, который не пожелал прервать чтениекниги, пока его резали? [28] А тот, который не переставал шутить и смеятьсянад пытками, которым его подвергали, вследствие чего распалившаясяжестокость его палачей и все изощренные муки, какие только они в состояниибыли для него придумать, лишь служили к его торжеству [29]? Это был, правда,философ. Ну так что ж? В таком случае, вот вам гладиатор Цезаря, которыйлишь смеялся, когда бередили или растравляли его раны. Quis mediocrisqladiator inqemuit? Quis vultum mutavit unquam? Quis non modo stetit verumetiam decubuit turpiter? Quis sum decubuisset, ferrum recipere iussuscoellum contraxit? [30] Добавим сюда женщин. Кто не слышал в Париже об одной особе, котораявелела содрать со своего лица кожу единственно лишь для того, чтобы, когдана ее месте вырастет новая, цвет ее был более свежим? Встречаются и такие,которые вырывают себе вполне здоровые и крепкие зубы, чтобы их голос сталнежнее и мягче или чтобы остальные зубы росли более правильно и красиво.Сколько могли бы мы привести еще других примеров презрения к боли! На чтотолько не решаются женщины? Существует ли что-нибудь, чего бы они побоялись,если есть хоть крошечная надежда, что это пойдет на пользу их красоте?
- Vellere queis cura est albos a stirpe capillos,
- Et faciem dempta pelle referre novam. [31]
Я видел таких, что глотают песок или золу, всячески стараясь испортитьсебе желудок, чтобы лицо у них сделалось бледным. А каких только мук невыносят они, чтобы добиться стройного стана, затягиваясь и шнуруясь, терзаясебе бока жесткими, въедающимися в тело лубками, отчего иной раз дажеумирают!
У многих народов и в наше время существует обычай умышленно наноситьсебе раны, чтобы внушить больше доверия к тому, что они о себе рассказывают,и наш король [32] приводил немало замечательных случаев подобного рода,которые ему довелось наблюдать в Польше среди окружавших его людей. Неговоря уже о том, что иные и у нас во Франции, как мне известно, проделываютнад собой то же самое из подражания; я видел незадолго до знаменитых штатовв Блуа одну девицу, которая, стремясь подтвердить пламенность своихобещаний, а заодно и свое постоянство, нанесла себе вынутой из прическишпилькою четыре или пять сильных уколов в руку, прорвавших у нее кожу ивызвавших сильное кровотечение. Турки в честь своих дам делают у себябольшие надрезы на коже, и, чтобы след от них остался навсегда, прижигаютрану огнем, причем держат его на ней непостижимо долгое время, останавливаятаким способом кровь и, вместе с тем, образуя себе рубцы. Люди, которымдовелось это видеть своими глазами, писали мне об этом, клянясь, что этоправда. Впрочем, можно всегда найти среди них такого, который за десятьасперов [33] сам себе нанесет глубокую рану на руке или ляжке [34].
Мне чрезвычайно приятно, что там, где нам особенно бывают необходимысвидетели, они тут как тут, ибо христианский мир поставляет их в изобилии.После примера, явленного нам нашим всеблагим пастырем, нашлось великоемножество людей, которые из благочестия возжелали нести крест свой. Мыузнаем от заслуживающего доверия свидетеля [35], что король Людовик Святойносил власяницу до тех пор, пока его не освободил от нее, уже в старости,его духовник, а также, что всякую пятницу он побуждал его бить себя поплечам, употребляя для этого пять железных цепочек, которые постоянно возилс собою в особом ларце. Гильом, наш последний герцог Гиеньский [36], отецтой самой Альеноры, от которой это герцогство перешло к французскому, азатем к английскому королевским домам, последние десять или двенадцать летсвоей жизни постоянно носил под монашеской одеждой, покаяния ради, панцырь;Фульк [37], граф Анжуйский, отправился даже в Иерусалим с веревкой на шеедля того, чтобы там, по его приказанию, двое слуг бичевали его перед гробомгосподним. А разве не видим мы каждый год, как толпы мужчин и женщин бичуютсебя в страстную пятницу, терзая тело до самых костей? Я видел это не раз и,признаюсь, без особого удовольствия. Говорят, среди них (они надевают в этихслучаях маски) бывают такие, которые берутся за деньги укреплять такимспособом набожность в других, вызывая в них величайшее презрение к боли, ибопобуждения благочестия еще сильнее побуждений корыстолюбия.
Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула, Марк Катон —своего, избранного на должность претора, а Луций Павел — двух сыновей,умерших один за другим, — и все они внешне сохраняли спокойствие и невыказывали никакой скорби. Как-то раз, в дни моей молодости, я сказал в видешутки про одного человека, что он увильнул от кары небесной. Дело в том, чтоон в один день потерял погибших насильственной смертью троих взрослыхсыновей, что легко можно было истолковать, как удар карающего бича; и чтоже, он был недалек от того, чтобы принять это как особую милость! Я сампотерял двух-трех детей, правда в младенческом возрасте, если и не безнекоторого сожаления, то, во всяком случае, без ропота. А между тем, нетничего, что могло бы больше потрясти человека, чем это несчастье. Мнеизвестны и другие невзгоды, которые обычно считаются людьми достаточнымповодом к огорчению, но они едва ли могли бы задеть меня за живое, если бымне пришлось столкнуться с ними; и действительно, когда они все же постиглименя, я отнесся к ним с полным пренебрежением, хотя тут были вещи, относимыевсеми к самым ужасным, так что я не посмел бы хвалиться этим перед людьмибез краски стыда на лице. Ех quo intelligitur non in natura, sed in opinioneesse aegritudinem. [38]
Наше представление о вещах — дерзновенная и безмерная сила. Ктостремился с такою жадностью к безопасности и покою, как Александр Великий иЦезарь к опасностям и лишениям? Терес, отец Ситалка, имел обыкновениеговорить, что, когда он не на войне, он не видит между собой и своим конюхомникакого различия [39].
Когда Катон в бытность свою консулом, желая обеспечить себебезопасность в нескольких городах Испании, запретил их обитателям носитьоружие, многие из них наложили на себя руки; Ferox gens nullam vitam ratisine armis esse. [40] А сколько мы знаем таких, кто бежал от утех спокойногосуществования у себя дома, в кругу родных и друзей, навстречу ужасамбезлюдных пустынь, кто сам себя обрек нищете, жалкому прозябанию и презрениюсвета и настолько был удовлетворен этим образом жизни, что полюбил его всейдушой! Кардинал Борромео [41], скончавшийся недавно в Милане, в этомсредоточии роскоши и наслаждений, к которым его могла бы приохотить изнатность происхождения, и богатство, и самый воздух Италии, и, наконец,молодость, жил в такой строгости, что одна и та же одежда служила ему изимою и летом, и ему было незнакомо другое ложе, кроме охапки соломы; и еслиу него оставались свободные от его обязанностей часы, он их проводил внепрерывных занятиях, стоя на коленях и имея возле своей книги немного водыи хлеба, составлявших всю его пишу, которую он и съедал, не отрываясь отчтения. Я знаю рогоносцев, извлекавших выгоду из своей беды и добивавшихсяблагодаря ей продвижению, а между тем одно это слово приводит большинстволюдей в содрогание. Если зрение и не самое необходимое из наших чувств, оновсе же среди них то, которое доставляет нам наибольшее наслаждение; а изорганов нашего тела, одновременно доставляющих наибольшее наслаждение инаиболее полезных для человеческого рода, следует назвать, думается мне, те,которые служат деторождению. А между тем, сколько людей возненавидели ихлютой ненавистью только из-за того, что они дарят нам наслаждение, иотвергли именно потому, что они особенно важны и ценны. Так же рассуждал итот, кто сам лишил себя зрения [42].
Большинство людей, и притом самые здоровые среди них, считают, чтоиметь много детей — великое счастье; что до меня и еще некоторых, мы считаемстоль же великим счастьем не иметь их совсем. Когда спросили Фалеса [43],почему он не женится, от ответил, что не имеет охоты плодить потомство.
Что ценность вещей зависит от мнения, которое мы имеем о них, виднохотя бы уже из того, что между ними существует много таких, которые мырассматриваем не только затем, чтобы оценивать их, но и с тем, чтобы оценитьих для себя.
Мы не принимаем в расчет ни их качества, ни степени их полезности; длянас важно лишь то, чего нам стоило добыть их, словно это есть самое основноев их сущности: и ценностью их мы называем не то, что они в состоянии намдоставить, но то, какой ценой мы себе их достали. Из этого я делаюзаключение, что мы расчетливые хозяева и не позволяем себе лишних издержек.Если вещь добыта нами с трудом, она стоит в наших глазах столько, сколькостоит затраченный нами труд. Мнение, составленное нами о вещи, никогда недопустит, чтобы она имела несоразмерную цену. Алмазу придает достоинствоспрос, добродетели — трудность блюсти ее, благочестию — претерпеваемыелишения, лекарству — горечь.
Некто, желая сделаться бедняком, выбросил все свои деньги в то самоеморе, в котором везде и всюду копошится столько других людей, чтобы уловитьв свои сети богатство [44]. Эпикур [45] говорит, что богатство не облегчаетнаших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, носкорей изобилие порождает в нас жадность. Я хочу поделиться на этот счетсвоим опытом.
С тех пор как я вышел из детского возраста, я испытал три рода условийсуществования. Первое время, лет до двадцати, я прожил, не имея никаких иныхсредств, кроме случайных, без определенного положения и дохода, завися отчужой воли и помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более чтоколичество их определяла прихоть судьбы. И все же никогда я не чувствовалсебя лучше. Ни разу не случилось, чтобы кошельки моих друзей оказались дляменя туго завязанными. Главнейшей моей заботой я считал в те времена заботуо том, чтобы не пропустить срока, который я сам назначил, чтобырасплатиться. Этот срок, впрочем, они продлевали, может быть, тысячу раз,видя усилия, которые я прилагал, чтобы вовремя рассчитаться с ними; выходит,что я платил им со щепетильною и, вместе с тем, несколько плутоватоючестностью. Погашая какой-нибудь долг, я испытываю всякий раз настоящеенаслаждение: с моих плеч сваливается тяжелый груз, и я избавляюсь отсознания своей зависимости. К тому же, мне доставляет некоторое удовольствиемысль, что я делаю нечто справедливое и удовлетворяю другого. Сюда, конечно,не относятся платежи, сопряженные с расчетами и необходимостью торговаться,так как если нет никого, на кого можно было бы свалить эту обузу, я, к стыдусвоему, не вполне добросовестным образом оттягиваю их елико возможно; ясмертельно боюсь всяких препирательств, к которым ни склад моего характера,ни мой язык никоим образом не приспособлены. Для меня нет ничего болеененавистного, чем торговаться: это сплошное надувательство и бесстыдство;после целого часа споров и жульничества обе стороны нарушают раньше данноеими слово ради каких-нибудь пяти су. Вот почему условия, на которых язанимал, бывали обычно невыгодными; не решаясь попросить денег при личномсвидании, я обычно прибегал в таких случаях к письменным сношениям, а бумага — не очень хороший ходатай и часто соблазняет руку на отказ. Я гораздоохотнее и с более легким сердцем доверял в ту пору ведение моих делсчастливой звезде, чем доварю их теперь своей предусмотрительности издравому смыслу.
Большинство хороших хозяев считает чем-то ужасным жить в такойнеопределенности; но, во-первых, они упускают из виду, что большинство людейживет именно таким образом. Сколько весьма почтенных людей жертвовало своейуверенностью в завтрашнем дне и продолжает каждодневно делать то же самое внадежде на королевское благоволение и на милости фортуны. Цезарь, чтобысделаться Цезарем, издержал, помимо своего имущества, еще миллион золотом,взятый им в долг. А сколько купцов начинают свои торговые операции с продажикакой-нибудь фермы, которую они посылают, так сказать, в Индию
- Tot per impotentia freta. [46]
Мы видим, что, несмотря на оскудение благочестия, многие тысячимонастырей не знают нужды, хотя дневное пропитание живущих в них монаховзависит исключительно от милостей неба. Во-вторых, эти хорошие хозяевазабывают также о том, что обеспеченность, на которую они хотят опереться,столь же неустойчива и столь же подвержена разного рода случайностям, как исам случай. Имея две тысячи экю годового дохода, я вижу себя столь близким книщете, как если бы она уже стучалась ко мне в дверь. Ибо судьбе ничего нестоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь нищете,и нередко случается, что она не допускает ничего среднего между величайшимблагоденствием и полным крушением:
- Fortuna vitrea est; tum, quum splendet frangitur. [47]
И поскольку она сметает все наши шанцы и бастионы, я считаю, что нуждастоль же часто по разным причинам бывает гостьей как тех, кто обладаетзначительным состоянием, так и тех, кто не имеет его; и подчас она менеетягостна, когда встречается сама по себе, чем когда мы видим ее бок о бок сбогатством. Последнее создается не столько большими доходами, сколькоправильным ведением дел: faber est suae quisque fortunae. [48] Озабоченный, вечно нуждающийся и занятый по горлоделами богач кажется мне еще более жалким, чем тот, кто попросту беден: indivitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est. [49]
Нужда и отсутствие денежных средств побуждали самых могущественных ибогатых властителей к крайностям всякого рода. Ибо что может быть большеюкрайностью, чем превращаться в тиранов и бесчестных насильников,присваивающих достояние своих подданных?
Второй период моей жизни — это то время, когда у меня завелись своиденьги. Получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, я вкороткий срок отложил довольно значительные, сравнительно с моим состоянием,сбережения, считая, что по-настоящему мы имеем лишь то, чем располагаемсверх наших обычных издержек и что нельзя полагаться на те доходы, которыемы только надеемся получить, какими бы верными они нам не казались. «Авдруг, — говорил я себе, — меня постигнет та или другая случайность?»Находясь во власти этих пустых и нелепых мыслей, я думал, что поступаюблагоразумно, откладывая излишки, которые должны были выручить меня в случаезатруднений. И тому, кто указывал мне на то, что таким затруднениям нетчисла, я отвечал, не задумываясь, что если это и не избавит меня от всехтрудностей, то предохранит, по крайней мере, от некоторых и притом весьмамногих. Дело не обходилось без мучительных волнений. Я из всего делал тайну.Я, который позволяю себе рассказывать так откровенно о себе самом, говорил освоих средствах, многое утаивая, неискренне, следуя примеру тех, кто,обладая богатством, прибедняется, а будучи бедным, изображает себя богачом,но никогда не признается по совести, чем он располагает в действительности.Смешная и постыдная осторожность! Отправлялся ли я в путешествие, мнепостоянно казалось, что у меня недостаточно при себе денег. Но чем большеденег я брал с собой, тем больше возрастали мои опасения: то я сомневался,насколько безопасны дороги, то — можно ли доверять честности тех, кому япоручил мои вещи, за которые, подобно многим другим, я никогда не бывалспокоен, если только они не были у меня перед глазами. Если же шкатулку сденьгами я держал при себе, — сколько подозрений, сколько тревожных мыслейи, что самое худшее, — таких, которыми ни с кем не поделишься! Я был всегданастороже. В общем, уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их.Если, бывало, я и не испытывал всего того, о чем здесь рассказываю, то какихтрудов мне стоило удержаться от этого! О своем удобстве я заботился мало илисовсем не заботился. От того, что я получил возможность тратить деньгисвободнее, я не стал расставаться с ними с более легкой душой. Ибо, какговорил Бион [50], волосатый злится не меньше плешивого, когда его дерут заволосы. Как только вы приучили себя к мысли, что обладаете той или инойсуммой, и твердо это запомнили, — вы уже больше не властны над ней, и вамстрашно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться,что перед вами строение, которое разрушится до основания, стоит вам лишьприкоснуться к нему. Вы решитесь начать расходовать эти деньги только вслучае, если вас схватит за горло нужда. И в былое время я с большеюлегкостью закладывал свои пожитки или продавал верховую лошадь, чем теперьпозволял себе прикоснуться к заветному кошельку, который я хранил в потайномместе. И хуже всего то, что нелегко положить себе в этом предел (ведь всегдабывает трудно установить границу того, что считаешь благом) и остановитьсяна должной черте в своем скопидомстве. Накопленное богатство невольностараешься все время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо, априбавляя, вплоть до того, что позорно отказываешься от пользования в своеудовольствие своим же добром, которое хранишь под спудом, без всякогоупотребления.
Если так распоряжаться своим богатством, то самыми богатыми людьмипридется назвать тех, кому поручено охранять ворота и стены какого-нибудьбогатого города. Всякий денежный человек, на мой взгляд, — скопидом.
Платон в следующем порядке перечисляет физические и житейские благачеловека: здоровье, красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, вовсене слепо; напротив, оно весьма прозорливо, когда его освещает благоразумие [51].
Здесь уместно вспомнить о Дионисии Младшем, который весьма остроумноподшутил над одним скрягою. Ему сообщили, что один из его сиракузцев закопалв землю сокровища. Дионисий велел ему доставить их к нему во дворец, что тоти сделал, утаив, однако, некоторую их часть; а затем, забрав с собойприпрятанную им долю, этот человек переселился в другое место, где, потеряввкус к накоплению денег, начал жить на более широкую ногу. Услышав об этом,Дионисий приказал возвратить ему отнятую у него часть сокровищ, сказав, что,поскольку человек этот научился, наконец, пользоваться ими как подобает, онохотно возвращает ему отобранное [52].