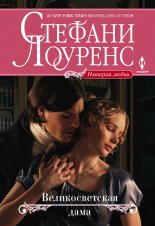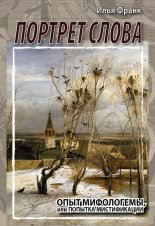Опыты Монтень Мишель

И я в течение нескольких лет был таким же. Не знаю, какой добрый генийвышиб, на мое счастье, весь этот вздор из моей головы, подобно тому как этослучилось и с сиракузцем. Забыть начисто о скопидомстве помогло мнеудовольствие, испытанное во время одного путешествия, сопряженного сбольшими издержками. С той поры я перешел уже к третьему по счету образужизни — так, по крайней мере, мне представляется, — несомненно болееприятному и упорядоченному. Мои расходы я соразмеряю с доходами; если пороюпервые превышают вторые, а порою бывает наоборот, то все же большогорасхождения между ними я не допускаю. Я живу себе потихоньку и доволен тем,что моего дохода вполне хватает на мои повседневные нужды; что же до нужднепредвиденных, то тут человеку не хватит и богатств всего мира. Глупостьюбыло бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от еепосягательств. Бороться с нею мы должны своим собственным оружием. Случайноеоружие всегда может изменить в решительную минуту. Если я иной раз иоткладываю деньги, то лишь в предвидении какого-нибудь крупного расхода вближайшем времени, не для того чтобы купить себе землю (с которою мне нечегоделать), а чтобы купить удовольствие. Non esse cupidum pecunia est, non esseemacem vectigal est. [53]
Я не испытываю ни опасений, что мне не хватит моего состояния, нижелания, чтобы оно у меня увеличилось: Divitiarum fructus est in copia,copiam declarat satietas. [54] Я считаю великим для себя счастьем, что эта переменаслучилась со мною в наиболее склонном к скупости возрасте и что я избавилсяот недуга, столь обычного у стариков и притом самого смешного из всехчеловеческих сумасбродств.
Фераулес, унаследовав два состояния и обнаружив, что с возрастаниембогатства желание есть, пить, спать или любить жену не возрастает, ноостается таким же, как прежде, и чувствуя, с другой стороны, какоеневыносимое бремя возлагает на него стремление соблюдать бережливость, —совсем как это было со мной, — решил облагодетельствовать одного юношу,своего верного друга, который жаждал разбогатеть, и с этою целью подарил емуне только все то, что уже имел, — а состояние его было огромным, — но и то,что продолжал получать от щедрот своего повелителя Кира, равно как и своюдолю военной добычи, при условии, что этот молодой человек возьмет на себяобязательство достойным образом содержать и кормить его, как гостя и друга.Так они и жили с этой поры в полном согласии, причем оба были в равной мередовольны переменой в своих обстоятельствах. Вот пример, которому япоследовал бы с величайшей охотою [55].
Я весьма одобряю также поведение одного пожилого прелата, которыйполностью освободил себя от забот о своем кошельке, о своих доходах итратах, поручая их то одному из своих доверенных слуг, то другому, и провелдолгие годы в таком неведении относительно состояния своих дел, словно онбыл во всем этом лицом посторонним. Доверие к добропорядочности другогоявляется достаточно веским свидетельством собственной, и ему обычнопокровительствует бог. Что касается упомянутого мною прелата, то нигде я невидел такого порядка, как у него в доме, как нигде больше не видел, чтобыхозяйство поддерживалось с таким достоинством и такой твердой рукой.Счастлив тот, кто сумел с такой точностью соразмерять свои нужды, что егосредства оказываются достаточными для удовлетворения их, без каких-либохлопот и стараний с его стороны. Счастлив тот, кого забота об управленииимуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, болеесоответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.
Итак, и довольство и бедность зависят от представления, которое мыимеем о них; сходным образом и богатство, равно как и слава или здоровье,прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те,кто пользуется ими. Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того,что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот кого другие мнятдовольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным исущественным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека.
Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она поставляет лишь сыруюматерию того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Нашадуша, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует иприменяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственнойпричиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния.Внешние обстоятельства принимают тот или иной характер в зависимости отнаших внутренних свойств, подобно тому, как наша одежда согревает нас несвоей теплотою, но нашей собственной, которую, благодаря своим свойствам,она может задерживать и накапливать. Тот, кто укутал бы одеждою какой-нибудьхолодный предмет, точно таким же образом поддержал бы в нем холод: такименно и поступают со снегом и льдом, чтобы предохранить их от таяния.
Как учение — мука для лентяя, а воздержание от вина — пытка дляпьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, ателесные упражнения — тяготою для человека изнеженного и праздного, и томуподобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, итолько наше малодушие или слабость делают их такими. Чтобы правильно судитьо вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случаемы припишем им наши собственные изъяны. Весло, погруженное в воду, кажетсянад надломленным. Таким образом, важно не только то, что мы видим, но и какмы его видим.
А раз так, то почему среди стольких рассуждений, которые стольразличными способами убеждают людей относиться с презрением к смерти итерпеливо переносить боль, нам не найти какого-нибудь годного также для нас?И почему из такого множества доводов, убедивших в этом других, каждому изнас не избрать для себя такого, который был бы ему больше по нраву? И еслиему не по силам лекарство, действующее быстро и бурно и исторгающее болезньс корнем, то пусть он примет хотя бы мягчительного, которое принесло бы емуоблегчение. Opinio est quaedam effeminata ас levis, nec in dolore magis,quam eadem in voluptate: qua, quum liquescimus fluimusque mollitia, apisaculeum sine clamore ferre non possumus. Totum in eo est, ut tibi imperes. [56]
Впрочем, и тот, кто станет чрезмерно подчеркивать остроту нашихстраданий и человеческое бессилие, не отделяется от философии. В ответ емуона выдвинет следующее бесспорное положение: «Если жить в нужде плохо, тонет никакой нужды жить в нужде».
Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам.
Кому не достает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так идля того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, чемпоможешь такому?
Глава XV
За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание
Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел,преступив который, начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она можетувлечь всякого, недостаточно хорошо знающего ее границы, — а установить их сточностью, действительно, нелегко — к безрассудству, упрямству и безумствамвсякого рода. Это обстоятельство и породило обыкновение наказывать во времявойны — иногда даже смертью — тех, кто упрямо отстаивает укрепленное место,удержать которое, по правилам военной науки, невозможно. Иначе не было бытакого курятника, который, в надежде на безнаказанность, не задерживал быпродвижение целей армии.
Господин коннетабль де Монморанси при осаде Павии [1] получилприказание переправиться через Тичино и захватить предместье св. Антония;задержанный защитниками предмостной башни, оказавшими упорное сопротивление,он все же взял ее приступом и велел повесить всех оборонявшихся в ней. Также поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по тусторону гор; после того как замок Виллано был им захвачен и солдаты,озверев, перебили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта изнаменосца, он велел, по той же причине, повесить и этих последних [2].Подобную же участь и в тех же краях испытал и капитан Бонн, все людикоторого были перебиты при взятии укрепления; так приказал Мартен Дю Белле [3], в ту пору губернатор Турмна. Но поскольку судить о мощи или слабостиукрепления можно, лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих (ибо тот,кто достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулевринам, поступилбы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против тридцати пушек), и таккак здесь, кроме того, принимается обычно в расчет могущество вторгшегосягосударя, его репутация, уважение, которое ему должно оказывать, тосуществует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколькоперевешивать. А это, в свою очередь, приводит к тому, что такой государьначинает настолько мнить о себе и своем могуществе, что ему кажется простонелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь, достойный сопротивлятьсяему, и пока ему улыбается военное счастье, он предает мечу всякого, ктоборется против него, как это видно хотя бы на примере тех свирепых,надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были вобычае у восточных властителей да и ныне в ходу у их преемников.
Также и там, где португальцы впервые начали грабить Индию, они нашлигосударства, в которых господствовал общераспространенный и нерушимый закон,гласящий, что враг, побежденный войском, находящимся под начальством царяили его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду.
Итак, пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи,когда этот судья — победоносный и вооруженный до зубов враг.
Глава XVI
О наказании за трусость
Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, чтонельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано имза столом, после того как ему рассказали о суде над господином де Вервеном,приговоренным к смерти за сдачу Булони [1].
И в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливуюграницу между поступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которыепорождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаемпротив велений нашего разума, запечатленных в нас самою природою, тогда как,совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту жеприроду, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почемувесьма многие полагают, что нам можно вменять в вину только содеянное намивопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, ктоосуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правило, согласнокоторому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи,допущенные по неведению при отправлении ими должности.
Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенныйспособ ее наказания — это всеобщее презрение и поношение. Считают, чтоподобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд [2] и чтодо него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью;он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женскомплатье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу ичто бесчестие возвратит им мужество. Suffundere malis hominis sanguinem quameffundere. [3] Римские законы, по крайней мере в древнейшеевремя, также карали бежавших с поля сражения смертной казнью. Так, АммианМарцеллин рассказывает, что десять солдат, повернувшихся спиной к неприятелюво время нападения римлян на войско парфян, были лишены императором Юлианомвоенного звания и затем преданы смерти в соответствии с древним законом [4].Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал виновных лишь тем,что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровойкаре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время тойже войны был с Гнеем Фульвием при его поражении, тем не менее, в этом случаедело не дошло до наказания смертью.
Есть, однако, основание опасаться, что позор не только повергает вотчаянье тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их дополнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.
Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместительглавнокомандующего в войсках маршала Шатильона, назначенный маршалом деШабанном на пост губернатора Фуэнтарабии вместо господина дю Люда и сдавшийэтот город испанцем, был приговорен к лишению дворянского звания, и как онсам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причислены кподатному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор былисполнен над ними в Лионе. В дальнейшем такому же наказанию были подвергнутывсе дворяне, которые находились в городе Гизе, когда туда вступил графНассауский; с той поры то же претерпели и некоторые другие.
Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые иявные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе прийти кзаключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли,и наказывать их так таковые.
Глава XVII
Об образе действий некоторых послов
Во время моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другимичто-нибудь для меня новое (а это — одна из лучших школ, какие только можносебе представить), я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобынаводить своего собеседника на разговор о таких предметах, в которых онлучше всего осведомлен.
- Basti al nocchiero ragionar de’venti,
- Al bifolco dei tori, et le sue piaghe
- Conti’l guerrier, conti’l pastor gli armenti. [1]
Впрочем, чаще всего наблюдается обратное, ибо всякий охотнее рассуждаето чужом ремесле, нежели о своем собственном, надеясь прослыть, такимобразом, знатоком еще в какой-нибудь области; так, например, Архидам [2]упрекал Периандра в том, что тот пренебрег славою выдающегося врача,погнавшись за славою дурного поэта.
Поглядите, сколь многословным становится Цезарь, когда он описывает намсвои изобретения, относящиеся к постройке мостов [3] или военных машин, икак, напротив, он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своихобязанностях военачальника, о своей личной храбрости или о поведении своихвоинов.
Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийсяполководец; ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходноговоенного инженера, а это нечто совсем уже новое. Не так давно некий ученыйюрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг,относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, необнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. Амежду тем он остановился, чтобы с ученым и важным видом потолковать поповоду заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату, хотячеловек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на негоникакого внимания.
Дионисий Старший был отличнейшим полководцем, как это и приличествовалоего положению, но он стремился достигнуть славы преимущественно в поэзии, вкоторой решительно ничего не смыслил.
- Optat ephippia bos piger, optat arare caballus. [4]
Но таким образом вы никогда не добьетесь чего-либо путного.
Итак, всякого, кем бы он ни был, — зодчий ли это, живописец, сапожникили кто-либо иной, — подобает неукоснительно возвращать к предмету егоповседневных занятий. И по этому поводу замечу: читая сочинения по истории, — в каковом жанре упражнялись самые различные люди, — я усвоил обыкновениепринимать в расчет, кем именно были писавшие: если это люди, не занимавшиесяничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык;если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуревоздуха, о здоровье и складе характера государей, о ранениях и болезнях;если юристы, то в первую очередь следует направить свое внимание на ихрассуждения по вопросам права, о законах, о государственных учреждениях ипрочих вещах такого же рода; если теологи — то на дела церковные отлученияот церкви, эпитимии, разрешения на вступления в брак; если придворные — наописание обычаев и церемоний; если военные — на то, что относится к ихремеслу, и, главным образом, на их повествования о походах и битвах, вкоторых они принимали участие; если послы — то на всевозможные хитрости,шпионаж, подкупы и на то, как все это проделывалось.
По этой причине я выделил и отметил в «Истории» сеньора де Ланже [5],человека в высшей степени сведущего в этих делах, много такого, мимо чего япрошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительныхпредупреждениях, сделанных императором Карлом V римской консистории вприсутствии наших послов, епископа Маковского и господина дю Белли, к чемуимператор добавил немало оскорбительных выражений, направленных против нас,и, среди прочего, то, что если бы его военачальники, солдаты и подданныебыли столь же преданы своему господину и столь искусны в военном деле, какте, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею веревкуи отправился бы смиренно молить о пощаде (он, по-видимому, и сам в некоторойстепени верил, что так оно в действительности и есть, ибо и позже, в течениесвоей жизни, раза два или три повторял то же самое), а также сообщив о том,что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке, в однихрубахах, на шпагах и на кинжалах, — вышеназванный сеньор де Ланже добавляет,что упомянутые послы, написав королю донесение, утаили от него большую частьслов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Янахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чемдокладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более, что дело былочревато такими последствиями, что эти слова исходили от такого лица и былипроизнесены на столь многолюдном собрании. Мне кажется, что обязанностьподчиненного — точно и правдиво, со всеми подробностями, излагать события,как они были, дабы господин располагал полной свободою отдавать приказания,оценивать положение и выбирать. Ибо искажать или утаивать истину изопасения, как бы он не принял ее неподобающим образом и как бы это нетолкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлятьего неосведомленным о действительном положении дел — подобное право, как яполагаю, принадлежит тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого онипредназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, ктодолжен почитать себя низшим, и притом не только по своему положению, но и поопытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне,при всей ничтожности моей особы, служили вышеописанным образом.
Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения иприсвоить себе право распоряжаться; всякий из нас — и это вполне естественно — домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть ив подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростноеповиновение.
Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собойизвестную независимость, то это большая помеха для отдающего приказание.Публий Красе [6], тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым,пребывая во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру-грекудоставить к нему большую из двух корабельных мачт, которые он видел припосещении им Афин, дабы соорудить из нее задуманную им метательную машину;грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе нарушить приказ ипривез ту из мачт, которая была меньше, но, вместе с тем, как подсказывалему опыт, и более пригодной для указанной цели. Красе, терпеливо выслушавего доводы, велел все же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплинапрежде всего, даже если это ведет к ущербу для дела.
С другой стороны, нелишне отметить, что безусловное повиновение полезнолишь при наличии точного и определенного приказания. Обязанности пословдопускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решенияприходится им самим: ведь они не только исполнители воли своего государя,они также подготавливают ее и направляют своими советами. На своем веку явидел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинениебукве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела.
Люди сведущие порицают еще и теперь обыкновение персидских властителейпредоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько куцыеполномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи испрашивать дополнительноуказания. Подобное промедление, принимая во внимание огромные пространстваперсидского царства, нередко вредило, и весьма основательно, их делам.
И если Красе в письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал наупотребление, которое он намерен дать мачте, то не означало ли это, что онвступал с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнитьприказание с теми или иными поправками?
Глава XVIII
О страхе
- Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit. [1]
Я отнюдь не являюсь хорошим натуралистом (как принято выражаться), имне не известно, посредством каких пружин на нас воздействует страх; но какбы там ни было, это — страсть воистину поразительная, и врачи говорят, чтонет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи вбольшей мере, чем эта. И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихсяневменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенныхстрах, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я неговорю уже о людях невежественных и темных, которые видят со страху то своихвышедших из могил и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовыхили еще каких чудищ. Но даже солдаты, которые, казалось бы, должны меньшедругих поддаваться страху, не раз принимали, ослепленные им, стадо овец заэскадрон закованных в броню всадников, камыши и тростник за латников икопейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого цвета закрасный [2].
Случилось, что, когда принц Бурбонский брал Рим [3], одного знаменщика,стоявшего на часах около замка св. Ангела, охватил при первом же сигналетревоги такой ужас, что он бросился через пролом, со знаменем в руке, вон изгорода, прямо на неприятеля, убежденный, что направляется в город, к своим;и только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу, — ибоони подумали, что это вылазка, предпринятая осажденными, — он, наконец,опомнившись, повернул вспять и возвратился в город через тот же пролом,через который вышел только затем, чтобы пройти свыше трехсот шагов в сторонунеприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилосьдело со знаменщиком Жюля. Когда начался штурм Сен-Поля, взятого тогда у насграфом де Бюром и господином дю Рю, этот знаменщик настолько потерялся отстраха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем через пролом ибыл изрублен шедшими на приступ неприятельскими солдатами. Во время той жеосады произошел памятный для всех случай, когда сердце одного дворянинаохватил, сжал и оледенил такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имеяна себе даже царапины.
Подобный страх овладевает иногда множеством людей. Во время одного изпоходов Германика [4] против аллеманов два значительных отряда римлян,охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях, причемодин из них устремился как раз туда, откуда уходил другой.
Страх то окрыляет нам пятки, как в двух предыдущих примерах, то,напротив, пригвождает и сковывает нам ноги, как можно прочесть об императореФеофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами [5], впал в такоебезразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать: adeo, pavoretiam auxilia formidat. [6] Кончилось тем, чтоМануил, один из главных его военачальников, схватив его за плечо ивстряхнув, как делают, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратилсяк нему с такими словами: «Если ты не последуешь сейчас за мною, я предамтебя смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем, потеряв царство, сделатьсяпленником».
Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы дажепроникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когдатребовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупномпоражении римлян во время войны с Ганнибалом — в этот раз командовал имиконсул Семпроний — один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты,оказавшись во власти страха и не видел, в своем малодушии, иного путиспасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них свызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Такимобразом, он купил себе возможность позорно бежать за ту самую цену, котороюмог бы купить блистательную победу. Вот чего я страшусь больше самогостраха.
Вообще же страх ощущается нами с большею остротой, нежели остальныенапасти.
Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и ещеокровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, чтопредставляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бывзглянуть на него. Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество,подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге;они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабызачастую живут столь же беспечно, как все прочие люди. А сколько было таких,которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились впропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим,чем сама смерть.
Греки различали особый вид страха, который ни в какой степени независит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, поих мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба.Он охватывает порою целый народ, целые армии. Таким был и тот приступстраха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всем городеслышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Всюду можно было увидеть,как горожане выскакивали из домов, словно по сигналу тревоги, как онинабрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это быливраги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и неистовствапродолжались до тех пор, пока молитвами и жертвоприношениями они не смирилигнева богов [7].
Такой страх греки называли паническим.
Глава XIX
О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер
- Scilicet ultima semper
- Exspectanda dies homini est, dicique bеatus
- Ante obitum nemo, supremaque funera debet. [1]
Всякому ребенку известен на этот счет рассказ о царе Крезе: захваченныйв плен Киром и осужденный на смерть, перед самой казнью он воскликнул: «О,Солон, Солон!» Когда об этом было доложено Киру и тот спросил, что этозначит, Крез ответил, что он убедился на своей шкуре в справедливостипредупреждения, услышанного им некогда от Солона, что как бы приветливо ниулыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человекасчастливым, пока не минет последний день его жизни, ибо шаткость иизменчивость судеб человеческих таковы, что достаточно какого-нибудьничтожнейшего толчка, — и все тут же меняется. Вот почему и Агесилай [2]сказал кому-то, утверждавшему, что царь персидский — счастливец, ибо, будучисовсем молодым, владеет столь могущественным престолом: «И Приам в такомвозрасте не был несчастлив». Царей Македонии, преемников великогоАлександра, мы видим в Риме песцами и столярами, тиранов Сицилии — школьнымиучителями в Коринфе. Покоритель полумира, начальствовавший над столькимиармиями, превращается в смиренного просителя, унижающегося перед презреннымислугами владыки Египта; вот чего стоило прославленному Помпею продление егожизни еще на каких-нибудь пять-шесть месяцев [3]. А разве на памяти нашихотцов не угасал, томясь в заключении в замке Лош, Лодовико Сфорца, десятыйгерцог Миланский, перед которым долгие годы трепетала Италия? И самое худшеев его участи то, что он провел там целых десять лет [4]. А разве не погиблаот руки палача прекраснейшая из королев, вдова самого могущественного вхристианском мире государя? [5] Такие примеры исчисляются тысячами. И можноподумать, что подобно тому как грозы и бури небесные ополчаются противгордыни и высокомерия наших чертогов, разным образом там наверху существуютдухи, питающие зависть к величию некоторых обитателей земли:
- Usque adeo res humanas vis abdita quaedam
- Obterit, et pulchros fasces saevasque secures
- Proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur. [6]
Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последнийдень нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение окаизвергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет насвоскликнуть, подобно Лаберию [7]: Nimirum hac die una plus vixi, mihi quamvivendum fuit. [8]
Таким образом, у нас есть все основания прислушиваться к благому советуСолона. Но поскольку этот философ полагал, что милости или удары судьбы ещене составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могуществосчитал маловажными случайностями, я нахожу, что он смотрел глубже и хотелсвоими словами сказать, что не следует считать человека счастливым, —разумея под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, атакже твердость и уверенность умеющей управлять собою души, — пока нам недоведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудныйакт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина.Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, какзаученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая насза живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие.Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше местапритворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки,что у тебя за душой:
- Nam verae voces tum demum pectore ab imo
- Eiiciuntur, et eripitur persona, manet res. [9]
Вот почему это последнее испытание — окончательная проверка и пробныйкамень всего того, что совершено нами в жизни. Этот день — верховный день,судья всех остальных наших дней. Этот день, говорит один древний автор [10],судит все мои прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить плоды моейдеятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст илитакже из сердца.
Я знаю иных, которые своей смертью обеспечили добрую или, напротив,дурную cлаву вcей своей прожитой жизни. Сципион, тесть Помпея, заставилсвоей смертью замолкнуть дурное мнение, существовавшее о нем прежде [11].Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше — Хабрия,Ификрата или себя, ответил: «Чтобы решить этот вопрос, надлежало быпосмотреть, как будет умирать каждый из нас» [12]. И действительно, оченьмногое отнял бы у него тот, кто стал бы судить о нем, не приняв в расчетвеличия и благородства его кончины. Неисповедима воля господня! В моивремена три самых отвратительных человека, каких я когда-либо знал, ведшихсамый мерзкий образ жизни, три законченных негодяя умерли как подобаетпорядочным людям и во всех отношениях, можно сказать, безупречно.
Бывают смерти доблестные и удачные. Так, например, я знавал одногочеловека, нить поразительных успехов которого была оборвана смертью вмомент, когда он достиг наивысшей точки своего жизненного пути; конец егобыл столь величав, что, на мой взгляд, его честолюбивые и смелые замыслы незаключали в себе столько возвышенного, сколько это крушение их. Он пришел,не сделав ни шагу, к тому, чего добивался, и притом это свершилось болеевеличественно и с большей славой, чем на это могли бы притязать его желанияи надежды. Своей гибелью он приобрел больше могущества и более громкое имя,чем мечтал об этом при жизни [13].
Оценивая жизнь других, я неизменного учитываю, каков был конец ее, и наэтот счет главнейшее из моих упований состоит в том, чтобы моя собственнаяжизнь закончилась достаточно хорошо, то есть спокойно и неприметно.
Глава XX
О том, что философствовать — это значит учиться умирать
Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, какприуготовлять себя к смерти [1]. И это тем более верно, ибо исследование иразмышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее оттела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, всямудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому,чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеетсянад нами, либо, если это не так, он должен стремиться только кодной-единственной цели, а именно, обеспечить нам удовлетворение нашихжеланий, и вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобыдоставить нам возможность творить добро и жить в свое удовольствие, каксказано в Священном писании [2]. Все в этом мире твердо убеждены, что нашаконечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образомдостигнуть его; противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо ктостал бы слушать человека, утверждающего, что цель наших усилий — нашибедствия и страдания?
Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто словесные.Transcurramus sollertissimas nugas [3]. Здесь больше упрямства и препирательствапо мелочам, чем подобало бы людям такого возвышенного призвания. Впрочем,кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себясамого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель —наслаждение. Мне нравится дразнить этим словом слух тех, кому оно очень непо душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия иполнейшую удовлетворенность, подобное наслаждение в большей мере зависит отдобродетели, чем от чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильными мужественным, такое наслаждение делается от этого лишь более сладостным. Инам следовало бы скорее обозначать его более мягким, более милым иестественным словом «удовольствие», нежели словом «вожделение», как егочасто именуют. Что до этого более низменного наслаждения, то если оно вообщезаслуживает этого прекрасного названия, то разве что в порядкесоперничества, а не по праву. Я нахожу, что этот вид наслаждения еще более,чем добродетель, сопряжен с неприятностями и лишениями всякого рода. Малотого, что оно мимолетно, зыбко и преходяще, ему также присущи и свои бдения,и свои посты, и свои тяготы, и пот, и кровь; сверх того, с ним сопряженыособые, крайне мучительные и самые разнообразные страдания, а затем —пресыщение, до такой степени тягостное, что его можно приравнять кнаказанию. Мы глубоко заблуждаемся, считая, что эти трудности и помехиобостряют также наслаждение и придают ему особую пряность, подобно тому какэто происходит в природе, где противоположности, сталкиваясь, вливают друг вдруга новую жизнь; но в не меньшее заблуждение мы впадаем, когда, переходя кдобродетели, говорим, что сопряженные с нею трудности и невзгоды превращаютее в бремя для нас, делают чем-то бесконечно суровым и недоступным, ибо тутгораздо больше, чем в сравнении с вышеназванным наслаждением, ониоблагораживают, обостряют и усиливают божественное и совершенноеудовольствие, которое добродетель дарует нам. Поистине недостоин общения сдобродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которых она от настребует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес; такой человек непредставляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести. Если ктоутверждает, что достижение добродетели — дело мучительное и трудное и чтолишь обладание ею приятно, это все равно как если бы он говорил, что онавсегда неприятна. Разве есть у человека такие средства, с помощью которыхкто-нибудь хоть однажды достиг полного обладания ею? Наиболее совершенныесреди нас почитали себя счастливыми и тогда, когда им выпадала возможностьдобиваться ее, хоть немного приблизиться к ней, без надежды обладатькогда-нибудь ею. Но говорящие так ошибаются: ведь погоня за всеми известныминам удовольствиями сама по себе вызывает в нас приятное чувство. Самостремление порождает в нас желанный образ, а ведь в нем содержится добраядоля того, к чему должны привести наши действия, и представление о вещиедино с ее образом по своей сущности. Блаженство и счастье, которымисветится добродетель, заливают ярким сиянием все имеющее к ней отношение,начиная с преддверия и кончая последним ее пределом. И одно из главнейшихблагодеяний ее — презрение к смерти; оно придает нашей жизни спокойствие ибезмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда жеэтого нет — отравлены и все прочие наслаждения.
Вот почему все философские учения встречаются и сходятся в этой точке.И хотя они в один голос предписывают нам презирать страдания, нищету идругие невзгоды, которым подвержена жизнь человека, все же не это должнобыть первейшей нашей заботою, как потому, что эти невзгоды не столь уженеизбежны (большая часть людей проживает жизнь, не испытав нищеты, анекоторые — даже не зная, что такое физическое страдание и болезни, каков,например, музыкант Ксенофил, умерший в возрасте ста шести лет ипользовавшийся до самой смерти прекрасным здоровьем [4]), так и потому, что, нахудой конец, когда мы того пожелаем, можно прибегнуть к помощи смерти,которая положит предел нашему земному существованию и прекратит нашимытарства. Но что касается смерти, то она неизбежна:
- Omnes eodem cogimur, omnium
- Versatur urna, serius ocius
- Sors exitura et nos in aeternum
- Exitium impositura cymbae. [5]
Из чего следует, что если она внушает нам страх, то это является вечнымисточником наших мучений, облегчить которые невозможно. Она подкрадывается кнам отовсюду. Мы можем, сколько угодно, оборачиваться во все стороны, как мыделаем это в подозрительных местах: quae quasi saxum Tantalo semperimpendet. [6] Нашипарламенты нередко отсылают преступников для исполнения над ними смертногоприговора в то самое место, где совершено преступление. Заходите с ними подороге в роскошнейшие дома, угощайте их там изысканнейшими яствами инапитками,
- non Siculae dapes
- Dulcem elaborabunt saporem,
- Non avium cytharaeque cantus
- Somnum reducent; [7]
думаете ли вы, что они смогут испытать от этого удовольствие и чтоконечная цель их путешествия, которая у них всегда перед глазами, не отобьету них вкуса ко всей этой роскоши, и та не поблекнет для них?
- Audit iter, numeratque dies, spatioque viarum
- Metitur vitam, torquetur peste futura. [8]
Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел нашихстремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя быодин-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство,применяемое невежественными людьми — вовсе не думать о ней. Но какаяживотная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! Таким толькои взнуздывать осла с хвоста.
- Qui capite ipse suo instituit vestigia retro, [9] —
и нет ничего удивительного, что подобные люди нередко попадаются взападню. Они страшатся назвать смерть по имени, и большинство из них припроизнесении кем-нибудь этого слова крестится так же, как при упоминаниидьявола. И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите,чтобы они подумали о его составлении прежде, чем врач произнесет над нимисвой последний приговор; и одному богу известно, в каком состоянии находятсяих умственные способности, когда, терзаемые смертными муками и страхом, онипринимаются, наконец, стряпать его.
Так как слог, обозначавший на языке римлян «смерть» [10], слишком резалих слух, и в его звучании им слышалось нечто зловещее, они научились либоизбегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того, чтобы сказать«он умер», они говорили «он перестал жить» или «он отжил свое». Посколькуздесь упоминается жизнь, хотя бы и завершившаяся, это приносило им известноеутешение. Мы заимствовали отсюда наше: «покойный господин имя рек». Прислучае, как говорится, слово дороже денег. Я родился между одиннадцатьючасами и полночью, в последний день февраля тысяча пятьсот тридцать третьегогода по нашему нынешнему летоисчислению, то есть, считая началом года январь [11]. Две недели тому назад закончился тридцать девятый год моей жизни, имне следует прожить, по крайней мере, еще столько же. Было быбезрассудством, однако, воздерживаться от мыслей о такой далекой, казалосьбы, вещи. В самом деле, и стар и млад одинаково сходят в могилу. Всякий неиначе уходит из жизни, как если бы он только что вступил в нее. Добавьтесюда, что нет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле [12], нерассчитывал бы прожить еще годиков двадцать. Но, жалкий глупец, — ибо что жеиное ты собой представляешь! — кто установил срок твоей жизни? Тыосновываешься на болтовне врачей. Присмотрись лучше к тому, что окружаеттебя, обратись к своему личному опыту. Если исходить из естественного ходавещей, то ты уже долгое время живешь благодаря особому благоволению неба. Тыпревысил обычный срок человеческой жизни. И дабы ты мог убедиться в этом,подсчитай, сколько твоих знакомых умерло ранее твоего возраста, и тыувидишь, что таких много больше, чем тех, кто дожил да твоих лет. Составь,кроме того, список украсивших свою жизнь славою, и я побьюсь об заклад, чтов нем окажется значительно больше умерших до тридцатипятилетнего возраста,чем перешедших этот порог. Разум и благочестие предписывают нам считатьобразцом человеческой жизни жизнь Христа; но она кончилась для него, когдаему было тридцать три года. Величайший среди людей, на этот раз просточеловек — я имею в виду Александра — умер в таком же возрасте.
И каких только уловок нет в распоряжении смерти, чтобы захватить насврасплох!
- Quid quisque vitet, nunquam homini satis
- Cautum est in horas. [13]
Я не стану говорить о лихорадках и воспалении легких. Но кто мог быподумать, что герцог Бретонский будет раздавлен в толпе, как это случилосьпри въезде папы Климента, моего соседа [14], в Лион? Не видали ли мы, какодин из королей наших был убит, принимая участие в общей забаве? [15] Иразве один из предков его не скончался, раненный вепрем? [16] Эсхил,которому было предсказано, что он погибнет раздавленный рухнувшей кровлей,мог сколько угодно принимать меры предосторожности; все они оказалисьбесполезными, ибо его поразил насмерть панцирь черепахи, выскользнувшей изкогтей уносившего ее орла. Такой-то умер, подавившись виноградной косточкой [17]; такой-то император погиб от царапины, которую причинил себе гребнем;Эмилий Лепид — споткнувшись о порог своей собственной комнаты, а Авфидий —ушибленный дверью, ведущей в зал заседаний совета. В объятиях женщинскончали свои дни: претор Корнелий Галл, Тигеллин, начальник городскойстражи в Риме, Лодовико, сын Гвидо Гонзаго, маркиза Мантуанского, а также —и эти примеры будут еще более горестными — Спевсипп, философ школы Платона,и один из пап. Бедняга Бебий, судья, предоставив недельный срок одной изтяжущихся сторон, тут же испустил дух, ибо срок, предоставленный ему, самомуистек. Скоропостижно скончался и Гай Юлий, врач; в тот момент, когда онсмазывал глаза одному из больных, смерть смежила ему его собственные. Да исреди моих родных бывали тому примеры: мой брат, капитан Сен-Мартен,двадцатитрехлетний молодой человек, уже успевший, однако, проявить своинезаурядные способности, как-то во время игры был сильно ушиблен мячом,причем удар, пришедшийся немного выше правого уха, не причинил раны и неоставил после себя даже кровоподтека. Получив удар, брат мой не прилег идаже не присел, но через пять или шесть часов скончался от апоплексии,причиненной этим ушибом. Наблюдая столь частые и столь обыденные примерыэтого рода, можем ли мы отделаться от мысли о смерти и не испытывать всегдаи всюду ощущения, будто она уже держит нас за ворот.
Но не все ли равно, скажете вы, каким образом это с нами произойдет?Лишь бы не мучиться! Я держусь такого же мнения, и какой бы мне нипредставился способ укрыться от сыплющихся ударов, будь то даже под шкуройтеленка, я не таков, чтобы отказаться от этого. Меня устраивает решительновсе, лишь бы мне было покойно. И я изберу для себя наилучшую долю из всех,какие мне будут предоставлены, сколь бы она ни была, на ваш взгляд, малопочетной и скромной:
- praetulerim delirus inersque videri
- Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,
- Quam sapere et ringi [18]
Но было бы настоящим безумием питать надежды, что таким путем можноперейти в иной мир. Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте,пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо, все как нельзя лучше. Но еслиона нагрянет, — к ним ли самим или к их женам, детям, друзьям, захватив ихврасплох, беззащитными, — какие мучения, какие вопли, какая ярость и какоеотчаянье сразу овладевают ими! Видели ли вы кого-нибудь таким жеподавленным, настолько же изменившимся, настолько смятенным? Следовало быпоразмыслить об этих вещах заранее. А такая животная беззаботность, — еслитолько она возможна у сколько-нибудь мыслящего человека (по-моему, онасовершенно невозможна) — заставляет нас слишком дорогою ценой покупать ееблага. Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, япосоветовал бы воспользоваться этим оружием трусов. Но так как от нееускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плутили честный человек,
- Nempe et fugacem persequitur virum,
- Nec parcit imbellis iuventae
- Poplitibus, timidoque tergo, [19]
и так как даже наилучшая броня от нее не обережет,
- Ille licet ferro cautus se condat et aere,
- Mors tamen inclusum protrahet inde caput, [20]
давайте научимся встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство.И, чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположныйобычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней,размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будемте всюду и всегдавызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее обличиях. Если поднами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наколемся обулавку, будем повторять себе всякий раз: «А что, если это и есть самасмерть?» Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. Посредипразднества, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот жеприпев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствиямзахватывать нас настолько, чтобы время от времени у нас не мелькала мысль:как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и какимтолько нежданным ударам ни подвержена наша жизнь! Так поступали египтяне, укоторых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с самыми лучшимияствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служиланапоминанием для пирующих.
- Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
- Grata superveniet, quae non sperabitur hora. [21]
Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду.Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тотразучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчиненияи принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь —не зло. Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного царямакедонского, его пленника, передавший просьбу последнего не принуждать егоидти за триумфальною колесницей, тот ответил: «Пусть обратится с этойпросьбой к себе самому».
По правде сказать, в любом деле одним уменьем и стараньем, если не даноеще кое-что от природы, многого не возьмешь. Я по натуре своей немеланхолик, но склонен к мечтательности. И ничто никогда не занимало моеговоображения в большей мере, чем образы смерти. Даже в наиболеелегкомысленную пору моей жизни —
- Iucundum cum aetas florida ver ageret, [22]
когда я жил среди женщин и забав, иной, бывало, думал, что я терзаюсьмуками ревности или разбитой надеждой, тогда как в действительности моимысли были поглощены каким-нибудь знакомым, умершим на днях от горячки,которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с душой, полноюнеги, любви и еще не остывшего возбуждения, совсем как это бывает со мною, ив ушах у меня неотвязно звучало:
- Iam fuerit, nec post unquam revocare licebit. [23]
Эти раздумья не избороздили мне морщинами лба больше, чем всеостальные. Впрочем, не бывает, конечно, чтобы подобные образы при первомсвоем появлении не причиняли нам боли. Но возвращаясь к ним все снова иснова, можно в конце концов, освоиться с ними. В противном случае — так былобы, по крайней мере, со мной — я жил бы в непрестанном страхе волнений, ибоникто никогда не доверял своей жизни меньше моего, никто меньше моего нерассчитывал на ее длительность. И превосходное здоровье, которым янаслаждаюсь посейчас и которое нарушалось весьма редко, нисколько не можетукрепить моих надежд на этот счет, ни болезни — ничего в них убавить. Меняпостоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю от смерти. И ябез конца нашептываю себе: «Что возможно в любой день, то возможно такжесегодня». И впрямь, опасности и случайности почти или — правильнее сказать —нисколько не приближают нас к вашей последней черте; и если мы представимсебе, что, кроме такого-то несчастья, которое угрожает нам, по-видимому,всех больше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, чтосмерть действительно всегда рядом с нами, — и тогда, когда мы веселы, икогда горим в лихорадке, и когда мы на море, и когда у себя дома, и когда всражении, и когда отдыхаем. Nemo altero fragilior est: nemo in crastinum suicertior. [24] Мне всегда кажется, что до приходасмерти я так и не успею закончить то дело, которое должен выполнить, хотя быдля его завершения требовалось не более часа. Один мой знакомый, перебираякак-то мои бумаги, нашел среди них заметку по поводу некоей вещи, которую,согласно моему желанию, надлежало сделать после моей кончины. Я рассказалему, как обстояло дело: находясь на расстоянии какого-нибудь лье от дома,вполне здоровый и бодрый, я поторопился записать свою волю, так как не былуверен, что успею добраться к себе. Вынашивая в себе мысли такого рода ивбивая их себе в голову, я всегда подготовлен к тому, что это можетслучиться со мной в любое мгновенье. И как бы внезапно ни пришла ко мнесмерть, в ее приходе не будет для меня ничего нового.
Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе, нужно, насколько это зависитот нас, быть постоянно готовыми к походу, и в особенности остерегаться, какбы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме о себе.
- Quid brevi fortes iaculamur aevo
- Multa? [25]
Ведь забот у нас и без того предостаточно. Один сетует не столько дажена самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящимуспехом начатое дело; другой — что приходится переселяться на тот свет, неспев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей; этотоплакивает разлуку с женой, тот — с сыном, так как в них была отрада всейего жизни.
Что до меня, то я, благодарение богу, готов убраться отсюда, когда емубудет угодно, не печалуясь ни о чем, кроме самой жизни, если уход из неебудет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину ужераспрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека,который был бы так основательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этогомира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь,это удалось сделать мне.
- Miser, о miser, aiunt, omnia ademit
- Una dies infesta mihi tot praemia vitae. [26]
А вот слова, подходящие для любителя строиться:
- Manent opera interrupta, minaeque
- Murorum ingentes. [27]
Не стоит, однако, в чем бы то ни было загадывать так далеко вперед или,во всяком случае, проникаться столь великою скорбью из-за того, что тебе неудастся увидеть завершение начатого тобой. Мы рождаемся для деятельности:
- Cum moriar, medium solvar et inter opus. [28]
Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполнялиналагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкойкапусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и, тем более, кмоему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одно умирающего,который уже перед самой кончиной не переставал выражать сожаление, что злаясудьба оборвала нить составляемой им истории на пятнадцатом или шестнадцатомиз наших королей.
- Illud in his rebus nec addunt, noc tibi earum
- Iam desiderium rerum super insidet una. [29]
Нужно избавиться от этих малодушных и гибельных настроений. И подобнотому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемыхместах города, дабы приучить, как сказал Ликург, детей, женщин ипростолюдинов не пугаться при виде покойников, а также, чтобы человеческиеостанки, могилы и похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постояннонапоминали об ожидающей нас судьбе,
- Quin etiam exhilarare viris convivia caede
- Mos olim, et miscere epulis spectacula dira
- Certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum
- Pocula respersis non parco sanguine mensis; [30]
подобно также тому, как египтяне, по окончании пира, показывалиприсутствующим огромное изображение смерти, причем державший его восклицал:«Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же», так и яприучал себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде.И нет ничего, что в большей мере привлекало б меня, чем рассказы о смертитакого-то или такого-то; что они говорили при этом, каковы были их лица, какони держали себя; это же относится и к историческим сочинениям, в которых яособенно внимательно изучая места, где говорится о том же. Это видно хотя быуже из обилия приводимых мною примеров и из того необычайного пристрастия,какое я питаю к подобным вещам. Если бы я был сочинителем книг, я составилбы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Ктоучит людей умирать, тот учит их жить.
Дикеарх [31] составил подобную книгу, дав ей соответствующее название,но он руководствовался иною, и притом менее полезной целью.
Мне скажут, пожалуй, что действительность много ужаснее нашихпредставлений о ней и что нет настолько искусного фехтовальщика, который несмутился бы духом, когда дело дойдет до этого. Пусть себе говорят, авсе-таки размышлять о смерти наперед — это, без сомнения, вещь полезная. Ипотом, разве это безделица — идти до последней черты без страха и трепета? Ибольше того: сама природа спешит нам на помощь и ободряет нас. Если смерть —быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом пред нею;если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемногу вболезнь, я вместе с тем начинаю естественно проникаться известнымпренебрежением к жизни. Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда яздоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Посколькурадости жизни не влекут меня больше с такою силою, как прежде, ибо яперестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие, — я смотрю и насмерть менее испуганными глазами. Это вселяет в меня надежду, что чем дальшеотойду я от жизни и чем ближе подойду к смерти, тем легче мне будетсвыкнуться с мыслью, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись на многихпримерах в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещикажутся нам нередко значительно большими, чем вблизи, я подобным образомобнаружил, что, будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялсяболезней, чем тогда, когда они давали знать о себе: бодрость, радость жизнии ощущение собственного здоровья заставляют меня представлять себепротивоположное состояние настолько отличным от того, в котором я пребываю,что я намного преувеличиваю в своем воображении неприятности, доставляемыеболезнями, и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности,когда они настигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять неиначе.
Рассмотрим теперь, как поступает природа, чтобы лишить нас возможностиощущать, несмотря на непрерывные перемены к худшему и постепенное увядание,которое все мы претерпеваем, и эти наши потери и наше постепенноеразрушение. Что остается у старика из сил его юности, от его былой жизни?
- Heu senibus vitae portio quanta manet. [32]
Когда один из телохранителей Цезаря, старый и изнуренный, встретив егона улице, подошел к нему и попросил от пустить его умирать, Цезарь, увидев,насколько он немощен, довольно остроумно ответил: «Так ты, оказывается,мнишь себя живым?» Я не думаю, что мы могли бы снести подобное превращение,если бы оно сваливалось на нас совершенно внезапно. Но жизнь ведет нас заруку по отлогому, почти неприметному склону, потихоньку до полегоньку, покане ввергнет в это жалкое состояние, заставив исподволь свыкнуться с ним. Вотпочему мы не ощущаем никаких потрясений, когда наступает смерть нашеймолодости, которая, право же, по своей сущности гораздо более жестока,нежели кончина еле теплящейся жизни, или же кончина нашей старости. Ведьпрыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия-радости ипроцветания к бытию — скорби и муке.
Скрюченное и согбенное тело не в состоянии выдержать тяжелую ношу; тоже и с нашей душой: ее нужно выпрямить и поднять, чтобы ей было под силуединоборство с таким противником. Ибо если невозможно, чтобы она пребываласпокойной, трепеща перед ним, то, избавившись от него, она приобретает правохвалиться, — хотя это, можно сказать, почти превосходит человеческиевозможности, — что в ней не осталось более места для тревоги, терзаний,страха или даже самого легкого огорчения.
- Non vultus instantis tyranni
- Mente quatit solida, neque Auster
- Dux inquieti turbidus Adriae,
- Nec fulminantis magna Iovis manus. [33]
Она сделалась госпожой своих страстей и желаний; она властвует наднуждой, унижением, нищетой и всеми прочими превратностями судьбы. Такдавайте же, каждый в меру своих возможностей, добиваться столь важногопреимущества! Вот где подлинная я ничем не стесняемая свобода, дающая намвозможность презирать насилие и произвол, и смеяться над тюрьмами в оковами:
- in manicia, et
- Compedibus, saevo te sub custode tenebo.
- Ipse deus simul atque volam, me solvet: opinor
- Hoc sentit, moriar. Mors ultima linea rerum est. [34]
Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в нейпрезрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря:стоит ля бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать внас сожаления? — но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие видысмерти, не тягостнее ли страшиться их всех, чем претерпеть какой-либо один?И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится? Тому, кто сказалСократу: «Тридцать тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А ихосудила на смерть природа» [35].
Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся откаких бы то ни было огорчений!
Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всегоокружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтомустоль же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, както, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизнидругого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в этужизнь, и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку.
Не может быть тягостным то, что происходит один-единственный раз. Имеетли смысл трепетать столь долгое время перед столь быстротечною вещью? Долголи жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью?Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого ни короткого.Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые,живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часовутра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов вечера умирают впреклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвалитех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти тоже и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностьюсуществования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных [36].
Впрочем , природа не дает нам зажиться. Она говорит: «Уходите из этогомира так же, как вы вступили в него. Такой же переход, какой некогдабесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперьот жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселеннойпорядка; она звено мировой жизни:
- inter se mortales mutua vivunt
- Et quasi cursores vitai lampada tradunt. [37]
Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть —обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, тозначит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вынаслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой — смерти. Вдень своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать:
Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вамиза ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть.Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас нераньше, чем вы покинете жизнь.
Или, если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, нопроживете вы ее, умирая: смерть, разумеется, несравненно сильнее поражаетумирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже.
Если вы познали радости в жизни, вы успели насытиться ими; так уходитеже с удовлетворением в сердце:
- Cur non ut plenus vitae conviva recedis? [40]
Если же вы не сумели ею воспользоваться, если она поскупилась для вас,что вам до того, что вы потеряли ее, на что она вам?
- Cur amplius addere quaeris
- Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne? [41]
Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла,смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожилиодин-единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как всепрочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, этизвезды, это устройство вселенной — все это то же, от чего вкусили пращурываши и что взрастит ваших потомков:
- Non alium videre: patres aliumve nepotes
- Aspicient. [42]
И, на худой конец, все акты моей комедии, при всем разнообразии их,протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырехвремен года, вы не могли не заметить, что они обнимают собою все возрастымира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать емубольше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда:
- versamur ibidem, atque insumus usque
- Atque in se sua per vestigia volvitur annus. [43]
Или вы воображаете, что я стану для вас создавать какие-то новыеразвлечения?
- Nam tibi praeterea quod machiner, inveniamque
- Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semper. [44]
Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенствоесть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что онобречен, если все другие тоже обречены? Сколько бы вы ни жили, вам несократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилияздесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вамтакой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы:
- licet, quod vis, vivendo vincere saecla,
- Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit. [45]
И я поведу вас туда, где вы не будете испытывать никаких огорчений:
- In vera nescis nullum fore morte alium te,
- Qui possit vivus tibi lugere peremptum.
- Stansque iacentem. [46]
И не будете желать жизни, о которой так сожалеете:
- Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit,
- Nec desiderium nostri nos afficit ullum. [47]
Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем ничто, если существуетчто-нибудь ничтожнее, чем это последнее:
- multo mortem minus ad nos esse putandum
- Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus. [48]
Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы — потому,что вы существуете; когда умерли — потому, что вас больше не существует.
Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас,не более ваше, чем то, что протекало до вашего рождения; и ваше дело тут —сторона:
- Respice enim quam nil ad nos ante acta vetustas
- Temporis aeterni fuerit. [49]
Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в еедлительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожилмало, не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количествопрожитых лет определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали,что никогда так и не доберетесь туда, куда идете, не останавливаясь? Да естьли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы можете найти утешениев доброй компании то не идет ли весь мир той же стязею, что вы?
- Omnia te vita perfuncta sequentur. [50]
Не начинает ли шататься все вокруг вас, едва пошатнетесь вы сами?Существует ли что-нибудь, что не старилось бы вместе с вами? Тысячи людей,тысячи животных, тысячи других существ умирают в то же мгновение, что и вы:
- Nam nox nulla diem, neque noctem aurora secuta est,
- Quae non audierit mistos vagitibus aegris
- Ploratus, mortis comites et funeris atri. [51]
Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы виделимногих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великихнесчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? Неочень-то умно осуждать то, что не испытано вами, ни на себе, ни на другом.Почему же ты жалуешься и на меня и на свою участь? Разве мы несправедливы ктебе? Кому же надлежит управлять: нам ли тобою или тебе нами? Еще дозавершения сроков твоих, жизнь твоя уже завершилась. Маленький человечектакой же цельный человек, как и большой.
Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями. Хирон отверг длясебя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени,каковы свойства этого бессмертия [52]. Вдумайтесь хорошенько в то, чтоназывают вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы для человекаболее тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас небыло смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишилаее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во вниманиедоступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудноустремляться навстречу ей. Чтобы привить вам ту умеренность, которой я отвас требую, а именно, чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем небежали от смерти, я сделала и ту и другую наполовину сладостными инаполовину скорбными.
Я внушила Фалесу, первому из ваших мудрецов, ту мысль, что жить иумирать — это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же, в такомслучае, он все-таки не умирает, он весьма мудро ответил: «Именно потому, чтоэто одно и то же.
Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено мое здание, суть втакой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чемустрашиться тебе последнего дня? Он лишь в такой же мере способствует твоейсмерти, как и все прочие. Последний шаг не есть причина усталости, он лишьдает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последнийтолько подводит к ней».
Таковы благие наставления нашей родительницы-природы. Я частозадумывался над тем, почему смерть на войне — все равно, касается ли это нассамих или кого-либо иного, — кажется нам несравненно менее страшной, чем усебя дома; в противном случае, армия состояла бы из одних плакс да врачей; иеще: почему, несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне илюди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Яполагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, средикоторых мы ее видим и которые порождают в нас страх еще больший, чем самасмерть. Какая новая, совсем необычная картина: стоны и рыдания матери, жены,детей, растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной челяди, ихзаплаканные и бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет,зажженные свечи, врачи и священники у вашего изголовья! Короче говоря,вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван ипреданы погребению. Дети боятся своих новых приятелей, когда видят их вмаске, — то же происходит и с нами. Нужно сорвать эту маску как с вещей,так, тем более, с человека, и когда она будет сорвана, мы обнаружим под нейту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер илислужанка претерпели без всякого страха. Благостна смерть, не давшая временидля этих пышных приготовлений.
Глава XXI
О силе нашего воображения
Fortis imaginatio generat casum, [*] — говорят ученые.
Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой.Всякий более или менее поддается ему, но некоторых оно совершенно одолевает.Его натиск подавляет меня. Вот почему я норовлю ускользнуть от него, но неСопротивляюсь ему. Я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и веселыелица. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытыватьфизические страдания, и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других.Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит вгорле. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех,к кому меньше привязан и к кому испытываю меньшее уважение. Я перенимаюнаблюдаемую болезнь и испытываю ее на себе. И я не нахожу удивительным, чтовоображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто дает ему волю ипоощряет его. Симон Тома был великим врачом своего времени. Помню, какоднажды, встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больногочахоткой, он, толкуя о способах вернуть ему здоровье, сказал, между прочим,что один из них — это сделать для меня привлекательным пребывание в егообществе, ибо, направляя свой взор на мое свежее молодое лицо, а мысли нажизнерадостность и здоровье, источаемые моей юностью в таком изобилии, атакже заполняя свои чувства цветением моей жизни, он сможет улучшить своесостояние. Он забыл только прибавить, что из-за этого может ухудшиться моесобственное здоровье. Вибий Галл настолько хорошо научился проникатьсясущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум иникогда уже не мог вправить его; он мог бы с достаточным основаниемпохваляться, что стал безумным от мудрости [1]. Встречаются и такие, которыетрепеща перед рукой палача, как бы упреждают ее, — и вот тот, когоразвязывают на эшафоте, чтобы прочитать ему указ о помиловании, — покойник,сраженный своим собственным воображением. Мы покрываемся потом, дрожим,краснеем, бледнеем, потрясаемые своими фантазиями, и, зарывшись в перину,изнемогаем от их натиска; случается, что иные даже умирают от этого. Ипылкая молодежь иной раз так разгорячится, уснув в полном одеянии, что восне получает удовлетворение своих любовных желаний:
- Ut, quasi transactis saepe omnibus rebus, profundant
- Fluminis ingentes fluctus vestemque cruentent. [2]
И хотя никому кому не внове, что в течение ночи могут вырасти рога утого, кто, ложась, не имел их в помине, все же происшедшее с Циппом [3],царем италийским, особенно примечательно; последний, следя весь день снеослабным вниманием за боем быков и видя ночь напролет в своих сновиденияхбычью голову с большими рогами, кончил тем, что вырастил их на своем лбуодной силою воображения. Страсть одарила одного из сыновей Креза [4]голосом, в котором ему отказала природа; а Антиох схватил горячку,потрясенный красотой Стратоники, слишком сильно подействовавшей на его душу [5]. Плиний рассказывает, что ему довелось видеть некоего Луция Коссиция —женщину, превратившуюся в день своей свадьбы в мужчину. Понтано [6] и другиесообщают о превращениях такого же рода, имевших место в Италии и впоследующие века. И благодаря не знающему преград желанию, а также желаниюматери,
- Vota puer solvit, quae femina vovеrat Iphis. [7]
Проезжая через Витри Ле-Франсе, я имел возможность увидеть тамчеловека, которому епископ Суассонский дал на конфирмации имя Жермен; этогомолодого человека все местные жители знали и видели девушкой, носившей додвадцатидвухлетнего возраста имя Мария. В то время, о котором я вспоминаю,этот Жермен был с большой бородой, стар и не был женат. Мужские органы,согласно его рассказу, возникли у него в тот момент, когда он сделал усилие,чтобы прыгнуть дальше. И теперь еще между местными девушками распространенапесня, в которой они предостерегают друг дружку от непомерных прыжков, дабыне сделаться юношами, как это случилось в Марией-Жерменом. Нет никакого чудав том, что такие случае происходят довольно часто. Если воображение в силахтворить подобные вещи, то, постоянно прикованное к одному и тому жепредмету, оно предпочитает порою, вместо того, чтобы возвращаться все сноваи снова к тем же мыслям и тем же жгучим желаниям, одарять девиц навсегдаэтой мужской принадлежностью.
Некоторые приписывают рубцы короля Дагобера и святого Франциска [8]также силе их воображения. Говорят, что иной раз оно бывает способноподнимать тела и переносить их с места на место. А Цельс [9] — тотрассказывает о жреце, доводившем свою душу до такого экстаза, что тело егона долгое время делалось бездыханным и теряло чувствительность. СвятойАвгустин называет другого, которому достаточно было услышать чей-нибудь плачили стон, как он сейчас же впадал в обморок, и настолько глубокий, чтосколько бы ни кричали ему в самое ухо и вопили и щипали его и дажеподпаливали, ничто не помогало, пока он не приходил, наконец, в сознание; онговорил, что в таких случаях ему слышатся какие-то голоса, но как быоткуда-то издалека и только теперь, опомнившись, он замечал свои синяки иожоги. А что это не было упорным притворством и что он не скрывалпросто-напросто свои ощущения, доказывается тем, что, пока длился обморок,он не дышал и у него не было пульса [10].
Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иныенеобыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение,воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных,поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здравосудить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то,чего на деле вовсе не видят.
Я держусь того мнения, что так называемое наведение порчи нановобрачных, которое столь многим людям причиняет большие неприятности и окотором в наше время столько толкуют, объясняется, в сущности, лишьдействием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого яготов поручиться, как за себя самого, в том, что его-то уж никак нельзязаподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он былво власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапнопостигшем того, и притом в самый неподходящий момент, полном бессилии,испытал, оказавшись в сходном положении, то же самое вследствие страха,вызванного в нем этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с нимне раз случалась подобная вещь, ибо тягостное воспоминание о первой неудачесвязывало и угнетало его. В конце концов, он избавился от этого надуманногонедуга при помощи другой выдумки. А именно, признаваясь в своем недостатке ипредупреждая о нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможностинеудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности, и она меньшетяготила его. После того, как он избавился от угнетавшего его сознания виныи почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесныеспособности перешли в свое натуральное состояние; первая же попытка егооказалась удачной, и он добился полного исцеления.
Ведь кто оказался способным к этому хоть один раз, тот и в дальнейшемсохранит эту способность, если только он и в самом деле не страдаетбессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах, когда нашадуша сверх меры охвачена, с одной стороны, пылким желанием, с другой —робостью, и, особенно, если благоприятные обстоятельства застают насврасплох и требуют решительности и быстроты действий; тут уж, действительно,ничем не поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды егособственное тело, когда в последнем началось пресыщение и вследствие этогоослабление плотского желания; с годами он стал ощущать в себе меньшебессилия именно потому, что сделался менее сильным. Знаю я и другого,которому от того же помог один из друзей, убедивший его, будто он обладаетцелой батареей амулетов разного рода, способных противостоять всяким чарам.Но лучше я расскажу все по порядку. Некий граф из очень хорошего рода, скоторым я был в приятельских отношениях, женился на прелестной молодойженщине; поскольку за нею прежде упорно ухаживал некто, присутствовавший наторжестве, молодой супруг переполошил своими страхами и опасениями друзей и,в особенности, одну старую даму, свою родственницу, распоряжавшуюся насвадьбе и устроившую ее у себя в доме; эта дама, боявшаяся наваждений всглаза, поделилась своею тревогой со мной. Я попросил ее положиться во всемна меня. К счастью, в моей шкатулке оказалась золотая вещица с изображеннымина ней знаками Зодиака. Считалось, что, если ее приложить к черепному шву,она помогает от солнечного удара и головной боли, а дабы она могла тамдержаться, к ней была прикреплена лента, достаточно длинная, чтобы концы ееможно было завязывать под подбородком. Короче говоря, это такой же вздор,как и тот, о котором мы ведем речь. Этот необыкновенный подарок сделал мнеЖак Пеллетье [11]. Я вознамерился употребить его в дело и сказал графу, чтоего может постигнуть такая же неудача, как и многих других, ибо тутнаходится личности, готовые подстроить ему подобную неприятность. Но пустьон смело ложится в постель, так как я намерен оказать ему дружескую услугу ине пожалею для него чудесного средства, которым располагаю, при условии, чтоон даст мне слово сохранять относительно этого строжайшую тайну.Единственное, что потребуется от него, это чтобы ночью, когда мы понесем кнему в спальню свадебный ужин, он, буде дела его пойдут плохо, подал мнесоответствующий знак. Его настолько взволновали мои слова и он настолько палдухом, что не мог совладать с разыгравшимся воображением и подал условленныймежду нами знак. Тогда я сказал ему, чтобы он поднялся со своего ложа, какбы за тем, чтобы прогнать нас подальше, и, стащив с меня якобы в шуткушлафрок (мы были почти одного роста), надел его на себя, но только послетого, как выполнит мои предписания, а именно: когда мы выйдем из спальни,ему следует удалиться будто бы за малой нуждою и трижды прочитать тамтакие-то молитвы и трижды же проделать такие-то телодвижения; и чтобы онвсякий раз опоясывал себя при этом той лентою, которую я ему сунул в руку,прикладывая прикрепленную к ней медаль к определенному месту на пояснице,так, чтобы лицевая ее сторона находилась в таком-то и таком-то положении.Проделав это, он должен хорошенько закрепить ленту, чтобы она не развязаласьи не сдвинулась с места и лишь после всего этого он может, наконец, с полнойуверенностью в себе возвратиться к своим трудам. Но пусть он не забудет приэтом, сбросив с себя мой шлафрок, швырнуть его к себе на постель, так чтобыон накрыл их обоих. Эти церемонии и есть самое главное; они-то больше всегои действуют: наш ум не может представить себе, чтобы столь необыкновенныедействия не опирались на какие-нибудь тайные знания. Как раз их нелепость ипридает им такой вес и значение. Короче говоря, обнаружилось с очевидностью,что знаки на моем талисмане связаны больше с Венерой, чем с Солнцем, атакже, что они скорей поощряют, чем ограждают. На эту проделку толкнула менявнезапная и показавшаяся мне забавною прихоть моего воображения, в общемчуждая складу моего характера. Я враг всяческих ухищрений и выдумок. Яненавижу хитрость, и не только потехи ради, но и тогда, когда она могла быдоставить выгоду. Если в самом проступке моем и не было ничего плохого,путь, мною избранный, все же плох.
Амасис, царь египетский [12], женился на Лаодике, очень красивойгреческой девушке; и вдруг оказалось, что он, который неизменно бывалславным сотоварищем в любовных утехах, не в состоянии вкусить от неенаслаждений; он грозил, что убьет ее, считая, что тут не без колдовства. Икак бывает обычно во всем, что является плодом воображения, оно увлекло егок благочестию; обратившись к Венере с обетами и мольбами, он ощутил уже впервую ночь после заклания жертвы и возлияний, что силы его чудесным образомвосстановились.
И зря иные женщины встречают нас с таким видом, будто к ним опаснопритронуться, будто они злятся на нас, и мы внушаем им неприязнь; они гасятв нас пыл, стараясь разжечь его. Сноха Пифагора говаривала, что женщина,которая спит с мужчиною, должна вместе с платьем сбрасывать с себя истыдливость, а затем вместе с платьем вновь обретать ее. Душа осаждающего,скованная множеством тревог и сомнений, легко утрачивает власть над собою, —и кого воображение заставило хоть раз вытерпеть этот позор (а он возможенлишь на первых порах, поскольку первые приступы всегда ожесточеннее инеистовее, а также и потому, что вначале особенно сильны опасения вблагополучном исходе), тот, плохо начав, испытывает волнение и досаду,вспоминая об этой беде, и то же самое, вследствие этого, происходит с ним ив дальнейшем.
Новобрачные, у которых времени сколько угодно, не должны торопиться иподвергать себя испытанию, пока они не готовы к нему; и лучше нарушитьобычай и не спешить с воздаянием должного брачному ложу, где все исполненоволнения и лихорадки, а дожидаться, сколько бы ни пришлось, подходящегослучая, уединения и спокойствия, чем сделаться на всю жизнь несчастным,пережив потрясение и впав в отчаянье от первой неудачной попытки.
Не без основания отмечают своенравие этого органа, так некстатиоповещающего нас порой о своей готовности, когда нам нечего с нею делать, истоль же некстати утрачивающего ее, когда мы больше всего нуждаемся в ней;так своенравно сопротивляющегося владычеству нашей воли и с такоюнадменностью и упорством отвергающего те увещания, с которыми к немуобращается наша мысль. И все же, предложи он мне соответствующеевознаграждение, дабы я защищал его от упреков, служащих основанием, чтобывынести ему обвинительный приговор, я постарался бы, в свою очередь,возбудить подозрение в отношении остальных наших органов, его сотоварищей, втом, что они, из зависти к важности и приятности принадлежащих емуобязанностей, выдвинули это ложное обвинение и составили заговор, дабывосстановить против него целый мир, злостно приписывая ему одномупрегрешения, в которых повинны все они вместе.
Предоставляю вам поразмыслить, существует ли такая часть нашего тела,которая безотказно выполняла бы свою работу в согласии с нашей волей иникогда бы не действовала наперекор ей. Каждой из них свойственны своиособые страсти, которые пробуждают ее от спячки или погружают, напротив, всон, не спрашиваясь у нас. Как часто непроизвольные движения на нашем лицеуличают нас в таких мыслях, которые мы хотели бы утаить про себя, и темсамым выдают окружающим! Та же причина, что возбуждает наши сокровенныеорганы, возбуждает без нашего ведома также сердце, легкие, пульс: видприятного нам предмета мгновенно воспламеняет нас лихорадочным возбуждением.Разве мышцы и жилы не напрягаются, а также не расслабляются сами собой, нетолько помимо участия нашей воли, но и тогда, когда мы даже не помышляем обэтом? Не по нашему приказанию волосы становятся у нас дыбом, а кожапокрывается потом от желания или страха. Бывает и так, что язык цепенеет иголос застревает в гортани. Когда нам нечего есть, мы охотно запретили быголоду беспокоить нас своими напоминаниями, и, однако, желание есть и естьне перестает терзать наши органы, подчиненные ему, совершенно так же, както, другое желание; и оно же, когда ему вздумается, внезапно бежит от нас, ичасто весьма некстати. Органы, предназначенные разгружать наш желудок, такжесжимаются и расширяются по своему произволу, помимо нашего намерения, ипорой вопреки ему, равно как и те, которым надлежит разгружать наши почки.Правда, св. Августин, чтобы доказать всемогущество вашей воли, в ряду другихдоказательств ссылается также на одного человека, которого от сам видел икоторый приказывал своему заду производить то или иное количество выстрелов,а комментатор св. Августина Вивес добавляет пример, относящийся уже к еговремени, сообщая, что некто умел издавать подобные звуки соответственноразмеру стихов, которые при этом читали ему; отсюда, однако, вовсе невытекает, что данная часть нашего тела всегда повинуется нам, ибо чаще всегоона ведет себя весьма и весьма нескромно, доставляя нам немало хлопот.Добавлю, что мне ведома одна такая же часть нашего тела, настолько шумливаяв своенравная, что вот уже сорок лет, как она не дает своему хозяину ниотдыха, нм срока, действуя постоянно и непрерывно и ведя его, подобнымобразом, к преждевременной смерти.
Но и наша воля, защищая права которой мы выдвинули эти упреки, — как жедело обстоит с нею? Не можем ли мы по причине свойственных ей строптивости инеобузданности с еще большим основанием заклеймить ее обвинением ввозмущениях и мятежах? Всегда ли она желает того, чего мы хотим, чтобыжелала она? Не желает ли она часто того — и притом к явному ущербу для нас, — что мы ей запрещаем желать? Не отказывается ли она повиноваться решениямнашего разума? Наконец, в пользу моего подзащитного я мог бы добавить иследующее: да соблаговолят принять во внимание то, что обвинение, выдвинутоепротив него, неразрывно связано с пособничеством его сотоварищей, хотя иобращено только к нему одному, ибо улики и доказательства здесь таковы, что,учитывая обстоятельства тяжущихся сторон, они не могут быть предъявлены егосотоварищам. Уже из этого легко усмотреть недобросовестность и явнуюпристрастность истцов. Как бы то ни было, сколько бы не препирались и какиебы решения ни выносили адвокаты и судьи, природа всегда будет действоватьсогласно своим законам; и она поступила, вне всякого сомнения, вполнеправильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он —вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Зачатие,согласно Сократу, есть божественное деяние; любовь — жажда бессмертия и онаже — бессмертный дух.
Иной благодаря силе воображения оставляет свою золотуху у нас, тогдакак товарищ его уносит ее обратно в Испанию [13]. Вот почему в подобныхвещах требуется, как правило, известная подготовка души. Ради чего врачи стаким рвением добиваются доверия своего пациента, не скупясь на лживыепосулы поправить его здоровье, если не для того, чтобы его воображениепришло на помощь их надувательским предписаниям? Они знают из сочинения,написанного одним из светил их ремесла, что бывают люди, которыепоправляются от одного вида лекарства.
Обо всех этих причудливых и странных вещах я вспомнил совсем недавно всвязи с тем, о чем мне рассказывал наш домашний аптекарь, — его услугамипользовался мой покойный отец, — человек простой, из швейцарцев, а это, какизвестно, народ ни в какой мере не суетный и не склонный прилгнуть. Втечение долгого времени, проживая в Тулузе, он посещал одного больногокупца, страдавшего от камней и нуждавшегося по этой причине в частныхклистирах, так что врачи, в зависимости от его состояния, прописывали ему поего требованию клистиры разного рода. Их приносили к нему, и он никогда незабывал проверить, все ли в надлежащем порядке; нередко он пробовал также,не слишком ли они горячи. Но вот он улегся в постель, повернулся спиною; всесделано, как полагается, кроме того, что содержимое клистира так и невведено ему внутрь. После этого аптекарь уходит, а пациент устраиваетсятаким образом, словно ему и впрямь был поставлен клистир, ибо всепроделанное над ним действовало на него не иначе, как действует это средствона тех, кто по-настоящему применяет его. Если врач находил, что клистирподействовал недостаточно, аптекарь давал ему еще два или три совершеннотаких же. Мой рассказчик клянется, что супруга больного, дабы избежатьлишних расходов (ибо он оплачивал эти клистиры, как если бы они и в самомделе были ему поставлены), делала неоднократные попытки ограничитьсятепловатой водой, но так как это не действовало, проделка ее вскореоткрылась и, поскольку ее клистиры не приносили никакой пользы, пришлосьвозвратиться к старому способу.
Одна женщина, вообразив, что проглотила вместе с хлебом булавку,кричала и мучилась, испытывая, по ее словам, нестерпимую боль в областигорла, где якобы и застряла булавка. Но так как не наблюдалось ни опухоли,ни каких-либо изменений снаружи, некий смышленый малый, рассудив, что тутвсего-навсего мнительность и фантазия, порожденные тем, что кусочек хлебаоцарапал ей мимоходом горло, вызвал у нее рвоту и подбросил в то, чем еевытошнило, изогнутую булавку. Женщина, поверив, что она и взаправду изверглабулавку, внезапно почувствовала, что боли утихли. Мне известен также и такойслучай: один дворянин, попотчевав на славу гостей, через три или четыре дняпосле этого стал рассказывать в шутку (ибо в действительности ничегоподобного не было), будто он накормил их паштетом из кошачьего мяса. Этоввергло одну девицу из числа тех, кого он принимал у себя, в такой ужас, чтоу нее сделались рези в желудке, а также горячка, и спасти ее так и неудалось. Даже животные, и те, совсем как люди, подвержены силе своеговоображения; доказательством могут служить собаки, которые околевают стоски, если потеряют хозяина. Мы наблюдаем также, что они тявкают ивздрагивают во сне; а лошади ржут и лягаются.
Но все вышесказанное может найти объяснение в тесной связи души стелом, сообщающими друг другу свое состояние. Иное дело, если воображение,как это подчас случается, воздействует не только на свое тело, но и на телодругого. И подобно тому как больное тело переносит свои немощи на соседей,что видно хотя бы на примере чумы, сифилиса или главных болезней,переходящих с одного на другого, —
- Dum spectant oculi laesos, laeduntur et ipsi:
- Multaque corporibus transitione nocent, [14]
так, равным образом, и возбужденное воображение мечет стрелы, способныепоражать окружающие предметы. Древние рассказывают о скифских женщинах,которые, распалившись на кого-нибудь гневом, убивали его своим взглядом.Черепахи и страусы высиживают свои яйца исключительно тем, что, неотрываясь, смотрят на них, и это доказывает, что они обладают некоейизливающейся из них силою. Что касается колдунов, то утверждают, будто ихвзгляды наводят порчу и сглаз:
- Nescio qui teneros oculus mihi fascinat agnos. [15]
Чародеи, впрочем, по-моему, плохие ответчики. Но вот что мы знаем наосновании опыта: женщины сообщают детям, вынашивая их в своем чреве, чертыодолевающих их фантазией; доказательством может служить та, что родиланегра. Карлу, королю богемскому и императору, показали как-то одну девицу изПизы, покрытую густой и длинною шерстью; по словам матери, она ее зачалатакою, потому что над ее постелью висел образ Иоанна Крестителя. То же самоеи у животных; доказательство — овны Иакова [16], а также куропатки и зайцы,выбеленные в горах лежащим там снегом. Недавно мне пришлось наблюдать, каккошка подстерегала сидевшую на дереве птичку; обе они некоторое времясмотрели, не сводя глаз, друг на друга, и вдруг птичка как мертвая свалиласькошке прямо в лапы, то ли одурманенная своим собственным воображением, то липривлеченная какой-то притягательной силой, исходившей от кошки. Любителисоколиной охоты знают, конечно, рассказ о сокольничем, который побился обзаклад, что, пристально смотря на парящего в небе ястреба, он заставит его,единственно лишь силою своего взгляда, спуститься на землю и, как говорят,добился своего. Впрочем, рассказы, заимствованные мной у других, я оставляюна совести тех, от кого я их слышал.
Выводы из всего этого принадлежат мне, и я пришел к ним путемрассуждения, а не опираясь на мой личный опыт. Каждый может добавить кприведенному мной свои собственные примеры, а у кого их нет, то пустьповерит мне, что они легко найдутся, принимая во внимание большое число иразнообразие засвидетельствованных случаев подобного рода. Если приведенныемною примеры не вполне убедительны, пусть другой подыщет более подходящие.
При изучении наших нравов и побуждений, чем я, собственно, и занимаясь,вымышленные свидетельства так же пригодны, как подлинные, при условии, чтоони не противоречат возможному. Произошло ли это в действительности или нет,случилось ли это в Париже иль в Риме, с Жаном иль Пьером, — вполнебезразлично, лишь бы дело шло о той или иной способности человека, которую яс пользою для себя подметил в рассказе. Я ее вижу и извлекаю из нее выгоду,независимо от того, принадлежит ли она теням или живым людям. И из различныхуроков, заключенных нередко в подобных историях, я использую для своих целейлишь наиболее необычные и поучительные. Есть писатели, ставящие себе задачейизображать действительные события. Моя же задача — лишь бы я был в состояниисправиться с нею — в том, чтобы изображать вещи, которые могли бы произойти.Школьной премудрости разрешается — да иначе и быть не могло бы — усматриватьсходство между вещами даже тогда, когда на деле его вовсе и нет. Я же ничеготакого не делаю и в этом отношении превосхожу своею дотошностью самогострогого историка. В примерах, мною здесь приводимых и почерпнутых из всеготого, что мне довелось слышать, самому совершить или сказать, я не позволилсебе изменить ни малейшей подробности, как бы малозначительна она ни была. Втом, что я знаю, — скажу по совести, — я не отступаю от действительности нина йоту; ну, а если чего не знаю, прошу за это меня не винить. Кстати, поэтому поводу: порой я задумываюсь над тем, как это может теолог, философ иливообще человек с чуткой совестью и тонким умом браться за составлениехроник? Как могут они согласовать свое мерило правдоподобия с мерилом толпы?Как могут они отвечать за мысли неизвестных им лиц и выдавать за достоверныефакты свои домыслы и предположения? Ведь они, пожалуй, отказались бы датьпод присягою показания относительно сколько-нибудь сложных происшествий,случившихся у них на глазах; у них нет, пожалуй, ни одного знакомого имчеловека, за намерения которого они согласились бы полностью отвечать. Ясчитают, что описывать прошлое — меньший риск, чем описывать настоящее, ибов этом случае писатель отвечает только за точную передачу заимствованного иму других. Некоторые уговаривают меня [17] описать события моего времени; ониосновываются на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы тони было, а также что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, ибосудьба доставила мне возможность общаться с вождями различных партий. Но ониупускают из виду, что я не взял бы на себя этой задачи за всю славуСаллюстия [18], что я заклятый враг всяческих обязательств, усидчивости,настойчивости; что нет ничего столь противоречащего моему стилю, какраспространенное повествование; что я постоянно сам себя прерываю, потомучто у меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно и ясночто-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых детей своимневежеством по части самых обыкновенных, употребляемых в повседневном бытуфраз и оборотов. И все же я решился высказать здесь, приспособляя содержаниек своим силам, то, что я умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь вповодыри, мои шаги едва ли совпадали б с его шагами. И если бы я был воленрасполагать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и на мойсобственный взгляд и в соответствии с требованиями разума были быпротивозаконными и подлежали бы наказанию [19]. Плутарх мог бы сказать онаписанном им, что забота о достоверности, всегда и во всем, тех примеров, ккоторым он обращается, — не его дело; а вот, чтобы они были назидательны дляпотомства и являлись как бы факелом, озаряющим путь к добродетели, — этодействительно было его заботой. Предания древности — не то, что какое-нибудьврачебное снадобье; здесь не представляет опасности, составлены ли они такили этак.
Глава XXII
Выгода одного — ущерб для другого
Демад, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всемнеобходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишкомбольшой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе, как ценою смертиочень многих людей [1]. Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо,вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом длядругих; и потому, если рассуждать как Демад, следовало бы осудить любойзаработок.
Купец наживается на мотовстве молодежи; земледелец — благодаря высокойцене на хлеб; строитель — вследствие того, что здания приходят в упадок иразрушаются; судейские — на ссорах и тяжбах между людьми; священники (дажеони!) обязаны как почетом, которым их окружают, так и самой своейдеятельностью нашей смерти и нашим порокам. Ни один врач, говорится в однойгреческой комедии, не радуется здоровью даже самых близких своих друзей, ниодин солдат — тому, что его родной город в мире со своими соседями, и такдалее. Да что там! Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и онобнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются,по большей части, за счет кого-нибудь другого.
Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесьверна установленному ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели,зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение игибель другой.
- Nam quodcunque suis mutatum finibus exit,
- Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante. [2]
Глава XXIII
О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы
Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый придумалсказку о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка иносить его на руках с часа его рождения и продолжая делать то же и дальше,таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал нарядным бычком [1]. Идействительно, нет наставницы более немилосердной и коварной, чем нашапривычка. Мало-помалу, украдкой забирает она власть над нами, но, начинаяскромно и добродушно, она с течением времени укореняется и укрепляется внас, пока, наконец, не сбрасывает покрова со своего властного идеспотического лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее взгляда. Мывидим, что он постоянно нарушает установленные самой природой правила: Ususefficacissimus rerum omnium magister. [2]
В связи с этим я вспоминаю пещеру Платона в его «Государстве» [3], атакже врачей, которые в угоду привычке столь часто пренебрегаютпредписаниями своего искусства, и того царя, который приучил свой желудокпитаться ядом [4], и девушку, о которой рассказывает Альберт [5], что онапривыкла употреблять в пищу исключительно пауков.
И в Новой Индии [6], которая есть целый мир, были обнаружены весьмамноголюдные народы, обитающие в различных климатах, которые такжеупотребляют в пищу главным образом пауков; они заготовляют их впрок иоткармливают, как, впрочем, и саранчу, муравьев, ящериц и летучих мышей, иоднажды во время недостатка в съестных припасах там продали жабу за шестьэкю; они жарят их и приготовляют с приправами разного рода. Были обнаруженыи такие народы, для которых наша мясная пища оказалась ядовитою исмертельною. Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nive: inmontibus uri se patiuntur. Pugiles caestibus contusi ne ingemiscunt quidem. [7]
Эти позаимствованные в чужих странах примеры не покажутся странными,если мы обратимся к личному опыту и припомним, насколько привычкаспособствует притуплению наших чувств. Для этого вовсе не требуетсяприбегать к рассказам о людях, живущих близ порогов Нила, или о том, чтофилософы считают музыкою небес, а именно, будто бы небесные сферы, твердые игладкие, вращаясь, трутся одна о другую, что неизбежно порождает чудные,исполненные дивной гармонии звуки, следуя ритму и движениям которыхперемещаются и изменяют свое положение на небосводе хороводы светил, хотяуши земных существ — так же, как, например, уши египтян, обитающих пососедству с порогами Нила, — по причине непрерывного этого звучания не всостоянии уловить его, сколько бы мощным оно ни было. Кузнецы, мельники иоружейники не могли бы выносить того шума, в котором работают, если бы онпоражал их слух так же, как наш. Мой колет из продушенной кожи вначалеприятно щекочет мой нос, но если я проношу его, не снимая, три дня подряд,он будет приятен лишь обонянию окружающих. Еще поразительнее, что в насможет образоваться и закрепиться привычка, подчиняющая себе наши органычувств даже тогда, когда то, что породило ее, воздействует на них ненепрерывно, но с большими промежутками; это хорошо знают те, кто живетпоблизости от колокольни. У себя дома я живу в башне, на которой находитсябольшой колокол, вызванивающий на утренней и вечерней заре Ave Maria [8].Сама башня — и та бывает испугана этим трезвоном; в первые дин он и мнеказался совершенно невыносимым, но спустя короткое время я настолько привыкк нему, что теперь он вовсе не раздражает, а часто даже и не будит меня.
Платон разбранил одного мальчугана за то, что тот увлекался игрою вбабки. Тот ответил ему: «Ты бранишь меня за безделицу». — «Привычка, —сказал на это Платон, — совсем не безделица» [9].
Я нахожу, что все наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежноговозраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц инянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночексворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отецбывает до такой степени безрассуден, что, видя как его сын ни за что ни прочто колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом добрыйпризнак воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сынокодурачивает, прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этомпроявление присущей его отпрыску бойкости ума. В действительности, однако,это не что иное, как семена и корни жесткости, необузданности,предательства; именно тут они пускают свой первый росток, которыйвпоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. Иобыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием,свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно.Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист,пока не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менеегладким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оногадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующийвывод: «Почему такому-то не обмануть на целый экю, коль скоро он обманываетна одно су?» — вместо обычных рассуждений на этот счет: «Ведь он обманултолько на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целый экю». Нужнонастойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы онивоочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только вделах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы самая мысль о пороках, какуюбы личину они ни носили, была им ненавистна. Я убежден, что если и посейчасеще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманамвсякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствиеместественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причинаэтого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой иоткрытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить,что игры детей — вовсе не игры и что правильнее смотреть на них, как насамое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то нибыло плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываюсь с такою жещепетильностью, как если бы играл на двойные дублоны [10], и тогда, когдапроигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю сженою и дочерью, и тогда, когда я смотрю на дело иначе. Во всем и везде мнедостаточно своих собственных глаз, дабы исполнить, как подобает, мой долг, инет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристальнои к которой я питал бы большее уважение.
Недавно я видел у себя дома одного карлика родом из Нанта, безрукого отрождения; он настолько хорошо приучил свои ноги служить ему вместо рук, чтоони, можно сказать, наполовину забыли возложенные на них природойобязанности. Впрочем, он их и не называет иначе, как своими руками; ими онрежет, заряжает пистолет и спускает курок, вдевает нитку в иглу, шьет,пишет, снимает шляпу, причесывается, играет в карты и в кости, бросая их неменее ловко, чем всякий другой; деньги, которые я ему дал (ибо онзарабатывает на жизнь, показывая себя), он принял ногой, как мы бы сделалиэто рукой. Знал я и другого калеку, еще совсем мальчика, который, будучитакже безруким, удерживал подбородком, прижимая его к груди, алебарду идвуручный меч, подбрасывал и снова ловил их, метал кинжал и щелкал бичом стаким же искусством, как заправский возчик-француз.
Но еще легче обнаружить тиранию привычки в тех причудливыхпредставлениях, которые она создает в наших душах, поскольку они меньшесопротивляются ей. Чего только не в силах сделать она с нашими суждениями иверованиями! Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам никазалось (я не говорю уже о грубом обмане, лежащем в основе многих религий иодурачившем столько великих народов и умных людей, ибо это за пределамичеловеческого разумения, и на кого не снизошла благодать божья, тому недолгои заблудиться), так вот, существуют ли такие, непостижимые для нас, взглядыи мнения, которых она не насадила бы и не закрепила в качестве непреложныхзаконов в избранных ею по своему произволу странах? И до чего справедливоэто древнее восклицание: Non pudet physicum, id est speculatoremvenatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis quaerere testimoniumveritatis? [11]
Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображениивыдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась быгде-нибудь как общераспространенный обычай и, следовательно, не получила быодобрения и обоснования со стороны нашего разума. Существуют народы, укоторых принято показывать спину тому, с кем здороваешься, и никогда несмотреть на того, кому хочешь засвидетельствовать почтение [12]. Есть итакой народ, у которого, когда царь пожелает плюнуть, одна из придворныхдам, и притом та, что пользуется наибольшим благоволением, подставляет дляэтого свою руку; в другой же стране наиболее влиятельные из царскогоокружения склоняются при сходных обстоятельствах до земли и подбираютплатком царский плевок.
Уделим здесь место следующей побасенке. Один французский дворяниннеизменно сморкался в руку, что является непростительным нарушением нашихобычаев. Защищая как-то эту свою привычку (а он был весьма находчивыйспорщик), он обратился ко мне с вопросом — какие же преимущества имеет этогрязное выделение сравнительно с прочими, что мы собираем его в отличноетонкое полотно, завертываем и, что еще хуже, бережно храним при себе? Ведьэто же настолько противно, что не лучше ли оставлять его, где попало, как мыи делаем с прочими нашими испражнениями? Я счел его слова не лишеннымиизвестного смысла и, привыкнув к тому, что он очищает нос описаннымспособом, перестал обращать на это внимание, хотя, слушая подобные рассказыо чужестранцах, мы находим их омерзительными.
Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаемприроду, а вовсе не потому, что это ей свойственно. Привычка притупляетостроту наших суждений. Дикари для нас нисколько не большее чудо, нежели мысами для них, да к атому и нет никаких оснований; это признал бы каждый,если б только сумел, познакомившись с чуждыми для нас учреждениями,остановиться затем на привычных и здраво сравнить их между собой. Ведь всенаши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик, — а он бесконеченв своих проявлениях, бесконечен в разнообразии — примерно в одинаковой меренаходят обоснование со стороны нашего разума. Но вернусь к моемурассуждению. Существуют народы, у которых никому, кроме жены и детей, недозволяется обращаться к царю иначе, как через посредствующих лиц. У одногои того же народа девственницы выставляют напоказ наиболее сокровенные частисвоего тела, тогда как замужние женщины, тщательно прикрывают и прячут их. Сэтим обычаем связан, до некоторой степени, еще один из числараспространенных у них: так как целомудрие ценится только в замужестве,девушкам разрешается отдаваться, кому они пожелают, и, буде они понесут,делать выкидыши с помощью соответствующих снадобий, ни от кого не таясь.Кроме того, если сочетается браком купец, все прочие приглашенные на свадьбукупцы ложатся с новобрачною прежде него, и чем больше их будет, тем большедля нее чести и уважения, ибо это считается свидетельством ее здоровья исилы; если женится должностное лицо, то и тут наблюдается то же самое; также бывает и на свадьбе знатного человека, и у всех прочих, за исключениемземледельцев и других простолюдинов, ибо здесь право первенства — засеньором; но в замужестве полагается соблюдать безупречную верность.Существуют народы, у которых можно увидеть публичные дома, где содержатсямальчики и где даже заключаются браки между мужчинами; существуют такжеплемена, у которых женщины отправляются на войну вместе с мужьями и нетолько допускаются к участию в битвах, но подчас и начальствуют надвойсками. Бывают народы, где кольца носят не только в носу, на губах, нащеках и больших пальцах ноги, но продевают также довольно тяжелые прутья иззолота через соски и ягодицы. Где за едой вытирают руки о ляжки, мошонку иступни ног. Где дети не наследуют своим родителям, но наследниками являютсябратья и племянники, а бывает и так, что только племянники (впрочем, это неотносится к престолонаследию). Где все находится в общем владении и дляруководства всеми делами назначают облеченных верховною властью должностныхлиц, которые и несут заботу о возделывании земли и распределении взращенныхею плодов в соответствии с нуждами каждого. Где оплакивают смерть детей ипразднуют смерть стариков. Где на общее ложе укладывается десять илидвенадцать супружеских пар. Где женщины, чьи мужья погибли насильственнойсмертью, могут выйти замуж вторично, тогда как всем прочим это запрещено.Где женщины ценятся до того низко, что всех новорожденных девочекбезжалостно убивают; женщин же для своих нужд покупают у соседних народов.Где муж может оставить жену без объяснения причин, тогда как жена не можетэтого сделать, на какие бы причины она ни ссылалась. Где муж вправе продатьжену, если она бесплодна. Где вываривают трупы покойников, а затем растираютих, пока не получится нечто вроде кашицы, которую смешивают с вином, и потомпьют этот напиток. Где самый желанный вид погребения — это быть отданным насъедение собакам, а в других местах — птицам. Где верят, что души, вкушающиеблаженство, наслаждаются полной свободой, обитая в прелестных полях ииспытывая самые разнообразные удовольствия, и что это они порождают эхо,которое нам доводится иногда слышать. Где сражаются только в воде и, плавая,метко стреляют из лука. Где в знак покорности нужно поднять плечи и опуститьголову, а входя в жилище царя, разуться. Где у евнухов, охраняющих женщин,посвятивших себя религии, отрезают вдобавок еще носы и губы, чтобы их нельзябыло любить, а священнослужители выкалывают себе глаза, дабы приблизиться кдемонам и принимать их прорицания. Где каждый создает себе бога из всего,чего бы ни захотел: охотник — из льва или лисицы; рыбак — из той или инойрыбы, в они творят идолов из любого действия человеческого и из любойстрасти; их главные боги: солнце, луна и земля; клянутся же они,прикоснувшись рукой к земле и обратив глаза к солнцу, а мясо и рыбу едятсырыми. Где самая страшная клятва — это поклясться именем какого-нибудьпокойника, который пользовался доброю славой в стране, прикоснувшись рукой кего могиле. Где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылаеткнязьям, своим вассалам, огонь из своего очага; и когда прибывает царскийгонец, доставляющий этот огонь, все огни, до этого горевшие в княжескомдворце, должны быть погашены; а подданные князей должны в свою очередьзаимствовать у них этот огонь под страхом кары за оскорбление величества.Где царь, желая отдаться целиком благочестию (а это случается у нихдостаточно часто), отрекается от престола, и тогда ближайший наследник егообязан поступить так же, а власть переходит к следующему. Где изменяют образправления в государстве в соответствии с требованиями обстоятельств: царя,когда им кажется это нужным, они смещают, а на его место ставят старейшин,чтобы они управляли страной; иногда же всеми делами вершит община. Где имужчины и женщины подвергаются обрезанию, а вместе с тем и крещению. Гдесолдат, которому удалось принести своему государю после одной или несколькихбитв семь или больше голов неприятеля, причисляется к знати. Где люди живутв варварском и столь непривычном для нас убеждении, что души — смертны. Гдеженщины рожают без стонов и страха. Где на обоих коленях они носят медныенаколенники: они же, когда их искусает вошь, обязаны, следуя долгувеликодушия, в свою очередь укусить ее; они же не смеют выходить замуж, непредложив прежде царю, если он того пожелает, своей девственности. Гдездороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Где мужчиныносят тяжести на голове, а женщины — на плечах; там же женщины мочатся стоя,тогда как мужчины — присев. Где в знак дружбы посылают немного своей крови ижгут благовония, словно в честь богов, перед людьми, которым желают воздатьпочет. Где в браках не допускают родства, и не только до четвертой степени,но и до любой, сколь бы далекой она ни была. Где детей кормят грудью целыхчетыре года, а часто и до двенадцати лет; но там же считают смертельноопасным для любого ребенка дать ему грудь в первый день после рождения. Гдеотцам надлежит наказывать мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям;наказание же у них состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают,подвесив за ноги над очагом. Где женщин подвергают обрезанию. Где едят безразбору все произрастающие у них травы, кроме тех, которые кажутся им дурнопахнущими. Где все постоянно открыто, и дома, какими бы красивыми и богатымиони ни были, не имеют никаких засовов, и в них не найти сундука, которыйзапирался бы на замок; для вора же у них наказания вдвое строже, чем где быто ни было. Где вшей щелкают зубами, как это делают обезьяны, и находятотвратительным, если кто-нибудь раздавит их ногтем. Где ни разу в жизни нестригут ни волос, ни ногтей; в других местах стригут ногти только на правойруке, на левой же их отращивают красоты ради. Где отпускают волосы, как быони ни выросли, с правой стороны и бреют их с левой. А в землях, находящихсяпо соседству, в одной — отращивают волосы спереди, в другой, наоборот, —сзади, а спереди бреют. Где отцы предоставляют своих детей, а мужья жен наутеху гостям, получая за это плату. Где не считают постыдным иметь детей отсобственной матери; у них же в порядке вещей, если отец сожительствует сдочерью или сыном. Где на торжественных праздниках обмениваются на утехудруг другу своими детьми.
Здесь питаются человеческим мясом, там почтительный сын обязан убитьотца, достигшего известного возраста; еще где-нибудь отцы решают участьребенка, пока он еще во чреве матери, — сохранить ли ему жизнь и воспитатьего или, напротив, покинуть без присмотра и убить; еще в каком-нибудь местемужья престарелого возраста предлагают юношам своих жен, чтобы те услужилиим; бывает и так, что жены считаются общими, и в этом никто не усматриваетгреха; есть даже такая страна, где женщины носят на подоле одежды в качествепочетного знака отличия столько нарядных кисточек с бахромой, сколькихмужчин они познали за свою жизнь. Не обычай ли породил особое женскоегосударство? Не он ли вложил в руки женщины оружие? Не он ли образовал изних батальоны и повел их в бой? И чего не в силах втемяшить в мудрейшиеголовы философия, не внушает ли обычай своей властью самому темномупростолюдину? Ведь мы знаем о существовании целых народов, которые не толькос презрением относятся к смерти, но встречают ее даже с радостью, народов, укоторых семилетние дети дают засечь себя насмерть, не меняясь даже в лице;где богатством гнушаются до того, что самый обездоленный горожанин счел быниже своего достоинства протянуть руку, чтобы поднять кошелек, полныйзолота. Нам известны также чрезвычайно плодородные и обильные всякимисъестными припасами области, где, тем не менее, обычной и самой лакомойпищей считают хлеб, дикий салат и воду.
Не обычай ли сотворил чудо на острове Хиосе, где за целых семьсот летне запомнили случая нарушения какой-нибудь женщиной или девушкой своейчести?
Короче говоря, насколько я могу представить себе, нет ничего, чего быон не творил, ничего, чего бы не мог сотворить; и если Пиндар, как мнесообщили, назвал его «царем и повелителем мира» [13], то он имел для этоговсе основания.
Некто, застигнутый на том, что избивал собственного отца, ответил, чтотаков обычай, принятый в их роду; что отец его также, бывало поколачивалдеда, а дед, в свою очередь, прадеда; и указывая на своего сына, добавил: «Аэтот, достигнув возраста, в котором ныне я нахожусь, будет делать то жесамое со мною».
И когда сын, схватив отца, тащил его за собой по улице, тот велел емуостановиться у некоей двери, ибо он сам, по его словам, никогда не волочилсвоего отца дальше; здесь проходила черта, за которую дети, руководствуясьунаследованным семейным обычаем, никогда не тащили своих отцов, подвергая ихпоношению. По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель,женщины вырывают у себя волосы, грызут ногти, поедают уголь и землю [14]; искорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем следуя естественнойсклонности, мужчины сожительствуют с мужчинами.
Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порожденысамой природой, порождаются, в действительности, тем же обычаем; всякий,почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, неможет отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, невоздавать себе похвалы.
Жители Крита в прежние времена, желая подвергнуть кого-либо проклятию,молили богов, чтобы те наслали на него какую-нибудь дурную привычку.
Но могущество привычки особенно явственно наблюдается в следующем: онасвязывает нас в такой мере и настолько подчиняет себе, что лишь с огромнымтрудом удается нам избавиться от ее власти и вернуть себе независимость,необходимую для того, чтобы рассмотреть и обсудить ее предписания. В самомделе, поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как мирпредстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он имиизображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идтитем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которыеразделяют все вокруг, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутсянам всеобщими и естественными.
Отсюда и проистекает, что все отклонения от обычая считаютсяотклонениями от разума, — и одному богу известно, насколько, по большейчасти, неразумно. Если бы и другие изучали себя, как мы, и делали то же, чтомы, всякий, услышав какое-нибудь мудрое изречение, постарался бы немедленноразобраться, в какой мере оно применимо к нему самому, — и тогда он понялбы, что это не только меткое слово, но и меткий удар бича по глупости егообычных суждений. Но эти советы и предписания истины всякий желаетвоспринимать как обращенные к людям вообще, а не лично к нему; и вместотого, чтобы применить их к собственным нравам, их складывают у себя впамяти, а это — занятие весьма нелепое и бесполезное. Вернемся, однако, ктирании обычая.
Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считаютвсякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те,которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобныйслучай к изменению государственного порядка ни предоставила им судьба, онидаже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудьнезависимого государя, торопятся посадить на его место другого, ибо не могутрешиться возненавидеть порабощение [15].
Дарий как-то спросил нескольких греков, за какую награду онисогласились бы усвоить обычай индусов поедать своих покойных отцов (ибо этобыло принято между теми, поскольку они считали, что нет лучшего погребения,как внутри своих близких): греки на это ответили, что ни за какие блага насвете. Но когда Дарий попытался убедить индусов отказаться от их способапогребения и перенять греческий способ, состоявший в сжигании на костреумерших отцов, он привел их в еще больший ужас, чем греков. И всякий из насделает то же, ибо привычка заслоняет собою подлинный облик вещей;
- Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam
- Principio, quod non minuant mirarier omnes
- Paulatim. [16]
Некогда, желая укрепить одно наше довольно распространенное мнение,считаемое многими непререкаемым, и не довольствуясь, как это делаетсяобычно, простой ссылкой на законы и на соответствующие примеры, но стремясь,как всегда, добраться до самого корня, я нашел его основание до такойстепени шатким, что едва сам не отрекся от него, — и это я, который ставилсвоей задачей убедить в его правильности других.
Вот тот способ, который Платон, добиваясь искорененияпротивоестественных видов любви, пользовавшихся в его времяраспространением, считает всемогущим и основным: добиться, чтобыобщественное мнение решительно осудило их, чтобы поэты клеймили их, чтобыкаждый их высмеивал. Именно этому способу мы обязаны тем, что самые красивыедочери не возбуждают больше страсти в отцах, а братья, какой бы онивыдающейся красотою ни отличались, — в сестрах; и даже сказания о Фиесте,Эдипе и Макарее, наряду с удовольствием, доставляемым декламацией этихпрекрасных стихов, закрепляют, по мнению Платона [17], в податливом детскоммозгу это полезное предостережение.
Надо правду сказать, целомудрие — прекрасная добродетель, и как великаего польза — известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждатьблюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться егособлюдения, опираясь на обычай, законы и предписания. Обосновать изначальныеи всеобщие истины не так-то просто. И наши наставники, скользя по верхам,торопятся поскорее подальше или, даже не осмеливаясь коснуться этихвопросов, сразу же ищут прибежища под сенью обычая, где пыжатся отпреисполняющего их чванства и торжествуют. Те же, кто не желает черпатьниоткуда, кроме первоисточника, т. е. природы, впадают в еще большиезаблуждения и высказывают дикие взгляды, как, например, Хрисипп [18], вомногих местах своих сочинений показавший, с какой снисходительностью онотносился к кровосмесительным связям, какими бы они ни были. Кто пожелаетотделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей,которые как будто и не вызывают сомнений, но, вместе с тем, и не имеют инойопоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвавже с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиною и разумом, такойчеловек почувствует, что, хотя прежние суждения его и полетели кувырком, всеже почва под ногами у него стала тверже. И тогда, например, я спрошу у него:возможно ли что-нибудь удивительнее того, что мы постоянно видим передсобой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые быливсегда для него загадкою, что во всех своих семейных делах, браках,дарственных, завещаниях, в купле, в продаже он связан правилами, которых нев состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке,вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупатьза деньги? [19] Все это ни в малой степени не похоже на остроумноепредложение Исократа, советующего своему государю обеспечить возможностьподданным свободно, прибыльно и беспрепятственно торговать, но, вместе стем, сделать для них разорительными, обложив высокой пошлиной, ссоры ираспри [20], и вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласнокоторым даже человеческий разум — и тот является предметом торговли, азаконы — рыночным товаром. И я бесконечно благодарен судьбе, что первым, каксообщают наши историки, кто воспротивился намерению Карла Великого ввести унас римское и имперское право, был некий дворянин из Гаскони, мой земляк [21]. Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у которого наосновании освященного законом обычая судебные должности продаются [22], априговоры оплачиваются звонкой монетой; где, опять-таки, совершенно законноотказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него; где эта торговляприобретает такие размеры, что создает в государстве в добавление к тремпрежним сословиям — церкви, дворянству в простому народу — еще и четвертое,состоящее из тех, в чьем ведении находится суд; это последнее, имеяпопечение о законах и самовластно распоряжаясь жизнью и имуществом граждан,является, наряду с дворянством, некоей обособленной корпорацией. Отсюда ивозникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законычести и те, на которых покоится правосудие. Первые, например, суровоосуждают того, кто, будучи обвинен во лжи, стерпит подобное обвинение, тогдакак вторые — отмщающего за него. По законам рыцарского оружия такой-то, еслиснесет оскорбление, лишается чести и дворянского достоинства, тогда как погражданским законам тот, кто мстит, подлежит уголовному наказанию. Значит,тот, кто обратится к закону, дабы защитить свою оскорбленную честь,обесчещивает себя, а кто не обратится к нему, того закон преследует икарает. И разве действительно не является величайшею дикостью, что из этикдвух столь различных сословий, подчиненных, однако, одному и тому жевластителю, одно заботится о войне, другое печется о мире; удел одного —выгода, удел другого — честь; удел одного — ученость, удел другого —доблесть; у одного — слово, у другого — дело; у одного — справедливость, удругого — отвага; у одного — разум, у другого — сила; у одного — долгополаямантия, у другого — короткий камзол.
Что до вещей менее важных, как, например, нашего платья, то тому, ктовздумал бы согласовать его с подлинным его назначением, а именно, служитьнашему телу и доставлять ему возможно больше удобств, — что и определилоизящество и благопристойность одежды при ее появлении, — я укажу лишь насамое что ни на есть чудовищное из того, что, по-моему, можно представитьсебе, и, среди прочего, на наши квадратные головные уборы, на этот длинный,свисающий с головы наших женщин хвост из собранного складками бархата,расшитого, к тому же, пестрыми украшениями, и наконец, на нелепое ибесполезное подобие того органа, назвать который мы не можем, не нарушаяприличия, и воспроизведение которого, да еще во всем блеске наряда,показываем, тем не менее, всему честному народу. Эти соображения неотвращают, однако, разумного человека от следования общепринятой моде; болеетого, хотя мне и кажется, что все выдумки и причуды в покров нашего платьяпорождены скорее сумасбродством и спесью, чем действительнойцелесообразностью, и что мудрец должен внутренне оберегать свою душу отвсякого гнета, дабы сохранить ей свободу и возможность свободно судить обовсем, — тем не менее, когда дело идет о внешнем, он вынужден строгопридерживаться принятых правил и форм. Обществу нет ни малейшего дела донаших воззрений; но все остальное, как то: нашу деятельность, наши труды,наше состояние и самую жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а такжена суд, как и поступил мужественный и великий Сократ, отказавшийся спастисвою жизнь лишь на том основании, что это явилось бы неповиновением власти,пусть даже весьма неправедной и пристрастной. Ибо правило правил иглавнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноватьсязаконам страны, в которой живет:
- . [23]
А вот кое-что в ином роде. Весьма сомнительно, может ли изменениедействующего закона, каков бы он ни был, принести столь очевидную пользу,чтобы перевесить то зло, которое возникает, если его потревожить; ведьгосударство можно в некоторых отношениях уподобить строению, сложенному изотдельных, связанных между собой частей, вследствие чего нельзя хоть немногопоколебать даже одну среди них без того, чтобы это не отразилось на целом.Законодатель фурийцев велел, чтобы всякий, стремящийся уничтожитькакой-нибудь из старых законов или ввести в действие новый, выходил преднародом с веревкой на шее с тем, чтобы, если предлагаемое им новшество ненайдет единогласного одобрения, быть удавленным тут же на месте [24]. Азаконодатель лакедемонян [25] посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добитьсяот сограждан твердого обещания не отменять ни одного из его предписаний.Эфор, так безжалостно оборвавший две новые струны, добавленные Фриннсом кего музыкальному инструменту [26], не задавался вопросом, улучшил ли Фриниссвой инструмент и обогатил ли его аккорды; для осуждения этого новшества емубыло достаточно и того, что старый, привычный образец претерпел изменение;то же обозначал и древний заржавленный меч правосудия, который бережнохранился в Марселе [27].
Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы обличий они нам ниявлялись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельныепоследствия они вызывают. То из них, которое угнетает нас в течение ужестольких лет, не было, правда, непосредственною причиною всегопроисходящего; но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что именно внем, в силу несчастного стечения обстоятельств, причина и корень всего, дажетех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без его участия и вопрекиему [28]. Пусть оно пеняет поэтому на себя самого.
- Heu! patior telis vulnera facta meis. [29]
Те, кто расшатывают государственный строй, чаще всего первыми и гибнутпри его крушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; онтолько всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие. Так какцелость и единство нашей монархии были нарушены упомянутым новшеством, и еевеличественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как этопроизошло, к тому же, в ее преклонные годы, в ней образовалось сколькоугодно трещин и брешей, представляющих собою как бы ворота для названныхбедствий. Величие государя, говорит некий древний писатель, труднее низвестиот его вершины до половины, чем низвергнуть от половины до основания.
Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, топоследние все же преступнее первых, следуя образцам, зло и ужас которых самиощутили и покарали. И если даже злодеяния приносят известную долю славы, тоу первых перед вторыми то преимущество, что самый замысел и дерзость починапринадлежат именно им.
Все виды новейших бесчинств с легкостью черпают образцы и наставления,как потрясать государственный строй, из этого главнейшего и неиссякаемогоисточника [30]. Даже в наших законах, созданных с целью пресечения этогоизначального зла, и то можно найти наставления, как творить злодеяниявсякого рода, и попытки оправдания их. С нами происходит теперь то самое, очем говорит Фукидид [31], повествуя о гражданских войнах своего времени;тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давалиим не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, обозначалисловами новыми и менее резкими. И таким-то способом хотят подействовать навашу совесть и исправить наши взгляды! Honesta ratio est. [32] Однако как бы благовиден ни был предлог, все жевсякое новшество чревато опасностями: adeo nihil motum ex antiquo probabileest. [33] По правде говоря,мне представляется чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставитьсвои взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества неостанавливаться пред нарушением общественного спокойствия, пред столькиминеизбежными бедствиями и ужасающим падением нравов, которые приносят с собойгражданские войны, пред изменениями в государственном строе, что влечет засобой столь значительные последствия, — да еще делать все это в своейсобственной стране. И не просчитывается ли тот, кто дает волю этим явным ивсем известным порокам, дабы искоренить недостатки, в сущности спорные исомнительные? И есть ли пороки худшие, нежели те, которые нестерпимы длясобственной совести и для здравого смысла? [34]
Римский сенат в разгар распри с народом по поводу распределенияжреческих должностей решился прибегнуть к уловке такого рода: Ad deos idmagis quam ad se, pertinere: ipsos visuros ne sacra sua polluantur, [35] — подражая в этом ответуоракула жителям Дельф во время греко-персидских войн. Опасаясь вторженияперсов, дельфийцы обратились тогда к Аполлону с вопросом, что им делать сосвятынями его храма — укрыть ли их где-нибудь или же вывезти. Он ответил наэто, чтобы они ничего не трогали: пусть они заботятся о себе, а он уже самсумеет охранить свою собственность.
Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого иполезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, каквыраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться властям иподдерживать существующий государственный строй. Какой поразительный примероставила нам премудрость господня, которая, стремясь спасти род человеческийи осуществить свою славную победу над смертью и над грехом, пожелаласвершить это не иначе, как опираясь на наше общественное устройство ипоставив достижение и осуществление этой великой и благостной цели взависимость от слепоты и неправедности наших обычаев и воззрений, допустив,таким образом, чтобы лилась невинная кровь столь многих возлюбленных чад ееи мирясь с потерею длинной чреды годов, пока не созреет этот бесценный плод.
Между подчиняющимся обычаям и законам своей страны и тем, кто норовитподняться над ними и сменить их на новые, — целая пропасть. Первый ссылаетсяв свое оправдание на простосердечие, покорность, а также на пример других;что бы ни довелось ему сделать, это не будет намеренным злом, в худшемслучае — лишь несчастьем. Quis est enim quem non moveat clarissimismonumentis testata consignataque antiquitas? [36]
Сверх того, какговорит Исократ, недобор ближе к умеренности, чемперебор [37]. Второй оправдывать гораздо труднее.
Ибо, кто берется выбирать и вносить изменения, тот присваивает себеправо судить и должен поэтому быть твердо уверен в ошибочности отменяемогоим и в полезности им вводимого. Это столь нехитрое соображение и заставиломеня засесть у себя в углу; даже во времена моей юности — а она была многодерзостнее — я поставил себе за правило не взваливать на свои плечинепосильной для меня ноши, не брать на себя ответственности за решения стольисключительной важности, не осмеливаться на то, на что я не мог быосмелиться, рассуждая здраво, даже в наиболее простом из того, чему меняобучали, хотя смелость суждений в последнем случае и не могла бы ничемуповредить. Мне кажется в высшей степени несправедливым стремление подчинитьотстоявшиеся общественные правила и учреждения непостоянству частногопроизвола (ибо частный разум обладает лишь частной юрисдикцией) и, темболее, предпринимать против законов божеских то, чего не потерпела бы ниодна власть на свете в отношении законов гражданских, которые, хотя и болеедоступны уму человеческому, все же являются верховными судьями своих судей;самое большее, на что мы способны, это объяснять и распространять применениеуже принятого, но отнюдь не отменять его и заменять новым. Если божественноепровидение и преступало порою правила, которыми оно по необходимостипоставило нам пределы, то вовсе не для того, чтобы освободить и нас отподчинения им. Это мановения его божественной длани, и не подражать им, нопроникаться изумлением перед ними, вот что должно нам делать: это случаиисключительные, отмеченные печатью ясно выраженного особого умысла, изразряда чудес, являемых нам как свидетельство его всемогущества ипревышающих наши силы и наши возможности; было бы безумием и кощунствомтщиться воспроизвести что-либо подобное, — и мы должны не следовать им, но стрепетом созерцать их. Это деяния, доступные божеству, но не нам.
Здесь весьма уместно привести слова Котты: Cum de religione agitur Т.Coruncanium, Р. Scipionen, Р. Scaevolam, pontifices maximos, non Zenonem autClearithem aut Chrysippum, sequor. [38]
В настоящее время мы охвачены распрей: речь идет о том, чтобы убрать изаменить новыми целую сотню догматов, и каких важных и значительныхдогматов; а много ли найдется таких, которые могли бы похвастаться, что имдосконально известны доводы и основания как той, так и другой стороны?
Число их окажется столь незначительным — если только это и впрямь можноназвать числом, — что они не могли бы вызвать между нами смятения. Но всеостальное скопище — куда несется оно? Под каким знаменем устремляются впереднападающие? Здесь происходит то же, что с иным слабым и неудачно примененнымлекарством; те вредные соки организма, которые ему надлежало бы изгнать, онона самом деле, столкнувшись с ними, только разгорячило, усилило ираздражило, а затем, сотворив все эти беды, осталось бродить в нашем теле.Оно не смогло освободить нас от болезни из-за своей слабости и, вместе стем, ослабило нас настолько, что мы не в состоянии очиститься от него;действие его сказывается лишь в том, что нас мучат нескончаемые боли вовнутренностях.
Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегдапревосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, чтозаконам приходится несколько и кое в чем уступить. И если, сопротивляясьвозрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держатьсебя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, топодобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободою действий, длякого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его намерениям, ктоне знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят емувыгоду, неправильно и опасно: Aditum nocendi perfido praestat fides. [39]Но ведь обычный правопорядок в государстве, пребывающем в полном здравии, непредусматривает подобных исключительных случаев: он имеет в видуупорядоченное сообщество, опирающееся на свои основные устои и выполняющеесвои обязанности, а также согласие всех соблюдать его и повиноваться ему.Действовать, придерживаясь закона, значит — действовать спокойно,размеренно, сдержанно, а это вовсе не то, что требуется в борьбе сдействиями бесчинными и необузданными.
Известно, что и посейчас еще упрекают двух великих государственныхдеятелей, Октавия и Катона, за то, что первый во время гражданской войны сСуллою, а второй — с Цезарем готовы были скорее подвергнуть свое отечествосамым крайним опасностям, чем оказать ему помощь, нарушив законы, и ни зачто не соглашались хоть в чем-нибудь поколебать эти последние. Но в случаяхкрайней необходимости, когда все заключается в том, чтобы как-нибудьустоять, иной раз и впрямь благоразумнее опустить голову и стерпеть удар,чем биться сверх сил, не желая ни в чем уступить и доставляя возможностьнасилию подмять все под себя и попрать его [40]. И пусть лучше законыдомогаются лишь того, что им под силу, когда им не под силу все то, чего онидомогаются. Так, например, поступил тот, кто приказал, чтобы они заснули надвадцать четыре часа, и таким образом урезал на этот раз календарь на одиндень [41], и тот, кто превратил июнь во второй май [42]. Даже лакедемоняне,которые с таким усердием соблюдали законы своей страны, как-то раз, будучисвязаны одним из своих законов, воспрещавшим вторичное избрание начальникомфлота того же лица, — а между тем обстоятельства настоятельно требовали отних, чтобы эту должность снова занял Лисандр [43], — нашли выход в том, чтопоставили начальником флота Арака, а Лисандра назначили «главнымраспорядителем» морских сил. Подобной же уловкой воспользовался один ихпосол, который был направлен ими к афинянам с тем, чтобы добиться отменыкакого-то изданного этими последними распоряжения. Когда Перикл [44] в ответсослался на то, что строжайшим образом запрещается убирать доску, на которойначертан какой-нибудь закон, посол предложил повернуть доску обратноюстороной, так как это, во всяком случае, не запрещается. Это то, наконец, зачто Плутарх воздает хвалу Филопемену: рожденный повелевать, он умелповелевать не только согласно с законами, но, в случае общественнойнеобходимости, и самими законами [45].
Глава XXIV
При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное
Жак Амио [1], главный придворный священник и раздаватель милостынифранцузского короля, рассказал мне как-то про одного нашего принца [2] (ктодругой, а этот был наш с головы до пят, даром что по происхождениючужеземец) нижеследующую, делающую ему честь историю. Вскоре после того, какначались наши смуты, во время осады Руана [3] королева-мать [4] известилаэтого принца, что на его жизнь готовится покушение, причем в письме королевыточно указывалось, кто должен его прикончить. Это был один не то анжуйский,не то менский дворянин, который постоянно посещал дом принца. Принц никомуне сказал об этом предупреждении. Но, прогуливаясь на следующий день на горесвятой Екатерины, откуда бомбардировали Руан (ибо в ту пору мы его осаждали)вместе с вышеназванным главным раздавателем милостыни и одним епископом, онзаметил этого дворянина, которого знал в лицо, и велел, чтобы его позвали кнему. Когда тот предстал перед ним, принц, видя, что он побледнел и дрожит,ибо совесть его была нечиста, сказал ему следующее: «Господин такой-то, выдогадываетесь, конечно, чего я хочу от вас; это написано на вашем лице. Вамследует признаться во всем, ибо я настолько осведомлен в вашем деле, что,пытаясь отпереться, вы только ухудшите свое положение. Вы отлично знаете отом-то и том-то (тут он выложил ему решительно все, вплоть до мельчайшихподробностей, касающихся заговора). Так не играйте же своей жизнью ирасскажите всю правду о своем умысле». Когда бедняга окончательно понял, чтоон пойман с поличным и что от этого никуда не уйти (ибо их заговор открылкоролеве один из его сообщников), ему ничего другого не оставалось, как,сложив умоляюще руки, просить принца о милости и пощаде; и он уже готовилсяпасть ему в ноги, но тот, удержав его, продолжал таким образом: «Послушайте:обидел ли я вас когда-нибудь? Преследовал ли я кого-нибудь из ваших друзейсвоей ненавистью? Всего три недели, как я знаком с вами; что же моглопобудить вас покуситься на мою жизнь?» Дворянин, запинаясь, ответил, чтоникаких особых причин у него не было, но что он руководствовался интересамисвоей партии; его убедили, будто уничтожение столь могущественного врага ихверы, каким бы способом оно ни было выполнено, будет делом, угодным богу. «Ая, — продолжал принц, — хочу показать вам, насколько вера, которую я считаюсвоей, незлобивее той, которой придерживаетесь вы. Ваша подала вам советубить меня, даже не выслушав, хотя я ничем не обидел вас; моя же требует,чтобы я даровал вам прощение, хотя вы полностью изобличены в том, чтоготовились злодейски прикончить меня, не имея к этому ни малейших оснований.Ступайте же прочь, убирайтесь и чтоб я вас здесь больше не видел. И если выобладаете хоть крупицей благоразумия, принимаясь за дело, выбирайте себе всоветники более честных людей».
Император Август, находясь в Галлии, получил достоверное сообщение осоставленном против него Луцием Цинной заговоре; решив покарать его, онвелел вызвать своих ближних друзей на совет, назначив его на следующий день.Ночь накануне совета он провел, однако, чрезвычайно тревожно, мучимыймыслью, что обрекает на смерть молодого человека хорошего рода, племянникапрославленного Помпея. Сетуя на трудность своего положения, он перебиралвсевозможные доводы. «Так что же, — говорил он, — неужели нужно сказатьсебе: пребывай в тревоге и страхе и отпусти своего убийцу разгуливать насвободе? Неужели допустить, чтобы он ушел невредимым, — он, покусившийся намою жизнь, которую я сберег в стольких гражданских войнах, в столькихсражениях на суше и море? Неужели простить того, кто умыслил не только убитьменя — и когда! после того, что я установил мир во всем мире! — но ивоспользоваться мною самим, как жертвой, приносимой богам?» Ибо заговорщикипредполагали убить его в то время, когда он будет совершатьжертвоприношение. Затем, помолчав некоторое время, он снова, и еще болеетвердым голосом, продолжал, обращаясь к самому себе: «К чему тебе жить, еслистоль многие хотят твоей смерти? Где же конец твоему мщению и жестокостям?Стоит ли твоя жизнь затрат, необходимых для ее сбережения?» Тогда жена егоЛивия, слыша все эти сетования, сказала ему: «А не может ли жена подать тебедобрый совет? Поступи так, как поступают врачи: когда обычные лекарства непомогают, они испытывают те, которые оказывают противоположное действие.Суровостью ты ничего не добился: за Сальвидиеном последовал Лепид, заЛепидом — Мурена, за Муреной — Цепион, за Цепионом — Эгнаций. Испытай, непомогут ли тебе мягкость и милосердие. Цинна изобличен, но прости его — ведьвредить тебе он больше не сможет, — а это послужит к возвеличению твоейславы». Август был очень доволен, что нашел поддержку своим добрымнамерениям. Поблагодарив жену и отменив прежнее приказание о созыве друзейна совет, он велел призвать к себе только Цинну. Удалив всех из покоев иусадив Цинну, он сказал ему следующее: «Прежде всего, Цинна, я хочу, чтобыты спокойно выслушал меня. Давай условимся, что ты не станешь прерывать моюречь; я предоставлю тебе возможность в свое время ответить. Ты очень хорошознаешь, Цинна, что я захватил тебя в стане моих врагов, причем ты не точтобы сделался мне врагом: ты, можно сказать, враг мой от рождения: однако япощадил тебя; я возвратил тебе все, что было отнято у тебя и чем ты владеешьтеперь; наконец, я обеспечил тебе изобилие и богатство в такой степени, чтопобедители завидуют побежденному. Ты попросил у меня должность жреца, и яудовлетворил твою просьбу, отказав в этом другим, чьи отцы сражались бок обок со мной. И вот, хотя ты кругом предо мною в долгу, ты замыслил убитьменя!». Когда Цинна в ответ на это воскликнул, что он и не помышлял о такомзлодеянии, Август заметил: «Ты забыл, Цинна, о нашем условии: ведь тыобещал, что не станешь прерывать мою речь. Да, ты замыслил убить менятам-то, в такой-то день, при участии таких-то лиц и таким-то способом».
Видя, что Цинна глубоко потрясен услышанным и молчит, но на этот раз непотому, что таков был уговор между ними, но потому, что его мучит совесть,Август добавил: «Что же толкает тебя на это? Или, быть может, ты сам метишьв императоры? Воистину, плачевны дела в государстве, если только я один стоюна твоем пути к императорской власти. Ведь ты не в состоянии даже защититьсвоих близких и совсем недавно проиграл тяжбу из-за вмешательства какого-товольноотпущенника. Или, быть может, у тебя не хватает ни возможностей, нисил ни на что иное, кроме посягательства на жизнь цезаря? Я готов уступить иотойти в сторону, если только кроме меня нет никого, кто препятствует твоимнадеждам. Неужели ты думаешь, что Фабий, сторонники Коссов или Сервилиев [5]потерпят тебя? Что примирится с тобою многолюдная толпа знатных, — знатныхне только по имени, но делающих своими добродетелями честь своей знатности?»И после многого в этом же роде (ибо он говорил более двух часов) Августсказал ему: «Ну так вот что: я дарую тебе жизнь, Цинна, тебе, изменнику иубийце, как некогда уже даровал ее, когда ты был просто моим врагом; ноотныне между нами должна быть дружба. Посмотрим, кто из нас двоих окажетсяпрямодушнее, я ли, подаривший тебе жизнь, или ты, получивший ее из моихрук?» На этом они расстались. Некоторое время спустя Август предоставилЦинне должность консула, упрекнув его, что тот сам не обратился к нему спросьбой об этом. С этой поры Цинна сделался одним из наиболее любимых егоприближенных, и Август назначил его единственным наследником своегодостояния. После этого случая, приключившегося, когда Августу шел сороковойгод, за всю его жизнь не было больше ни одного заговора против него, ниодного покушения на него, и он был, можно сказать, справедливо вознагражденза свою снисходительность. Но совсем иначе случилось с нашим принцем, ибомягкость нимало не помогла ему, и он попался впоследствии в расставленныеему сети предательства [6]. Вот до чего неверная и ненадежная вещь —человеческое благоразумие; ибо наперекор всем нашим планам, решениям ипредосторожностям судьба всегда удерживает в своих руках власть надсобытиями.
Когда врачам удается добиться благоприятного исхода лечения, мыговорим, что им посчастливилось — как будто их искусство единственное,которому требуется поддержка извне, так как, покоясь на слишком шаткомосновании, оно не может держаться собственной силою, как будто только ононуждается в том, чтобы к его действиям приложила руку удача. Я готов думатьо врачебном искусстве все, что угодно, и самое худшее и самое лучшее, ибо,благодарение богу, мы не водим с ним никакого знакомства. В этом случае ясоставляю противоположность всем прочим, так как всегда, при любыхобстоятельствах, пренебрегаю его услугами; а когда мне случается заболеть,то, вместо того, чтобы смириться пред ним, я начинаю еще вдобавок ненавидетьи страшиться его. Тем, кто заставляет меня принять лекарство, я отвечаюобычно, чтобы они обождали, по крайней мере, пока у меня восстановятсяздоровье и силы, дабы я мог противостоять с большим успехом действию ихнастоя и таящимся в нем опасностям. Я предоставляю полную свободу природе,полагая, что она имеет зубы и когти, чтобы отбиваться от совершаемых на неенападений и поддерживать целое, распада которого она всячески стараетсяизбежать. Я опасаюсь, как бы лекарство вместо того чтобы оказать содействие,когда природа вступает в схватку с недугом, не помогло бы ее противнику и невозложило на нее еще больше работы.
Итак, я утверждаю, что не в одной медицине, но и в других, менее шаткихискусствах, фортуне принадлежит далеко не последнее место. А порывывдохновения, захватывающие и уносящие ввысь поэта, — почему бы и их неприписывать его удаче? Ведь он и сам признает, что они превосходят то, чегомогли бы достигнуть его силы и дарования; ведь он и сам ощущает, что онипришли к нему помимо него и от него не зависят. То же самое говорят иораторы, признающие, что они не властны над охватывающим их порывом инеобыкновенным волнением, увлекающими их дальше первоначального ихнамерения. Так же точно и в живописи, ибо и здесь рука живописца создаетпорою творения, превосходящие и его замыслы и меру его мастерства, творения,восхищающие и изумляющие его самого. Но сколь велика в этих произведенияхдоля удачи, видно особенно явственно из изящества и красоты, которыевозникли без всякого намерения и даже без ведома художника. Смыслящий в этихвещах читатель нередко находит в чужих сочинениях совершенства совсем иногорода, нежели те, какими хотел наделить их и какие усматривал сам автор, иблагодаря этому придает им более глубокий смысл и выразительность.
Что до военного дела, то тут уже каждому ясно, сколь многое зависит внем от удачи. Если мы обратимся хотя бы к нашим собственным расчетам исоображениям, то и здесь придется признать, что дело не обходится безучастия судьбы и удачи, ибо мудрость человеческая в этих вещах мало чегостоит. Чем острее и проницательнее наш ум, тем отчетливее ощущает он своебессилие и тем меньше доверяет себе. Я держусь того же мнения, что и Сулла,и когда всматриваюсь более пристально в наиболее прославляемые военныедеяния, то вижу, что те, кто руководит ими, прибегают, на мой взгляд, крассуждениям и составлению планов, так сказать, для очистки совести, самоеглавное и основное в своем предприятии предоставляя случаю, и, полагаясь наего помощь, отваживаются на действия, не оправданные здравым смыслом. Ихрассуждения перебиваются порою приливами внезапного душевного подъема илидикой ярости, толкающими их на самые необоснованные, по-видимому, решения ипридающими им смелость, выходящую за пределы благоразумия. Это-то ипобуждало многих великих полководцев древности ссылаться на снизошедшее наних вдохновение или указание свыше в виде пророчеств или знамений, чтобывнушить войскам доверие к их безрассудным решениям.