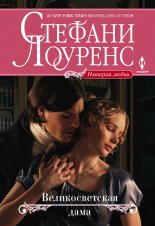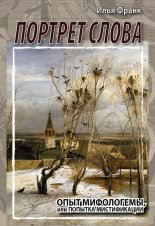Опыты Монтень Мишель

Я люблю натуры умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность вчем бы то ни было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет меня, то,во всяком случае, удивляет, и я затрудняюсь, каким бы именем ее окрестить. Имать Павсания [5], которая первой изобличила сына и принесла первый камень,чтобы его замуровать, и диктатор Постумий [6], осудивший на смерть своегосына только за то, что пыл юности увлек того во время успешной битвы сврагами, и он оказался немного впереди своего ряда, кажутся мне скореестранными, чем справедливыми. И я не имею ни малейшей охоты ни призывать кстоль дикой и столь дорогой ценой купленной добродетели, ни следовать ей.
Лучник, который допустил перелет, стоит того, чья стрела не долетела доцели. И моим глазам так же больно, когда их внезапно поражает яркий свет,как и тогда, когда я вперяю их во мрак. Калликл у Платона говорит, чтокрайнее увлечение философией вредно [7], и советует не углубляться в неедалее тех пределов, в каких она полезна; если заниматься ею умеренно, онаприятна и удобна, но, в конце концов, она делает человека порочным и диким,презирающим общие верования и законы, врагом приятного обхождения, врагомвсех человеческих наслаждений, не способным заниматься общественнойдеятельностью и оказывать помощь не только другому, но и себе самому,готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав, если предаваться вфилософии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своимидокучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, которыйначертала для нас природа.
Привязанность, которую мы питаем к нашим женам, вполне законна;теология, однако, всячески обуздывает и ограничивает ее. Я когда-то нашел усвятого Фомы [8], в том месте, где он осуждает браки между близкимиродственниками, среди других доводов также и следующий: есть опасность, чточувство, питаемое к жене-родственнице, может стать неумеренным; ведь, еслимуж в должной мере испытывает к жене подлинную и совершенную супружескуюпривязанность и к ней еще добавляется та привязанность, которую мы должныиспытывать к родственникам, то нет никакого сомнения, что этот излишекзаставит его выйти за пределы разумного.
Пауки, определяющие поведение и нравы людей, — как философия итеология, — вмешиваются во все: нет среди наших дел и занятий такого, —сколь бы оно ни было личным и сокровенным, — которое могло бы укрыться от ихназойливых взглядов и их суда. Избегать их умеют лишь те, кто ревнивооберегает свою свободу. Таковы женщины, предоставляющие свои прелестивсякому, кто пожелает: однако стыд не велит им показываться врачу. Итак, яхочу от имени этих наук наставить мужей (если еще найдутся такие, которые ив браке сохраняют неистовство страсти), что даже те наслаждения, которые онивкушают от близости с женами, заслуживают осуждения, если при этом онизабывают о должной мере, и что в законном супружестве можно так же впасть враспущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки,на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполненынепристойности, но и несут в себе пагубу нашим женам. Пусть лучше их учитбесстыдству кто-нибудь другой. Они и без того всегда готовы пойти намнавстречу. Что до меня, то я следовал лишь естественным и простым влечениям,внушаемым нам самой природой.
Брак — священный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которыеон нам приносит, должны быть сдержанными, серьезными, даже, в некотороймере, строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная. Ипоскольку основная цель такого союза — деторождение, некоторые сомневаются,дозволительна ли близость с женой в тех случаях, когда мы не можем надеятьсяна естественные плоды, например, когда женщина беременна или когда она вышлауже из возраста. По мнению Платона, это то же, что убийство [9]. Некоторыенароды и, между прочим, магометане гнушаются сношений с беременнымиженщинами; другие — когда у женщины месячные. Зенобия допускала к себе мужаодин только раз, а затем в течение всего периода беременности не разрешалаприкасаться к ней; и только тогда, когда наступало время вновь зачать, онснова приходил к ней. Вот похвальный и благородный пример супружества [10].
У какого-то истомившегося и жадного до этой утехи поэта Платонпозаимствовал такой рассказ. Однажды Юпитер до того возгорелся желаниемнасладиться со своей женой, что, не имея терпения подождать, пока она ляжетна ложе, повалил ее на пол. От полноты испытанного им удовольствия онначисто забыл о решениях, только что принятых им совместно с богами на егонебесном придворном совете. Он похвалялся затем, что ему на этот раз былотак же хорошо, как тогда, когда он лишил свою жену девственности тайком отее и своих родителей [11].
Цари Персии хотя и приглашали своих жен на пиры, но когда желания их отвыпитого вина распалялись и им начинало казаться, что еще немного и придетсяснять узду со страстей, они отправляли их на женскую половину, дабы несделать их соучастницами своей безудержной похоти, и звали вместо них другихженщин, к которым не обязаны были относиться с таким уважением.
Не всякие удовольствия и не всякие милости в одинаковой мереприличествуют людям разного положения. Эпаминонд велел посадить в темницуодного распутного юношу; Пелопид попросил его выпустить ради него узника насвободу; Эпаминонд ответил отказом, но уступил ходатайству одной из своихподруг, которая также об этом просила. Он следующим образом объяснил своеповедение: это была милость, оказанная приятельнице, но недостойная поотношению к военачальнику. Софокл, будучи претором одновременно с Периклом,увидел однажды проходившего мимо красивого юношу. «Погляди, какой прелестныйюноша!» — сказал он Периклу, на что Перикл ответил: «Он может быть желанендля всякого, но не для претора, у которого должны быть незапятнанными нетолько руки, но и глаза».
Когда жена императора Элия Вера стала жаловаться, что он ищет любовныхутех с другими женщинами, тот ей ответил, что делает это со спокойнойсовестью, так как брак есть исполненный достоинства, честный союз, а нелегкомысленная и сладострастная связь. И наши старинные церковные авторы спохвалой вспоминают о женщине, которая дала развод своему мужу, потому чтоне пожелала терпеть его чрезмерно сладострастные и бесстыдные ласки. И,вообще говоря, нет такого дозволенного и законного наслаждения, в которомизлишества и неумеренность не заслуживали бы нашего порицания.
Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самойприродой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельноенаслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепымиумствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляетсознательно и умышленно своей горькой доли:
- Fortunae miseras auximus arte vias. [12]
Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничитьколичество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, каки тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабыпригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним.Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, болееестественный путь, который и впрямь является и более удобным и болееправедным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.
Между тем, наши врачеватели, и телесные и духовные, словно сговорившисьмежду собой, не находят ни другого пути к исцелению, ни других лекарствпротив болезней души и тела, кроме мучений, боли и наказаний. Бдения, посты,власяница, изгнание в отдаленные и пустынные местности, заключение навеки втемницу, бичевание и прочие муки были введены именно ради этого и притом снепременным условием, чтобы они были самыми что ни на есть настоящими мукамии мы со всей остротой ощущали бы их горечь и чтобы не получалось так, какпроизошло с неким Галлионом [13], который, будучи отправлен в изгнание наостров Лесбос, как сообщили оттуда в Рим, жил там в свое удовольствие, и,таким образом, то, что предназначалось ему в наказание, превратилось длянего в благоденствие; тогда сенат, изменив ранее принятое решение, возвратилего обратно к жене и приказал ему не отлучаться из дома, дабы он и в самомделе почувствовал, что наказан. Ибо, кому пост придает здоровья и бодрости,кому рыба нравится больше, для того пост уже не будет исцеляющим душусредством; и точно так же, при врачевании тела, лекарства не оказываютполезного действия на того, кто принимает их с охотою и удовольствием.Горечь и отвращение, которое они вызывают, являются обстоятельствами,содействующими их целительным свойствам. Человек, который мог бы употреблятьревень как обычную пищу, не испытывал бы никакой пользы от его применения:надо, чтобы ревень бередил желудок, — только тогда он может оказать полезноедействие. Отсюда вытекает общее правило, что все исцеляется своеюпротивоположностью, ибо только боль врачует боль.
Это наводит на мысль о другом, весьма странном мнении, будто бы небесами природе можно угодить кровопролитием и человекоубийством, как этопризнавалось всеми религиями. Еще на памяти наших отцов Мурад [14], захвативКоринфский перешеек, принес в жертву душе своего отца шестьсот молодыхгреков, чтобы их кровь искупила грехи покойного. И в новых землях, открытыхуже в наше время, столь чистых и девственных по сравнению с нашими, подобныйобычай имеет повсеместное распространение [15]; все их идолы захлебываются вчеловеческой крови, причем нередки примеры невообразимой жестокости. Жертвыподжаривают живыми и наполовину изжаренными вытаскивают из жаровни, чтобывырвать у них сердце и внутренности. У других, в том числе даже у женщин,сдирают заживо кожу и этой еще окровавленной кожей накрываются сами иоблачают в нее других. И мы встречаем у этих народов не меньше, чем у нас,примеров твердости и мужества. Ибо эти несчастные — старики, женщины, дети,предназначенные в жертву, — за несколько дней перед священнодействиемобходят, собирая милостыню, дома, дабы принести ее в дар прижертвоприношении, и являются на эту бойню приплясывая и распевая вместе ссопровождающей их толпой. Послы мексиканского владыки, описывая ФердинандоКортесу мощь и величие своего господина, сообщили ему прежде всего о том,что у него тридцать вассалов и каждый из них может выставить по сто тысячвоинов и что он обитает в самом красивом и самом укрепленном, какой толькосуществует в мире, городе, и под конец добавили, что ему полагается ежегодноприносить в жертву богам пятьдесят тысяч человек. Он ведет, — говорили они, — непрерывные войны с некоторыми большими, живущими по соседству народами нетолько для того, чтобы доставить упражнение молодежи своей страны, но и сцелью обеспечить в своем государстве жертвоприношения военнопленными. Вдругой раз, в одном из их городов, по случаю прибытия туда Кортеса, былоединовременно принесено в жертву пятьдесят человек. Расскажу еще следующее:некоторые из этих народов, разбитые Кортесом, дабы признать себяпобежденными и искать его дружбы, отправили к нему своих представителей;послы, передавая три вида подарков, сказали: «Господин, вот тебе пять рабов.Если ты грозный бог и питаешься мясом и кровью, пожри их, и мы тебя ещебольше возлюбим; если ты кроткий бог, вот ладан и перья; если же ты человек,прими этих птиц и эти плоды».
Глава XXXI
О каннибалах
Царь Пирр [1], переправившись в Италию и увидев боевой строй высланногопротив него римского войска, сказал: «Я не знаю, что тут за варвары (ибогреки называли так всех чужестранцев), но расположение войска, которое япред собой вижу, нисколько не варварское». То же самое говорили и греки овойске, переправленном к ним Фламинием [2]; то же мнение высказал и Филипп,рассматривая с холма порядок и расположение римского лагеря, разбитого наего земле Публием Сульпицием Гальбой [3]. Это показывает, с какойосторожностью следует относиться к общепринятым мнениям, а также, что судитьо чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не на общее мнение.
У меня довольно долго служил человек, проведший десять или двенадцатьлет в том Новом Свете, который открыт уже в наше время; он жил в тех местах,где пристал к берегу Вильганьон [4], назвавший эту землю АнтарктическойФранцией. Это открытие бескрайной страны является, по-видимому, весьмаважным. Я не мог бы, впрочем, поручиться за то, что в будущем не будетоткрыта еще какая-нибудь другая, ведь столько людей, гораздо ученее нас,ошибались на этот счет. Я опасаюсь, однако, что наши глаза алчут большего,чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит нашивозможности. Мы захватываем решительно все, но наша добыча — ветер.
Солон у Платона [5] пересказывает слышанное им от жрецов города Саиса вЕгипте: некогда, еще до потопа, существовал большой остров, по имениАтлантида, расположенный прямо на запад от того места, где Гибралтарскийпролив смыкается с океаном. Этот остров был больше Африки и Азии взятыхвместе, и цари этой страны, владевшие не только одним этим островом, ноутвердившиеся и на материке, — так что они господствовали в Африке вплоть доЕгипта, а в Европе вплоть до Тосканы, — задумали вторгнуться даже в Азию иподчинить народы, обитавшие на берегах Средиземного моря до залива его,известного под именем Большого моря [6]. С этой целью они переправились вИспанию, пересекли Галлию, Италию и дошли до Греции, где их задержалиафиняне. Однако некоторое время спустя и они, и афиняне, и их остров былипоглощены потопом. Весьма вероятно, что эти ужасные опустошения, причиненныеводами, вызвали много причудливых изменений в местах обитания человека; ведьсчитают же, что море оторвало Сицилию от Италии,
- Наес loca, vi quondam et vasta convulsa ruina,
- Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus
- Una foret. [7]
Кипр от Сирии, остров Негрепонт [8] от материковой Беотии и, напротив,воссоединило другие земли, которые прежде были отделены друг от друга,заполнив песком и илом углубления между ними:
- sterilisque diu palus aptaque remis
- Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum. [9]
Но не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, который мы недавнооткрыли, ибо вышеупомянутый остров почти соприкасался с Испанией, и трудноповерить, чтобы наводнение могло затопить страну протяжением более чем натысячу двести лье; а кроме того, открытия мореплавателей нашего времени сточностью установили, что это не остров, но материк, примыкающий, с однойстороны, к Ост-Индии, а с другой — к землям, расположенным у того и другогополюса, — или, если он все-таки не смыкается с ними, то они отделены друг отдруга настолько узким проливом, что это не дает основания называтьновооткрытую землю островом [10].
По-видимому, этим огромным телам присущи, как и нашим, движениядвоякого рода — естественные и судорожные. Когда я вспоминаю о переменах,произведенных, можно сказать, у меня на глазах моею родною Дордонью направом ее берегу, если смотреть вниз по течению, и о том, что за двадцатьлет она передвинулась до такой степени, что размыла фундаменты многихстроений, я отчетливо вижу, что тут речь идет не об естественном, но осудорожном движении, ибо, если бы она и прежде перемещалась с подобнойбыстротой и впредь стала бы вести себя не иначе, то весь облик мира был быизменен ею одной. Но реки, как правило, не всегда ведут себя одинаково: тоони смещаются в одну сторону, то в другую, а то держатся совего старогорусла. Я не говорю о внезапных наводнениях, причины которых нам хорошоизвестны. В Медоне [11] море засыпало извергнутым им песком земли моегобрата, господина д’Арсака; виднеются только коньки крыш каких-то строений;сдававшиеся им в аренду участки и его возделанные поля превратились вскудные пастбища. Обитатели этих мест говорят, что с некоторых пор море такстремительно наступает на них, что они потеряли уже целях четыре льеприбрежной земли. Эти пески как бы его квартирьеры, и мы видим огромныегруды их, которые движутся на полулье впереди моря, завоевывая для негосушу.
Другое свидетельство древних, с которым также хотят связать открытиеНового Света, мы находим у Аристотеля, если только та книжечка, гдеповествуется о неслыханных чудесах, действительно принадлежит ему [12]. Вней он рассказывает, что несколько карфагенян, миновав Гибралтарский проливи выйдя в Атлантический океан, после долгого плавания вдалеке от всякогоматерика открыли в конце концов большой плодородный остров, весь покрытыйлесами и орошаемый полноводными и глубокими реками; впоследствии и они, ивслед да ними другие, привлекаемые красотой и плодородием этого острова,отправились туда вместе с женами и детьми и начали там обосновываться.Властители Карфагена, однако, увидев, что страна их мало-помалу становитсявсе безлюднее, издали строгий приказ, которым под страхом смерти запрещалосьпереселяться туда кому бы то ни было; этим же приказом они изгнали оттудавсех раньше поселившихся там из опасения, как бы те, умножившись в числе, неподавили их и не разорили их государства. Но и этот рассказ Аристотеля неимеет ни малейшего отношения к недавно открытым землям.
Слуга, о котором я говорю, был человеком простым и темным, а это какраз одно из необходимых условий достоверности показаний, ибо люди с болеетонким умом наблюдают, правда, с большей тщательностью и видят больше, ноони склонны придавать всему свое толкование, и, желая набить ему цену иубедить слушателей, не могут удержаться, чтобы не исказить, хоть немного,правду; они никогда не изобразят вещей такими, каковы они есть; они ихпереиначивают и приукрашивают в соответствии с тем, какими показались они имсамим; и с целью придать вес своему мнению и склонить вас на свою сторонуони охотно присочиняют кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняяистину. Тут нужен либо человек исключительно добросовестный, либо настолькопростой, чтобы его умение сочинять небылицы и придавать вид достоверностивыдумкам превосходило его способности, и вообще человек без предвзятыхмыслей. Именно таким и был мой слуга. А кроме того, он не раз приводил комне матросов я купцов, с которыми свел знакомство во время своегопутешествия. Таким образом, меня вполне удовлетворяют сведения, которыми ониснабдили меня, и я не стану справляться,, что говорят об этих вещахкосмографы.
Нам нужны географы, которые дали бы точное описание местностей, где онипобывали. Но имея перед нами то преимущество, что они собственными глазамивидели, например, Палестину, они стремятся воспользоваться этою привилегиейи порассказать, сверх того, обо всем в мире. Я хотел бы, чтобы не только вэтой области, но и во всех остальных каждый писал только о том, что онзнает, и в меру того, насколько он знает, ибо иной может обладать точнейшимисведениями о свойствах какой-либо реки или источника, которые, можетстаться, он испытал на себе, а вместе с тем, не знать всего прочего, чтоизвестно каждому. Но вместо того, чтобы пустить в обращение малую толикусвоих знаний, он порождает многие весьма важные неудобства. Итак, я нахожу —чтобы вернуться, наконец, к своей теме, — что в этих народах, согласно тому,что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого, если только несчитать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас,по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нампримерами и образцами мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самаясовершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самыесовершенные и цивилизованные обычаи. Они дики в том смысле, в каком дикиплоды, растущие на свободе, естественным образом; в действительности скорееподобало бы назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил,изменив их природные качества. В дичках в полной силе сохраняются ихистинные в наиболее полезные свойства, тогда как в плодах, выращенных намиискусственно, мы только извратили эти природные свойства, приспособив ксвоему испорченному дурному вкусу. И все же даже на наш вкус наши плоды внежности и сладости уступают плодам этих стран, не знавшим никакого ухода.Да и нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую ивсемогущую мать-природу. Мы настолько обременили красоту и богатство еетворений своими выдумками, что, можно сказать, едва не задушили ее. Новсюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она споразительной силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания,
- Et veniunt hederae sponte sua melius,
- Surgit et in solis formosior arbutus antris,
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Et volucres nulla dulcius arte canunt. [13]
Все наши усилия не в состоянии воспроизвести гнездо даже самоймаленькой птички, его строение, красоту и целесообразность его устройства,как, равным образом, и паутину жалкого паука. Всякая вещь, говорит Платон,порождена либо природой, либо случайностью, либо искусством человека; самыевеликие и прекрасные — первой и второй; самые незначительные и несовершенные — последним [14].
Итак, эти народы кажутся мне варварскими только в том смысле, что ихразум еще мало возделан и они еще очень близки к первозданнойнепосредственности и простоте. Ими все еще управляют естественные законы,почти не извращенные нашими. Они все еще пребывают в такой чистоте, что япорою досадую, почему сведения о них не достигли нас раньше, в те времена,когда жили такие люди, которые могли бы судить об этом лучше, чем мы. Мнедосадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платон; ибо то, что мывидим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только всекартины, которыми поэзия изукрасила золотой век, и все ее выдумки и фантазиио счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления ипожелания философии. Философы не были в состоянии вообразить себе стольпростую и чистую непосредственность, как та, которую мы видим собственнымиглазами; они не могли поверить, что наше общество может существовать безвсяких искусственных ограничений, налагаемых на человека. Вот народ, мог бысказать я Платону [15], у которого нет никакой торговли, никакойписьменности, никакого знакомства со счетом, никаких признаков власти илипревосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства иникакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никакихзанятий, кроме праздности, никакого особого почитания родственных связей,никаких одежд, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина илихлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательство, притворство,скупость, зависть, злословие, прощение. Насколько далеким от совершенствапришлось бы ему признать вымышленном им государство!
К тому же они обитают в стране с очень приятным и умеренным климатом,так что там, как сообщали мне очевидцы, очень редко можно встретитьбольного; и они уверяли меня, что им ни разу не пришлось видеть в этойстране старика, у которого тряслись бы от старости руки, гноились глаза,согнулась спина или выпали зубы. Они живут на морском побережье, и состороны материка их защищают огромные и высокие горы, причем между горами иморем остается полоса приблизительно в сто лье шириной. У них великоеизобилие рыбы и мяса различных животных, совершенно непохожих на наших, иедят они эту пищу без всяких приправ, лишь изжарив ее. Первый, кто появилсяу них верхом на коне, хотя они и знали этого человека по прежним егопутешествиям, вызвал у них такой неописуемый ужас, что они убили его, осыпавстрелами, прежде чем смогли распознать. Их здания очень вытянуты в длину ивмещают от двухсот до трехсот душ; они обложены корою больших деревьев,причем полосы этой коры одним концом упираются в землю, а другим сходятся увершины крыши, образуя конек и поддерживая друг друга, наподобие наших риг,кровля которых спускается до самой земли, служа одновременно и боковымистенами.
Есть у них столь твердое дерево, что они изготовляют из него мечи ивертелы для жарения мяса. Их постели сделаны из бумажной ткани, и ониподвешивают их к потолку, вроде того, как это принято у нас на кораблях,причем у каждого своя собственная постель, ибо жена у них спит отдельно отмужа. Встают же они вместе с солнцем и, как только встанут, принимаются заеду, наедаясь сразу на целый день, ибо другой трапезы у них не бывает. Приэтом они совершенно не пьют, подобно тому как и некоторые живущие на востокенароды, которые, по словам Суды [18], никогда не пьют за едою; зато они пьютнесколько раз в течения дня, и помногу. Их питье варится из какого-то корняи цветом напоминает наше легкое красное вино. Пьют они его только теплым;оно сохраняется не более двух-трех дней; на вкус оно несколько терпкое,нисколько не опьяняет и благотворно действует на желудок; на тех, однако,кто не привык к нему, оно действует как слабительное; но для тех, ктопривык, это очень приятный напиток. Вместо хлеба они употребляют какое-тобелое вещество, напоминающее сваренный в сахаре кориандр [19]. Я отведалего; оно сладкое и чуть приторное на вкус. Весь день проходит у них вплясках. Те, кто помоложе, отправляются на охоту; охотятся же они на зверейвооруженные луком. Часть женщин занимается в это время подогреванием ихнапитка, и это главное их занятие. Один из стариков по утрам, прежде чем всеостальные примутся за еду, читает проповедь всем обитателям дома, двигаясь содного конца его до другого и бормоча одно и то же, пока не обойдет всех(ведь их постройки в длину имеют добрую сотню шагов). Он внушает им толькодве вещи: храбрость в битвах с врагами и добрые чувства к женам, причемникогда не забывает прибавить, словно припев, что к женам должно питатьблагодарность за заботу о том, чтобы их питье было теплым и вкусным. Умногих и, в частности, у меня можно увидеть образцы тамошних постелей,бечевок, мечей и деревянных запястий, которыми они прикрывают кисть руки вовремя сражений, а также длинных, выдолбленных с одного конца тростинок; дуяв них они извлекают звуки, под которые пляшут. Они бреют лицо, голову и всетело, причем делают это чище нашего, хоть бритвы у них каменные илидеревянные. Они верят в бессмертие души и полагают, что те, кто заслужил этоперед богами, пребывают на той стороне неба, где солнце всходит, аосужденные — на той, где оно заходит.
Есть у них своего рода жрецы и пророки, которые, однако, очень редкопоказываются народу, ибо живут где-то в горах. В честь их появленияустраивается большое празднество, на которое собираются обитателинескольких деревень (каждое жилище, мною описанное, представляет собойдеревню, и находятся они примерно на расстоянии французского лье одно отдругого). Этот пророк держит речь перед жителями, призывая их к добродетелии к исполнению долга; впрочем, вся их мораль сводится к двум предписаниям, аименно: быть отважными на войне и любить своих жен. Такой пророкпредсказывает им будущее и разъясняет, на какой исход своих начинаний онимогут рассчитывать; он же побуждает их к войне, или, напротив, отговариваетот нее. Он должен угадать правильно, потому что, если случится не так, какон предсказал, его объявят лжепророком и, поймав, изрубят на тысячу кусков.Поэтому тот из пророков, который ошибся в своих предсказаниях, стараетсянавсегда скрыться с глаз своих земляков.
Дар прорицания — дар божий: вот почему злоупотребление им есть обман,который подлежит наказанию. Когда у скифов случалось, что предсказание ихпрорицателя не оправдывалось, они сковывали его по рукам и ногам, бросали наустланные вереском и влекомые быками повозки, а затем сжигали на них. Можнопростить ошибки людей, берущихся судить о вещах, находящихся в пределахчеловеческого разума и способностей, если они сделали все, что в их силах.Но не следует ли карать за невыполнение обещанного и за дерзость обмана тех,кто хвалится необычайными способностями, превосходящими силу человеческогоразумения?
Они ведут войны с народами, обитающими в глубине материка, по тусторону гор, причем на войну они отправляются совершенно нагими, не имеядругого оружия, кроме луков и стрел или деревянных мечей, заостренныхнаподобие железных наконечников наших копий. Поразительно, до чего упорны ихбитвы, которые никогда не заканчиваются иначе, как страшным кровопролитием ипобоищем, ибо ни страх, ни бегство им не известны. Каждый приносит с собой вкачестве трофея голову убитого им врага, которую и подвешивает у входа всвое жилище. С пленными они долгое время обращаются хорошо, предоставляя имвсе удобства, какие те только могут пожелать; но затем владелец пленникаприглашает к себе множество своих друзей и знакомых; обвязав руку пленникаверевкою и крепко зажав конец ее в кулаке, он отходит на несколько шагов,чтобы пленник не мог до него дотянуться, а своему лучшему другу онпредлагает держать пленника за другую руку, обвязав ее веревкою точно также, после чего на глазах всех собравшихся оба они убивают его, нанося ударымечами. Сделав это, они жарят его и все вместе съедают, послав кусочки мясатем из друзей, которые почему-либо не могли явиться. Они делают это, вопрекимнению некоторых, не ради своего насыщения, как делали, например, вдревности скифы, но чтобы осуществить высшую степень мести. И что этодействительно так, доказывается следующим: увидев, что португальцы,вступившие в союз с их врагами, казнят попавших к ним в плен их сородичейпо-иному, а именно зарывая их до пояса в землю и осыпая открытую часть теластрелами, а затем вешая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним издругого мира, распространившие среди их соседей знакомство со многиминеведомыми доселе пороками и более изощренные в злодеяниях, чем они, не безоснования, должно быть, применяют такой вид мести, который, очевидно,мучительнее принятого у них, — и вот, они начали отказываться от своегостарого способа и переходить к новому. Меня огорчает не то, что мы замечаемвесь ужас и варварство подобного рода действий, а то, что должным образомоценивая прегрешения этих людей, до такой степени слепы к своим. Я нахожу,что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать егомертвым, большее варварство раздирать на части пытками и истязаниями тело,еще полное живых ощущений, поджаривать его на медленном огне, выбрасывать нарастерзание собакам и свиньям (а мы не только читали об этих ужасах, но исовсем недавно были очевидцами их [20], когда это проделывали не сзакосневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своимисогражданами, и, что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией), чемизжарить человека и съесть его после того, как он умер.
Хрисипп и Зенон, основатели стоической школы, полагали, что нет ничегозазорного в том, чтобы любым способом использовать наш трупы, если в этоместь надобность, и даже питаться ими; именно так поступили наши предки,которые во время осады Цезарем города Алезии [21] решили смягчить голод,вызванный этой осадою, употребив в пищу тела стариков, женщин и всехнеспособных носить оружие.
- Vascones, fama est, alimentis talibus usi
- Produxere animas. [22]
Да и врачи также не стесняются изготовлять из трупов различные снадобьядля возвращения нам здоровья, то прописывая последние внутрь, то применяя ихкак наружные [23]; но никогда никто не придерживался столь безнравственныхвзглядов, чтобы оправдывать измену, бесчестность, тиранию, жестокость, тоесть наши обычные прегрешения.
Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, еслисудить с точки зрения требований разума, но не на основании сравнения с намисамими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Ихспособ ведения войны честен и благороден, и даже извинителен и красив —настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недугчеловечества: основанием для их войн является исключительно влечение кдоблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все ещенаслаждаются плодородием девственной природы, снабжающей их, без всякогоусилия с их стороны, всем необходимым для жизни в таком изобилии, что имнезачем расширять собственные пределы. Они пребывают в том благословенномсостоянии духа, когда в человеке еще нет желаний сверх вызываемых егоестественными потребностями; все то, что превосходит эти потребности, им ник чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакового с нимивозраста, они называют братьями, младших — своими детьми, стариков же —отцами. Эти последние оставляют свое имущество в наследство всей общине, безраздела и без всякого иного права на владение им, кроме того, какое даруетсвоим созданиям, производя их на свет, природа. Если их соседи, перейдячерез горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то вся добычапобедителя — только в славе да еще в сознании своего превосходства в силе идоблести; им нет дела до имущества побежденных, и они возвращаются в своюобласть, где у них нет недостатка ни в чем, а главное — в том величайшемблаге, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоватьсяею. Так же поступают, в свою очередь, и они сами, когда им случается бытьпобедителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громкосделанного заявления, что те признали себя побежденными; но в течение целогостолетия не нашлось среди них такого, который не предпочел бы умереть,нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих речах или действиях величиемсвоего несокрушимого мужества; и не встретишь среди них такого, который изстраха быть убитым и съеденным унизился бы до просьбы о помиловании. Онипредоставляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела дляних тем большую цену, и постоянно напоминают им об их близкой смерти, омуках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этойцелью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своемпиршестве. Все это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотябы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежатьи таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать своепревосходство над ними. Ибо, в сущности говоря, именно в этом и состоитподлинная победа:
- victoria nulla est
- Quam quae confessos animo quoque subiugat hostes. [24]
Венгры, весьма воинственная нация, в былые времена никогда не добивалисвоих врагов, когда те начинали молить их о пощаде. Но, вырвав у них этопризнание в своем поражении, венгры, не причиняя им вреда, отпускали их безвыкупа, самое большее, — взяв с них слово, что впредь те никогда уже невыступят против них.
Весьма часто своим превосходством над врагом мы бываем обязаныпреимуществам внешним, случайным, а не таким, которые относятся к числунаших достоинств. Крепкие руки и ноги хороши для носильщика, но они не имеютникакого отношения к доблести; наше сложение — это качество бездушное ичисто телесное; если наш противник споткнулся или глаза его ослепило солнце,это подарок судьбы и ничего больше; умение хорошо фехтовать — не что иное,как знание и искусство, которые могут быть усвоены человеком трусливым иничтожным. Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в еговоле; именно здесь — основа его подлинной чести. Доблесть есть сила не нашихрук или ног, но мужества и души; она зависит от качеств не нашего коня илиоружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своемумужеству, si succiderit, de genu pugnat [25], тот, кто пред лицом грозящей ему смерти неутрачивает способности владеть собой, тот, кто, испуская последнее дыхание,смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом, — тот сражен, ноне побежден.
Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми.
Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей. Четырепобеды, эти четыре сестры, прекраснейшие из всех, какие когда-либо виделосолнце, — при Саламине, Платеях, при Микале и в Сицилии, — не осмелилисьпротивопоставить всю свою славу, вместе взятую, славе поражения царя Леонидаи его воинов в Фермопильском ущелье [26].
Устремлялся ли кто-нибудь когда-нибудь с таким великолепным и гордыммужеством навстречу своей победе, как Исхолай [27] устремился навстречуверному поражению? Кто столь же искусно и предусмотрительно действовал радисвоего спасения, как он — ради гибели? Ему было поручено оборонять отаркадян одно из ущелий, ведущих в Пелопоннес. Выяснив, что это совершенноневыполнимо по причине условий местности и неравенства в силах, и понимая,что всякий, кто выступит против врага, неминуемо ляжет на месте, но считая,вместе с тем, недостойным своей доблести, величия и имени лакедемонянина невыполнить возложенной на него задачи, он принял следующее, среднее междудвумя этими крайностями, решение. Наиболее сильных и молодых воинов, дабысберечь их для служения и защиты родины, он отослал от себя, с остальнымиже, гибель которых была не столь ощутительна, он решил отстаивать этоущелье, чтобы своей и их смертью принудить врагов оплатить возможно дорожеэтот проход. Так оно и случилось, ибо, окруженные почти отовсюду аркадянами,среди которых они учинили страшное избиение, и он и все его воины былиперебиты один за другим. Существует ли какой-нибудь трофей в честьпобедителей, который не подобало бы присудить скорее таким побежденным? Ктоподлинный победитель, решается не исходом сражения, а ходом его; и честьвоина и доблесть его в том, чтобы биться; а не в том, чтобы разбить врага.
Но возвращаюсь к моему рассказу. Как бы пленников ни запугивали, так ине удается заставить их проявить малодушие; напротив, в течение двух-трехмесяцев, пока их не трогают, они держатся бодро и весело, торопят своихпобедителей поскорее подвергнуть их последнему испытанию, поносят их,осыпают бранью и упреками в трусости, перечисляют битвы, проигранные ими ихсоплеменникам. У меня есть сочиненная одним из пленников песнь, в которойпоется: пусть все они смело приходят и собираются, чтобы насытиться им; ведьони будут есть своих отцов и своих предков, которые послужили пищей для еготела и взрастили его. «Эти мышцы, — говорит он, — это мясо и жилы — ваши,жалкие вы глупцы! Вы не хотите признать, что в них еще сохраняется та жеплоть, из которой состояли тела ваших предков? Так распробуйте же иххорошенько, и вы ощутите в них вкус своего собственного мяса».
Такая поэзия нисколько не отзывается варварством. Люди, видевшие, какони расстаются с жизнью, изображая картину их казни, рассказывают, чтопленник плюет в лицо своим убийцам и дразнит их. Поистине, до последнегосвоего вздоха они не перестают держать себя вызывающе и выказывать своепрезрение словами и жестами. Право же, по сравнению с нами их можно назватьсущими дикарями, ибо, по совести говоря, одно из двух — либо они дикари,либо мы: так велико различие между их образом жизни и нашим.
Мужчины у них имеют по нескольку жен, и их бывает тем больше, чембольше мужчина славится своей доблестью. И вот прекрасная и изумительнаяособенность их брачных союзов: насколько наши жены стараютсявоспрепятствовать нам добиваться расположения и близости других женщин,настолько их жены сами стремятся к этому. Заботясь о чести своих мужейбольше, чем о чем-либо ином, они прилагают все усилия к тому, чтобы у нихбыло как можно больше товарок, ибо это свидетельствует о доблести их мужей.
Наши жены, пожалуй, скажут, что это чудо из чудес. Вовсе нет: этопроявление истинной супружеской добродетели, но только в самой высокой ееформе. Загляните в Библию: Лия, Рахиль, Сарра и жены Иакова [28] приводили ксвоим мужьям красивых рабынь; Ливия также, в ущерб себе, потворствовалавожделениям Августа, а Стратоника, жена Дейотара [29], не только отдала мужусвою красивую молодую служанку, но даже заботливо воспитала ее детей ипомогла им унаследовать царство отца.
Но дабы кто-нибудь не подумал, что все это не более как простая ирабская покорность общепринятым обычаям, внушенная им авторитетом давноустановившегося уклада, который они принимают безропотно и без рассуждений,ибо ум их настолько не развит, что не в состоянии представить себе что-либоиное, я могу привести несколько доказательств их одаренности и ума. Выше япривел уже отрывок из песни их воина, теперь приведу другую, любовную песню,которая начинается так: «Остановись, змейка, остановить, чтобы сестра моямогла всмотреться в узор твоей шкурки и по образцу его сделать роскошнуюленту, которую я мог бы подарить моей милой; и пусть твоей красоте, твоимформам будет навсегда отдано предпочтение перед всеми другими змейками».Таков первый куплет и он же припев этой песни. Я достаточно знаком споэзией, чтобы утверждать, что в этой песне не только нет ничеговарварского, но что это самое настоящее анакреонтическое произведение [30].Кстати сказать, их язык очень мягкий, приятный на слух, напоминает своимиокончаниями греческий.
Трое из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, когда тамнаходился король Карл IX [31]. Не подозревая того, как тяжело в будущемотзовется на их покое и счастье знакомство с нашей испорченностью, не ведаятого, что общение с нами навлечет на них гибель, — а я предполагаю, что онауже и в самом деле очень близка, — эти несчастные, увлекшись жаждою новизны,покинули приветливое небо своей милой родины, чтобы посмотреть, чтопредставляет собою наше. Король долго беседовал с ними; им показали, как мыживем, нашу пышность, прекрасный город. После этого кому-то захотелосьузнать, каково их мнение обо всем виденном и что сильнее всего поразило их;они назвали три вещи, из которых я забыл, что именно было третьим, и оченьсожалею об этом; но две первые сохранились у меня в памяти. Они сказали, чтопрежде всего им показалось странным, как это столько больших, бородатыхлюдей, сильных и вооруженных, которых они видели вокруг короля (весьмавозможно, что они говорили о швейцарских гвардейцах), безропотно подчиняютсямальчику и почему они сами не изберут кого-нибудь из своей среды, ктоначальствовал бы над ними; во-вторых, — у них есть та особенность в языке,что они называют людей «половинками» друг друга, — они заметили, что междунами есть люди, обладающие в изобилии всем тем, чем только можно пожелать, вто время как их «половинки», истощенные голодом и нуждой, выпрашиваютмилостыню у их дверей; и они находили странным, как это столь нуждающиеся«половинки» могут терпеть такую несправедливость, — почему они не хватаюттех других за горло и не поджигают их дома.
С одним из этих туземцев я очень долго беседовал, но мой толмач такплохо переводил мои слова, и ему, по причине его тупости, так трудно былоулавливать мои мысли, что я не извлек никакого удовольствия из этогоразговора. На мой вопрос: какие преимущества доставляет ему высокоеположение среди соплеменников (ибо это был вождь и наши матросы называли егокоролем), он ответил: «Идти впереди всех на войну». Когда я просил, сколькоже людей ведет он за собой, он жестом отмерил некоторое пространство, желаяпоказать, что их столько, сколько может здесь поместиться; получалосьпримерно четыре или пять тысяч человек. Наконец, на вопрос, не прекращаетсяли его власть вместе с войной, он ответил, что сохраняет ее и в мирное времяи что заключается она в том, что, когда он посещает подчиненные ему деревни,жители их прокладывают для него сквозь чащу лесов тропинки, по которым онможет пройти с полным удобством.
Все это не так уже плохо. Но помилуйте, они не носят штанов!
Глава XXXII
О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью
Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана является областьнеизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и,кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишаютнас возможности что-либо им противопоставить. По этой причине, замечаетПлатон, гораздо легче угодить слушателям, говоря о природе богов, чем оприроде людей; ибо невежество слушателей дает полнейший простор инеограниченную свободу для описания таинственного [1].
Поэтому люди ни во что не верят столь твердо, как в то, о чем онименьше всего знают, и никто не разглагольствует с такой самоуверенностью,как сочинители всяких басен — например алхимики, астрологи, предсказатели,хироманты, врачи, id genus omne [2]. Яохотно прибавил бы к их числу, если б осмелился, еще целую кучу народа, аименно присяжных толкователей и угадчиков намерений божьих, которые считаютсвоей обязанностью отыскивать причины всего, что случается, усматривать втайнах воли господней непостижимые побуждения господних деяний; и хотяразнообразие и постоянная несогласованность происходящих событий изаставляют их метаться из стороны в сторону и из одной крайности в другую,они все же не бросают своей игры и той же самой кистью размалевывают все безразбора то в белый, то в черный цвет.
У одного индейского племени есть похвальный обычай: когда им не повезетв какой-нибудь стычке или в сражении, они всей общиной просят за это усолнца, своего бога, прощения, словно они совершили неправедное деяние; ибосвою удачу и неудачу они приписывают божественному разуму, ставя посравнению с ним ни во что свои домыслы и суждения.
Для христианина достаточно верить, что все исходит от бога, приниматьвсе с благодарностью и признанием его неисповедимой божественной мудрости,считать благом все выпавшее на его долю, в каком бы обличий оно ни было емуниспослано. Но я никоим образом не могу примириться с тем, что вижу повсюду,а именно, со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию ссылками науспех и процветание наших дел. Наша вера располагает достаточным количествоминых оснований, не нуждаясь в подобного рода ссылках на события; ведьсуществует опасность, что народ, привыкнув к этим, столь соблазнительным ипришедшимся ему по вкусу доводам, когда вдруг случится что-нибудьпротивоположное и ему неприятное, может поколебаться в своей вере. И вот вампример из происходящих ныне у нас религиозных войн. Победители в битве приЛарошлабейле необычайно ликовали по поводу своей удачи и видели в нейдоказательство правоты своего дела. Когда же им довелось испытать пораженияпри Монконтуре и при Жарнаке [3], им, чтобы как-нибудь объяснить своинеудачи, пришлось вспомнить и об отеческих розгах и об отеческих наказаниях.И если бы народ не был всецело у них в руках, он бы сразу почуял, что это тоже самое, что за помол одного мешка брать плату дважды или, дуя себе напальцы, одновременно студить и согревать их. Было бы много лучше сказать емучистую правду. Несколько месяцев тому назад под командованием Дон ХуанаАвстрийского была одержана блестящая морская победа над турками [4]; ногосподу богу не раз бывало угодно допускать также и победы турок надхристианами. Короче говоря, трудно взвешивать на наших весах дела божий,чтобы они не терпели при этом ущерба. И кто пожелал бы придать особый смыслтому, что Арий и близкий к нему по образу мыслей папа Лев, важнейшие главариереси ариан [5], умерли хотя и в разное время, но столь сходной и страннойсмертью (оба они, покинув из-за резей в желудке диспут, внезапно скончалисьв отхожем месте), и, сверх того, особо подчеркнуть обстоятельства и самоеместо, где совершилось это божественное возмездие, — тому я мог бы указать впридачу и на Гелиогабала, который был убит также в нужнике [6]. Но помилуйте! Исвятого Иринея [7] постигла та же самая участь. Господь бог, желая показатьнам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого долженстрашиться злой, не имеют ничего общего с удачами и неудачами мира сего,располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям,отнимая тем самым у нас возможность пускаться на этот счет в нелепейшиерассуждения. И в дураках остаются те, кто пытается разобраться в этих вещах,опираясь на свой человеческий разум. За каждым удачным ударом у них следует,по меньшей мере, два промаха. Это хорошо показал св. Августин на примересвоих противников. Этот спор решается скорее оружием, чем оружием разума.Нужно довольствоваться тем светом, который солнцу угодно изливать на нассвоими лучами; кто же поднимет взор, чтобы впитать в себя немного большесвета, пусть не сетует, если в наказание за свою дерзость он лишится зрения.Quis hominum potest scire consilium Dei? aut quis poterit cogitare quidvelit dominus? [8].
Глава XXXIII
О том, как ценой жизни убегают от наслаждений
Я убедился в том, что мнения древних, в большинстве случаев, сходятся вследующем: когда в жизни человека больше зла, нежели блага, значит насталчас ему умереть; и еще: сохранять нашу жизнь для мук и терзаний — значитнарушать самые законы природы; о чем и говорят приводимые ниже древниеизречения:
- , .
- .
- . [1]
Но доводить презрение к смерти до такой степени, чтобы использовать еев качестве средства избавиться от почестей, богатства, высокого положения идругих преимуществ и благ, которые мы называем счастьем, возлагать на нашразум еще и это новое бремя, как будто ему и без того не пришлось достаточнопотрудиться, чтобы убедить нас отказаться от них, — ни таких советов, ниупоминания о действительных случаях подобного рода я не встречал, пока мнеслучайно не попал в руки следующий отрывок из Сенеки. Обращаясь к Луцилию,человеку весьма могущественному и имевшему большое влияние на императора, ссоветом сменить свою роскошную и исполненную наслаждений жизнь и суетностьсвета на тихое и уединенное существование, заполненное философскимиразмышлениями, и, зная о том, что Луцилий ссылается на связанные с этимнекоторые трудности, Сенека говорит: «Я держусь того мнения, что тебенадлежит либо отказаться от этого образа жизни, либо от жизни вообще; ясоветую, однако, избрать менее трудный путь и скорее развязать, нежелиразрубить тот узел, который ты так неудачно завязал, при условии,разумеется, что, если развязать его не удастся, ты все же его разрубишь. Нетчеловека, каким бы трусом он ни был, который не предпочел бы упасть одинединственный раз, но уже навсегда, чем постоянно колебаться из стороны всторону» [2]. Я склонен был думать, что такой совет подходит лишь к суровомуучению стоиков; однако, удивительное дело, он оказался позаимствованным уЭпикура, который по этому поводу писал Идоменею весьма сходные вещи.
Нечто подобное, как мне кажется, подметил я и между людьми нашегоисповедания, правда, смягченное до некоторой степени христианством. СвятойИларий, епископ города Пуатье [3], этот знаменитый враг арианской ереси,находясь в Сирии, был извещен о том, что его единственная дочь Абра, которуюон оставил дома вместе с ее матерью, окружена толпой поклонников, людей втех краях весьма видных, домогающихся сочетаться с ней браком, так как былаона девицей весьма хорошо воспитанной, красивой, богатой и в цвете лет. Оннаписал ей (как нам это известно), чтобы она отвратилась от всех соблазнов инаслаждении, которые ей предлагают; он добавлял, что во время своегопутешествия подыскал ей супруга несравненно более высокого и достойного,обладающего неизмеримо большею властью и величием, который одарит еебесценнейшими нарядами и украшениями. Его намерение состояло в том, чтобыискоренить в ней влечение и привычку к мирским удовольствиям и полностьюобратить ее к богу. Но так как ему казалось, что простейшим и самым вернымсредством для этого была бы смерть его дочери, он неустанно обращался к богус просьбами и мольбами, чтобы он призвал ее к себе из этого мира; так оно ислучилось, ибо вскоре после возвращения Илария его дочь скончалась, чему онбыл несказанно рад. Этот Иларий, пожалуй, превзошел своим рвением остальных,ибо прибегнул к подобному средству сразу же, тогда как другие прибегают кнему, когда уже нет иного исхода, а также потому, что он это сделал поотношению к единственной своей дочери. Однако мне хочется досказать этуисторию до конца, хотя конец ее и не касается непосредственно предмета моегорассуждения. Жена святого Илария, узнав от него, что смерть их дочери былавызвана им намеренно и сознательно, а также, насколько она стала счастливее,покинув наш мир, вместо того, чтобы и дальше томиться в нем, проникласьстоль пылким влечением к вечному блаженству на небе, что, осаждая своегосупруга непрестанными просьбами, умолила его сделать то же самое и для нее.И господь, вняв мольбам их обоих, немного времени спустя призвал к себе иее, и смерть эту оба они встретили с величайшей радостью.
Глава XXXIV
Судьба нередко поступает разумно [1]
Непостоянство и шаткость судьбы приводят к тому, что ей приходитсяпредставать перед нами в самых разнообразных обличиях. Свершалось ликогда-нибудь правосудие с такой стремительностью, как в следующем случае?Герцог Валантинуа [2], решив отравить Адриана, кардинала Корнето, у которогов Ватикане собирались отужинать он сам и его отец, папа Александр VI,отправил заранее в его покои бутылку отравленного вина, наказав кравчемухорошенько беречь ее. Папа, прибыв туда раньше сына, попросил пить, икравчий, думая, что вино было поручено его особому попечению только из-засвоего отменного качества, предложил его папе. В этот момент появляется, кначалу пира, и герцог; полагая, что к его бутылке не прикасались, он пьет тоже самое вино. И вот, отца постигла внезапная смерть, а сын, долгое времятяжело проболев, выжил, чтобы претерпеть еще худшую участь.
Иногда кажется, что судьба дожидается определенного часа, чтобы сыгратьс нами шутку. Господин д’Эстре, в то время знаменосец в полку господинаВандома, и господин де Лик, заместитель начальника отряда герцога д’Аско,ухаживали одновременно, хотя и принадлежали к враждующим сторонам (как этобывает с соседями, которых разделяет граница), за сестрою господина деФукероля, отдавшей, в конце концов, предпочтение второму из них. Но в деньсвадьбы и, что еще хуже, прежде, чем разделить с новобрачной ложе, молодойсупруг пожелал преломить копье в честь своей супруги и с этой целью засел взасаде близ Сент-Омера, где господин д’Эстре, оказавшись сильнее, захватилего в плен; и в довершение торжества д’Эстре случилось так, что молодаядама,
- Coniugis ante coacta novi dimittere collum,
- Quam veniens una atque altera rursus hiems
- Noctibus in longis avidum saturasset amorem, [3]
обратилась к нему с просьбой оказать ей любезность и отпуститьпленника, что он и сделал, ибо французский дворянин никогда и ни в чем неотказывает даме.
Не кажется ли порой, что судьба — остроумная выдумщица? Константин, сынЕлены, основал Константинопольскую империю, и много столетий спустяКонстантином, сыном Елены, завершилось ее многовековое существование [4].
Иногда ей угодно бывает передразнивать совершаемые богом чудеса.Передают, будто бы, когда король Хлодвиг осаждал Ангулем, стены его самисобой пали пред ним; кроме того, и Буше [5] также сообщает, позаимствовавэтот рассказ у какого-то автора, что король Роберт осадил некий город, азатем отлучился из войска, чтобы, выполняя обет, отправиться в Орлеанотпраздновать день святого Агнана; во когда он присутствовал наторжественном богослужении, то в какой-то момент мессы стены осажденногогорода без всякого усилия со стороны осаждающих сами собой развалились.Нечто совсем иное произошло во время наших войн за Миланское герцогство.Полководец Риенциг сражаясь на нашей стороне осадил город Эронну и заложилмину под изрядный кусок крепостной стены. Когда пришел срок, часть стеныцеликом взлетела кверху, а затем — подобно пущенной прямо в небо и упавшейобратно стреле — опустилась так же целиком на свое прежнее место, так чтоосажденные ничего от этого не потеряли.
Иногда судьба занимается и врачеванием: Ясон Ферский [6] страдалнарывом в груди, и врачи от него отступились, считая, что он безнадежен.Страстно желая избавиться от страданий, хотя бы ценой смерти, он очертяголову бросился во время сражения в самую гущу врагов и был равен, но такудачно, что нарыв его прорвался и он выздоровел.
Не превзошла ли судьба художника Протогена в его искусстве? Нарисовав всовершенстве усталую и измученную собаку, он был вполне удовлетворен своейработой, однако за одним исключением: ему никак не удавалось изобразить, какему хотелось, слюну и пену у ее рта. Раздосадованный этим, он схватил губку,пропитанную разыми красками, и запустил ею в картину, чтобы стереть всенарисованное; судьба, однако, весьма кстати направила удар прямо в мордусобаки и выполнила таким путем то, что было не под силу искусству.
Не руководит ли порой судьба нашими замыслами и не исправляет ли онаих? Изабелла, королева английская, переправляясь с войском из Зеландии всвое королевство, чтобы оказать помощь сыну в борьбе против мужа, погиблабы, если бы прибыла в ту самую гавань, куда направлялась, ибо именно там-тоее и поджидали враги; но судьба, наперекор ее воле, отбросила ее корабли вдругое место, где она благополучно высадилась [7]. И не имел ли основанийтот древний, который, швырнув камень в собаку, попал в мачеху и убил ее,произнести следующий стих:
- ,
то есть: судьба лучше нас знает, что надо делать [8]. Икет [9] подговорил двух воинов, чтобы они убили Тимолеона, жившего вто время в Адране, в Сицилии. Они договорились, что сделают это, как толькоон приступит к жертвоприношению, и, замешавшись в толпу, уже перемигнулисьмежду собой в знак того, что настало время выполнить их намерение. Но в этомгновение возле них появился третий воин, который хватил одного из них мечомпо голове так, что тот упал замертво; свершив это, он пустился бежать.Товарищ убитого, считая, что все открылось и он погиб, бросился к алтарю и,моля о пощаде, обещал признаться во всем. Но в то время, как он рассказывало заговоре, удалось схватить третьего воина, и в страшной давке, осыпаяударами, его потащили как убийцу к Тимолеону и наиболее видным лицам,присутствовавшим на торжестве. Схваченный, моля о помиловании, заявил, чтоон совершил акт правосудия, умертвив убийцу своего отца; и свидетели,которых ему весьма кстати послал его счастливый жребий, подтвердили, что,действительно, в городе леонтинцев его отец был убит тем, кому он сейчасотомстил. Ему тут же было пожаловано десять аттических мин, ибо на его долювыпало счастье, мстя за смерть отца, избавить от смерти отца сицилийцев.Судьба, как мы видим, в этом случае превзошла хитроумием хитроумие нашихрасчетов.
И еще один, последний пример. Не проявилось ли в том, о чем я хочурассказать, особая доброта, милость и человеколюбие судьбы? Игнации, отец исын, внесенные римскими триумвирами в проскрипционные списки, принялиблагородное решение отдать свою жизнь один другому, обманув тем самымжестокость тиранов; и вот, обнажив мечи, они ринулись один на другого.Судьбе было угодно направить острия мечей таким образом, что и сын и отецбыли поражены насмерть; и та же судьба, воздавая дань почтения стольпоразительной и прекрасной любви, позволила им сохранить достаточно сил,чтобы каждый из них, вырвав свой меч из тела другого, мог сжать своегоблизкого окровавленной и вооруженной рукой в столь цепком объятии, чтопалачам, отрубившим обе головы сразу, пришлось оставить тела в этомблагородном сплетении, так, что рана одного приникла к ране другого, и онилюбовно впивали в себя остатки крови и жизни друг друга.
Глава XXXV
Об одном упущении в наших порядках
Мой покойный отец, человек, руководствовавшийся всю свою жизнь опытом иприродной сметкой, при этом обладавший ясным умом, говорил мне когда-то, чтоему очень хотелось бы, чтобы во всех городах было известное место, кудасходились бы все имеющие в чем-либо нужду и где бы они могли сообщить о ней,чтобы приставленный к этому делу чиновник записал их пожелания, например:«Хочу продать жемчуг, хочу купить жемчуг»; «такой-то ищет спутника дляпоездки в Париж», «такой-то — слугу, умеющего делать то-то и то-то»;«такой-то — учителя»; «такому-то нужен подмастерье»; одним словом, одному —одно, другому — другое, кому что нужно. И мне кажется, что подобная мерадолжна была бы в немалой степени облегчить общественные сношения, ибо всегдаи везде имеются люди, обстоятельства которых складываются таким образом, чтоони ощущают нужду друг в друге, но, так и не отыскав один другого,испытывают крайние неудобства.
Мне известно, что, к величайшему стыду нашего века, у нас на глазахумерли с голоду два человека выдающихся знаний: Лилио Грегорио Джиральди вИталии и Себастиан Касталион в Германии [1]; полагаю, что нашлось бы немалолюдей, которые пригласили бы их к себе на весьма хороших условиях или, вовсяком случае, оказали бы помощь, где бы они не жили, если бы знали об ихбедственном положении. Мир не настолько еще испорчен, чтобы не нашлосьчеловека — и я знаю такого, — который не пожелал бы от всего сердцарасходовать унаследованные им от родителей средства, пока судьбе будетугодно, чтобы он ими располагал, на избавление от нищеты людей редкостных ивыдающихся в какой-либо имеющей значение области, ибо нередко судьбапреследует их по пятам и доводит до крайности. Этот человек создал бы им, поменьшей мере, такие условия, что если бы среди них и нашелся кто-нибудь, ктоне был бы ими доволен, то это могло бы случиться лишь по причине егособственного неразумия.
И в делах хозяйственных мой отец установил порядки, которые я считаюпохвальными, но которые, увы, я не в силах поддерживать. Ведь кроме записей,относящихся к ведению различных хозяйственных дел, куда заносились счетапомельче, платежи, сделки, не требующие скрепления рукой нотариуса, — иборегистрация таковых возлагается на правительственного сборщика податей, — онпоручил тому из своих доверенных слуг, которого использовал как писца, веститакже дневник, в котором полагалось отмечать все достойные вниманияпроисшествия, а также день за днем решительно все события, относящиеся кистории нашего дома. И теперь, когда время начинает изглаживать в памятиживые воспоминания, заглянуть в эту летопись чрезвычайно приятно и столь жеполезно, ибо она нередко разрешает наши сомнения: когда именно было задуманотакое-то дело? Когда оно было закончено? Как оно шло? Как завершилось? Тутже мы можем прочесть о наших путешествиях, наших отлучках, браках, смертях,о получении счастливых или печальных известий, о смене важнейших из нашихслуг и тому подобных вещах. Это — старинный обычай, и я думаю, что неплохобыло бы каждому освежить его у своего камелька. А я себя считаю глупцом, чтоне придерживался его.
Глава XXXVI
Об обычае носить одежду
За что бы я ни брался, мне приходится преодолевать преграды, созданныеобычаем, — настолько опутал он каждый наш шаг. В эту прохладную пору года ядумал как-то о том, является ли для недавно открытых народов привычка ходитьсовершенно нагими следствием высокой температуры воздуха, как мы утверждаемэто относительно индейцев и мавров, или же она первоначально быласвойственна всем людям. Но поскольку все, что живет под небом, как говоритПисание, подвластно одинаковым законам [1], люди мыслящие, сталкиваясь свопросами подобного рода, где нужно проводить различие между законамиестественными и надуманными, имеют обыкновение обращаться к общемумиропорядку, в котором не может быть никакой фальши. Итак, раз все сущеевооружено, так сказать, иголкой и ниткой, чтобы поддерживать свое бытие,право же, трудно поверить, что только одни мы созданы столь немощными иубогими, что не в состоянии поддержать себя без сторонней помощи. Я полагаюпоэтому, что, подобно тому как любое растение, дерево, животное, да и вообщевсе, что живет, самой природой обеспечено покровами; достаточными, чтобызащитить себя от суровой непогоды:
- Proptereaque fere res omnes aut corio sunt
- Aut seta, aut conchis, aut callo, aut cortice tectae, [2]
точно так же было когда-то и с нами; но подобно тем, кто заменяетдневной свет искусственным, и мы заменили естественные средствазаимствованными. И нетрудно убедиться, что этот обычай делает для насневозможным то, что в действительности вовсе не является таовым. В самомделе, народы, не имеющие никакого понятия об одежде, обитают примерно в томже климате, что и мы; а, кроме того, наиболее чувствительные части нашеготела остаются открытыми, например глаза, рот, нос, уши, а у наших крестьян, — как, впрочем, и наших предков, — сверх того, еще грудь и живот. И если бынам от рождения было предопределено носить штаны или юбки, то можно несомневаться, что природа снабдила бы те части нашего тела, которые онаоставила уязвимыми для суровостей погоды, более толстой кожей, как она этосделала на концах пальцев и на ступнях ног.
Почему же трудно поверить этому? Между моим способом одеваться и тем,как одет в наших краях крестьянин, я нахожу различие большее, чем между егоодеждою и одеждою человека, прикрытого своею кожей.
А сколько людей, особенно в Турции, ходят нагими из благочестия!
Некто, увидев в разгаре зимы одного из наших нищих, который, не имея насебе ничего, кроме рубашки, чувствовал себя все же не хуже, чем тот, ктозакутан по самые уши в куний мех, спросил его, как он может терпеть такойхолод. «Ну, а вы, сударь, — ответил тот, — ведь и у вас тоже лицо ничем неприкрыто. Вот так и я — весь словно лицо». Итальянцы рассказывают о шуте,если не ошибаюсь, герцога Флорентийского, который на вопрос своегогосподина, как он может, столь плохо одетый, переносить холод, когда он,герцог, так от него страдает, ответил: «Последуйте моему совету, наденьте насебя все, что только у вас найдется, как это сделал я, и вы не больше моегобудете страдать от мороза». Царя Масиниссу до глубокой старости нельзя былоубедить покрывать голову ни в мороз, ни в бурю, ни в дождь [3]. То жепередают и об императоре Севере [4].
Геродот рассказывает, что во время войн египтян с персами и им идругими было замечено, что головы убитых египтян гораздо крепче, чем головыперсов, потому что первые бреют их и оставляют непокрытыми с детских лет,тогда как у вторых они постоянно покрыты в юные годы колпаками, а позднее —тюрбанами [5].
Царь Агесилай до преклонного возраста носил зимой и летом одинаковуюодежду. Цезарь, как сообщает Светоний, выступал всегда впереди своего войскаи чаще всего шел пешком, с непокрытой головой, все равно — палило ли солнцеили лил дождь; то же самое рассказывают и о Ганнибале.
- tum vertice nudo
- Excipere insanos imbrea coelique ruinam. [7]
Один венецианец, который прожил долгое время в царстве Перу [8] итолько недавно возвратился оттуда, пишет, что тамошние мужчины и женщины,хотя и покрывают прочие части тела одеждой, ходят всегда босые и так жеездят верхом на лошади.
И замечательно, что Платон также советует ради здоровья всего нашеготела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того,которым их одарила сама природа [9].
Король, которого поляки избрали себе после нашего [10], — он и впрямьодин из самых великих государей нашего века, — никогда не носит перчаток ине сменяет ни зимою, ни в непогоду той шапочки, что он носит у себя дома [11].
Если я терпеть не могу ходить нараспашку, не застегнув камзол на всепуговицы, то мои соседи-землепашцы почувствовали бы себя, напротив, оченьстесненными, когда бы им пришлось ходить в таком виде. Варрон считает, чтопредписавшие римлянам обнажать голову в присутствии богов и должностных лицсделали это скорее имея в виду здоровье граждан, а также желая закалить ихот непогоды, чем из уважения к высшим [12].
И раз уж речь зашла о холодах и о французах, привыкших напяливать насебя целую кучу пестрого тряпья (я не говорю о себе, ибо, подражая моемупокойному отцу, одеваюсь исключительно в черное и белое), то добавлю, что,согласно рассказу нашего полководца Мартена Дю Белле, ему во время похода вЛюксембург [13] довелось испытать морозы настолько суровые, что вино впровиантском складе кололи топорами и клиньями, выдавая его солдатам повесу, и те уносили его в корзинах. Совсем так, как у Овидия:
- Nudaque consistunt formam servantia testae
- Vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt. [14]
У устья Меотийского озера морозы бывают настолько суровы, что в томсамом месте, где полководец Митридата дал бой врагам и разбил их в пешемстрою, он же, когда наступило лето, выиграл у них еще и морское сражение [15].
Римлянам пришлось претерпеть много бедствий во время сражения скарфагенянами близ Плаценции [16], ибо, когда они бросились на врагов, у нихот холода стыла кровь и коченели руки и ноги, тогда как Ганнибал велелразвести костры, чтобы солдаты во всем его войске могли обогреваться у них,а также распределить по отрядам масло, дабы, обмазав им свое тело, онипридали мышцам больше гибкости и подвижности и защитили поры от морозноговоздуха и порывов дувшего тогда студеного ветра.
Отступление греков из Вавилона на родину знаменито теми лишениями итрудностями, которые им потребовалось преодолеть. Застигнутые в горахАрмении ужасной снежной бурей, они заблудились и потеряли дорогу; яростно,можно сказать, осаждаемые непогодой, они в течение суток ничего не ели и непили, большая часть бывших с ними животных пала; многие воины умерли, многиебыли ослеплены градом и белизной снега; иные изувечили себе руки и ноги,иные закоченели до того, что остались неподвижными на месте, хотя иполностью сохранили сознание.
Александр видел народ, где плодовые деревья закапывают на зиму в землю,чтобы предохранить их таким способом от мороза.
Что касается одежды, то мексиканский царь менял четыре раза в день своиоблачения и никогда не надевал снова уже хотя бы раз надетого платья. Онупотреблял их для раздачи в качестве наград и пожалований; равным образом,ни один горшок, блюдо или другая кухонная и столовая утварь не былиподаваемы ему дважды.
Глава XXXVII
О Катоне Младшем
Я не разделяю всеобщего заблуждения, состоящего в том, чтобы меритьвсех на свой аршин. Я охотно представляют себе людей, не схожи со мной. И,зная за собой определенные свойства, я не обязываю весь свет к тому же, какэто делает каждый; я допускаю и представляю себе тысячи иных образов жизни,и, вопреки общему обыкновению, с большей готовностью принимаю несходстводругого человека со мною, нежели сходство. Я нисколько не навязываю другомумоих взглядов и обычаев и рассматриваю его таким, как он есть, безкаких-либо сопоставлений, но меряя его, так сказать, его собственной меркой.Отнюдь не будучи сам воздержанным, я от чистого сердца восхищаюсьвоздержанностью фельянтинцев и капуцинов [1], находя их образ жизни весьмадостойным; и силой моего воображения и без труда переношу себя на их место.
И я тем больше люблю их и уважаю, что они иные, чем я. И ничего я такне хотел бы, как чтобы о каждом из нас судили особо и чтобы меня не стриглипод общую гребенку.
Моя собственная слабость нисколько не умаляет того высокого мнения,которое мне подобает иметь о стойкости и силе людей, этого заслуживающих.Sunt qui nihil laudant, nisi quod se imitari posse confidunt [2]. Пресмыкаясь во прахе земном, я, тем не менее, не утратилспособности замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иныхгероических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не данонадлежащим образом действовать, и сохранять, по крайней мере, неиспорченнойэту главнейшую часть моего существа, — по мне, и то уже много. Ведь обладатьдоброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, вкоторый мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами, — настолькосвинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещьневедомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнении вриторике:
Это безделушка, которую можно повесить у себя на стенке или на кончикеязыка, или на кончике уха в виде украшения.
Не заметно больше поступков, исполненных добродетели; те, которыекажутся такими, на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава,страх, привычка и другие столь же далекие от добродетели побуждения.Справедливость, доблесть, доброта, которые мы обнаруживаем при этом, могутбыть названы так лишь теми, кто смотрит со стороны, на основании тогооблика, в каком они предстают на людях, но для самого деятеля это никоимобразом не добродетель; он преследует совершенно иные цели, им руководятиные побудительные причины. А добродетель, между тем, признает своим толькото, что творится посредством нее одной и лишь ради нее.
После великой битвы при Потидее, в которой греки под предводительствомПавсания нанесли Мардонию и персам страшное поражение, победители, следуяпринятому у них обычаю, стали судить, кому принадлежит слава этого великогоподвига, я признали, что наибольшую доблесть в этой битве проявилиспартанцы. Когда же спартанцы, эти отличные судьи в делах добродетели, сталирешать, в свою очередь, кому из них принадлежит честь свершения в этот деньнаиболее выдающегося деяния, они пришли к выводу, что храбрее всех сражалсяАристодем; и все же они не дали ему этой почетной награды, потому что егодоблесть воспламенялась желанием смыть пятно, которое лежало на нем современи Фермопил, и он жаждал пасть смертью храброго, дабы искупить свойпрежний позор [5]. Следуя за общей порчею нравов, пошатнулись и наши суждения.Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы умалитьславу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудьнизменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы ипричины.
Велика хитрость! Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающеесядеяние, и я берусь обнаружить в нем, с полным правдоподобием, полсотнипорочных намерений. Одному богу известно, сколько разнообразнейшихпобуждений можно, при желании, вычитать в человеческой воле! Но любителизаниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своимехидством, сколько грубостью и тупоумием.
С таким же усердием и готовностью, с каким глупцы стремятся унизить этивеликие имена, я хотел бы приложить все силы, чтобы вновь их возвысить. Я нетешу себя надеждой, что мне удастся восстановить в их былом достоинстве этидрагоценнейшие образцы, могущие, по мнению мудрецов, служить примером длявсего мира, но я все же постараюсь использовать для этого все доступные мневозможности и всю силу моей аргументации, как бы недостаточна она ни была.Ибо надо помнить, что все усилия нашего воображения не в состоянии поднятьсядо уровня их заслуг.
Долг честных людей — изображать добродетель как можно более прекрасною,и не беда, если мы увлечемся страстью к этим священным образам. Что же донаших умников, то они всячески их чернят либо по злобе, либо в силу порочнойсклонности мерить все по собственной мерке, о чем я говорил уже выше, либо — что мне представляется наиболее вероятным — от того, что не обладаютдостаточно ясным и острым зрением, чтобы различить блеск добродетели во всейее первозданной чистоте: к таким вещам их глаз непривычен. Так, например,Плутарх говорит, что в его время некоторые считали причиной самоубийстваКатона Младшего его мнимый страх перед Цезарем, и, вполне основательно,возмущается этим толкованием [6]; можно себе представить, какое негодованиевызвали бы у него те из наших современников, которые приписываютсамоубийство Катона его честолюбию! Глупцы! Он совершил бы прекрасное,благородное и возвышенное деяние даже в том случае, если бы его ожидал заэто позор, а не слава. Этот человек был, поистине, образцом, избраннымприродой для того, чтобы показать нам, каких пределов могут достигнутьчеловеческая добродетель и твердость [7].
Я не буду пытаться исчерпать здесь эту благородную тему. Мне хочется,однако, устроить своего рода соревнование между стихами пяти латинскихпоэтов, восхвалявших Катона и этим поставивших памятник не только ему, но, визвестном смысле, и самим себе. Всякий мало-мальски развитой ребенокзаметит, что первые два из высказываний, по сравнению с остальными, немногохромают, а третье, хотя и будет покрепче, именно в силу избытка своей силыотличается некоторой сухостью; словом, целая ступень, или даже две,поэтического совершенства отделяют их от четвертого, прочитав которое,всякий всплеснет руками от восхищения. Наконец, прочитав последнее или,лучше сказать, первое, идущее впереди всех остальных на известномрасстоянии, на таком, однако, что, готов поклясться, его не заполнитьникаким усилием человеческого ума, — он будет поражен, он замрет отвосторга.
Но странная вещь: у нас больше поэтов, чем истолкователей и судейпоэзии. Творить ее легче, чем разбираться в ней. О поэзии, не превышающейизвестного, весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписанийи правил поэтического искусства. Но поэзия прекрасная, выдающаяся,божественная — выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловитьее красоту твердым и уверенным взглядом, может разглядеть ее не более, чемсверкание молнии. Она нисколько не обогащает наш ум; она пленяет иопустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайнытакой поэзии, заражает и тех, кто слушает, как рассуждают о ней или читаютее образцы; тут то же самое, что с магнитом, который не только притягиваетиглу, но и передает ей способность притягивать в свою очередь другие иглы. Ивсего отчетливее это заметно в театре. Мы видим, как священное вдохновениемуз, ввергнув сначала поэта в гнев, скорбь, ненависть, самозабвение, во все,что им будет угодно, потрясает затем актера через посредство поэта и,наконец, зрителей через посредство актера. Это целая цепь наших магнитныхигл, висящих одна на другой. С самого раннего детства поэзия приводила меняв упоение и пронизывала все мое существо. Но заложенная во мне самойприродой восприимчивость к ней с течением времени все обострялась исовершенствовалась благодаря знакомству со всем ее многообразием — я имею ввиду не то, чтобы поэзию прекрасную и дурную (ибо я избирал всегда наиболеевысокие образцы в каждом поэтическом роде), а различие в ее оттенках;вначале это была веселая и искрометная легкость, затем возвышенная иблагородная утонченность и, наконец, зрелая непоколебимая сила. Примерыскажут об этом еще яснее: Овидий, Лукан, Вергилий. Но вот мои поэты, — пустькаждый говорит за себя.
- Sit Cato, dum vivit, sane vel Caesare maior,- [8]
заявляет один.
- Et invictum, devicta morte, Catonem,- [9]
вспоминает другой.
Третий, касаясь гражданских войн между Цезарем и Помпеем, говорит:
- Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. [10]
Четвертый, воздав хвалу Цезарю, добавляет:
- Et cuncta terrarum subacta,
- Praeter atrocem animum Catonis. [11]
И, наконец, корифей этого хора, перечислив всех наиболее прославленныхримлян, которых он изобразил на своей картине, заканчивает именем Катона:
- His dantem iura Catonem. [12]
Глава XXXVIII
О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же
Читая в исторических сочинениях о том, что Антигон разгневался насвоего сына, когда тот поднес ему голову врага его, царя Пирра, только чтоубитого в сражении с его войсками, и что, увидев ее, Антигон заплакал [1],или что герцог Рене Лотарингский также оплакал смерть герцога КарлаБургундского [2], которому он только что нанес поражение, и облачился на егопохоронах в траур, или что в битве при Оре [3], которую граф де Монфор выигралу Шарля де Блуа, своего соперника в борьбе за герцогство Бретонское,победитель, наткнувшись на тело своего умершего врага, глубоко опечалился, —давайте воздержимся от того, чтобы воскликнуть:
- Et cosi avven che l’animo ciascuna
- Sua passion sotto’l contrario manto
- Ricopre, con la vista or’chiara, or bruna. [4]
Историки сообщают, что, когда Цезарю поднесли голову Помпея, онотвратил от него взор, как от ужасного и тягостного зрелища [5]. Между нимитак долго царило согласие, они так долго сообща управляли государственнымиделами, их связывали такая общность судьбы, столько взаимных услуг исовместных деяний, что нет никаких оснований полагать, будто поведениеЦезаря было не более, как притворством, хотя такого мнения придерживаетсяавтор следующих стихов:
- tutumque putavit
- Iam bonus esse socer: lacrimas non sponte cadentes
- Effudit, gemitusque expressit pectore laeto. [6]
Ибо хотя большинство наших поступков и в самом деле не что иное, какмаска и лицемерие, и поэтому иногда вполне соответствует истине, что
- Haeredis fletus sub persona risus est, [7]
все же, размышляя по поводу вышеприведенных случаев, нужно учитывать,до чего часто нашу душу раздирают противоположные страсти. В нашем теле,говорят врачи, существует целый ряд различных соков, среди которыхгосподствующим является тот, который обычно преобладает в нас в зависимостиот нашего телосложения; так и в нашей душе: сколько бы различных побужденийни волновало ее, среди них есть такое, которое неизменно одерживает верх.Впрочем, его победа никогда не бывает настолько решительной, чтобы, из-заподатливости и изменчивости нашей души, более слабые побуждения неотвоевывали себе при случае места и не добивались, в свою очередь,кратковременного преобладания. Именно по этой причине одна и та же вещь, какмы видим, может заставить и смеяться и плакать не только детей, снепосредственностью следующих во всем природе, но зачастую и нас самих; всамом деле, ведь ни один из нас не может похвастаться, что, отправляясь впутешествие, сколь бы желанным оно для него ни было, и отрываясь от семьи идрузей, он не чувствовал бы, что у него щемит сердце; и, если у него тут жене выступят слезы, все же он будет вдевать ногу в стремя с лицом, по меньшеймере, унылым и опечаленным. И как бы ни согревало нежное пламя сердцеблагонравной девицы, ее приходится, можно сказать, насильно вырывать изобъятий матери, дабы вручить супругу, что бы ни говорил на этот счет нашдобрый приятель Катулл:
- Est ne novis nuptis odio Venus, anne parentum
- Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,
- Ubertim thalami quas intra limina fundunt?
- Non, ita me divi, vera gemunt, iuverint. [8]
Итак, нет ничего удивительного, что иной оплакивает смерть человека,которого он вовсе не желал бы видеть живым.
Когда я браню моего слугу, я браню его от всего сердца, и проклятия моиискренние, а не притворные; но пусть только уляжется мое раздражение, и утого же слуги будет нужда во мне, я охотно сделаю все, что в моих силах, какни в чем не бывало. Когда я называю его болваном или ослом, у меня нет и вмыслях прилепить к нему навсегда эти прозвища, и я не считаю, чтопротиворечу себе, когда, через короткое время, называю его славным малым.Нет таких качеств, которые целиком и полностью господствовали бы в нас. Еслибы разговаривать с самим собой не было свойством сумасшедших, то каждый деньможно было слышать, как я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. И все же я несчитаю, что это слово точно определяет мою сущность.
Глупцом был бы тот, кто, видя меня то равнодушным, то влюбленным возлемоей жены, счел бы, что я притворяюсь в обоих случаях. Нерон, прощаясь сматерью, когда ее уводили, чтобы по его приказанию утопить, испытал все жепри этом сыновнее чувство; он содрогнулся и пожалел ее! [9]
Говорят, что солнечный свет не представляет собой чего-то сплошного, ночто солнце настолько часто мечет свои лучи один за другим, что мы не всостоянии заметить промежутки, которые их отделяют:
- Largus enim liquidi fons luminis, aetherius sol
- Inrigat assidue coelum candore recenti,
- Suppeditatque novo confestim lumine lumen [10]
так и наша душа испускает различные лучи с неуловимыми переходами отодного из них к другому.
Артабан, заметив однажды внезапную перемену в выражении лица своегоплемянника Ксеркса, пожурил его за это. Ксеркс в это время смотрел нанесметные полчища, переправлявшиеся через Геллеспонт, чтобы вторгнуться вГрецию. При виде стольких тысяч подвластных ему людей, он затрепетал отудовольствия, и на лице его появилось выражение торжества. Но вдруг в то жемгновение ему пришла в голову мысль, что не пройдет и ста лет, как из всегоэтого великого множества не останется в живых ни одного человека, — и тут начело его набежали морщины и он огорчился до слез.
Мы, не колеблясь, отомстили за нанесенное нам оскорбление и испыталиглубокое удовлетворение, добившись своего; и вдруг мы залились слезами.Разумеется, не успех побудил нас заплакать, и все осталось по-прежнему; нодуша наша смотрит теперь на дело другими глазами, и оно представляется ей вновом обличий, ибо всякая вещь многообразна и многоцветна. Теперь нашимвоображением овладели воспоминания о родственных связях, давнем знакомстве идружбе, и, в зависимости от их яркости, оно оказывается потрясено ими; нотолько образы эти проносятся в нашем сознании так стремительно, что мы не всостоянии задержаться на них:
- Nil adeo fieri celeri ratione videtur
- Quam si mens fieri proponit et inchoat ipsa.
- Ocius ergo animus quam res se perciet ulla,
- Ante oculos quarum in promptu natura videtur. [11]
И по этой причине, желая объединить все эти последовательныепереживания в нечто цельное, мы впадаем в ошибку. Когда Тимолеон оплакиваетубийство, совершенное им после возвышенного и зрелого размышления, оноплакивает не свободу, возвращенную его деянием родине, он оплакивает нетирана, нет, он оплакивает брата [12]. Часть своего долга он выполнил,предоставим же ему выполнить и другую.
Глава XXXIX
Об уединении
Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединенной и жизнидеятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которымприкрываются честолюбие и стяжательство, а именно: «Мы рождены не для себя,но для общества», то пусть его твердят те, кто без стеснения пляшет со всемидругими под одну дудку. Но если у них есть хоть крупица совести, они должныбудут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишуройони гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорей ради того, чтобыизвлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощьюкоторых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели такжене стоят доброго слова. А честолюбию давайте ответим, что оно-то и прививаетнам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и кчему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметьруки свободными? Добро и зло можно творить повсюду: впрочем, еслисправедливы слова Бианта, что «большая часть — это всегда наихудшая» [1],или также Экклезиаста, что «и в целой тысяче не найти ни одного доброго», —
- Rari quippe boni: numero vix sunt totidem, quot
- Thebarum portae, vel divitis ostia Nili [2]
то в этой толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людямпорочным, или же ненавидеть их. И то и другое опасно: и походить на них, ибоих превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас непохожи.
Купцы, отправляясь за море, имеют все основания приглядываться к своимпопутчикам на корабле, не развратники ли они, не богохульники ли, не злодеили, считая, что подобная компания приносит несчастье. Вот почему Биант,обратившись к тем, которые, будучи с ним на море во время разыгравшейсябури, молили богов об избавлении от опасности, шутливо сказал: «Помолчите,чтобы боги не заметили, что и вы здесь вместе со мной!»
Еще убедительнее пример Альбукерке [3], вице-короля Индии вцарствование португальского короля Мануэля. Когда кораблю, на котором оннаходился, стала угрожать близкая гибель, он посадил себе на плечи мальчика,с той единственной целью, чтобы этот невинный ребенок, судьбу которого онсвязал со своей, помог ему снискать и обеспечил милость всевышнего, и темсамым спас бы их от гибели.
Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в своеудовольствие где угодно, чувствуя себя одиноким даже среди толпы придворных;но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постаралсябы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажетсянеобходимым, но если дело будет зависеть от него самого, он выберетсовершенно иное. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился отпороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных.
Харонд карал как преступников даже тех, кто был уличен, что он водитсяс дурными людьми. И нет другого существа, которое было бы столь женеуживчиво и столь же общительно, как человек: первое — по причине егопороков, второе — в силу его природы.
И Антисфен, когда кто-то упрекнул его в том, что он общается с дурнымилюдьми, ответил, по-моему, не вполне убедительно, сославшись на то, что иврачи проводят жизнь среди больных. Дело в том, что, заботясь о здоровьебольных, врачи, бесспорно, наносят ущерб своему собственному, поскольку онипостоянно соприкасаются с больными и имеют дело с ними, подвергая себяопасности заразиться.
Цель, как я полагаю, всегда и у всех одна, а именно жить свободно инезависимо; но не всегда люди избирают правильный путь к ней. Часто онидумают, что удалились от дел, а оказывается, что только сменили одни надругие. Не меньшая мука управлять своею семьей, чем целым государством: ведьесли что-нибудь тяготит душу, она уже полностью отдается этому; и хотяхозяйственные заботы не столь важны, все же они изрядно докучливы. Сверхтого, отделавшись от двора и городской площади, мы не отделались от основныхи главных мучений нашего существования:
- ratio et prudentia curas,
- Non locus effusi late maris arbiter, aufert. [4]
Честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделения не покидаютнас с переменой места.
- Et post equitem sedet atra cura. [5]
Они преследуют нас нередко даже в монастыре, даже в убежище философии.Ни пустыни, ни пещеры в скалах, ни власяницы, ни посты не избавляют от них:
- haeret lateri letalis arundo. [6]
Сократу сказали о каком-то человеке, что путешествие нисколько его неисправило. «Охотно верю, — заметил на это Сократ. — Ведь он возил с собойсебя самого».
- Quid terras alio calentes
- Sole mutamus? patria quis exul
- Se quoque fugit? [7]
Если не сбросить сначала со своей души бремени, которое ее угнетает, то вдорожной тряске она будет еще чувствительней. Ведь так же и с кораблем: емулегче плыть, когда груз на нем хорошо уложен и закреплен. Вы причиняетебольному больше вреда, чем пользы, заставляя его менять положение; шевеляего, вы загоняете болезнь внутрь. Чем больше мы раскачиваем воткнутые вземлю колья и нажимаем на них, тем глубже они уходят в почву и увязают вней. Недостаточно поэтому уйти от людей, недостаточно переменить место,нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой изатем обрести себя заново.
- Rupi iam vincula dicas:
- Nam luctata canis nodum arripit; attamen illi,
- Cum fugit, a collo trahitur pars longa catenae. [8]
Мы волочим за собой свои цепи; здесь нет еще полной свободы — мыобращаем свой взор к тому, что оставили за собой, наше воображение ещезаполнено им;
- Nisi purgatum est pectus, quae proelia nobis
- Atque pericula tunc ingratis insinuandum?
- Quantae conscindunt hominem cuppedinis acres
- Sollicitum curae, quantique perinde timores?
- Quidve superbia, spurcitia, ac petulantia, quantas
- Efficiunt clades, quid luxus desidiesque? [9]
Зло засело в нашей душе, а она не в состоянии бежать от себя самой:
- In culpa est animus qui se non effugit unquam [10].
Итак, ей нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинноеуединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов и при дворахкоролей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. А размы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, сделаем так, чтобынаша удовлетворенность или неудовлетворенность зависели всецело от нас;освободимся от всех уз, которые связывают нас с ближними; заставим себясознательно жить в одиночестве, и притом так, чтобы это доставляло намудовольствие.
Стильпону удалось спастись от пожара, опустошившего его родной город;но в огне погибли его жена, дети и все его имущество. Встретив его и непрочитав на его лице, несмотря на столь ужасное бедствие, постигшее егородину, ни испуга, ни потрясения, Деметрий Полиоркет [11] задал ему вопрос,неужели он не потерпел никакого убытка. На это Стильпон ответил, что делообошлось без убытков и ничего своего, благодарение бога, он не потерял. Тоже выразил философ Антисфен в следующем шутливом совете: «Человек должензапасать только то, что держится на воде и в случае кораблекрушения можетвместе с ним вплавь добраться до берега» [12].
И действительно, мыслящий человек ничего не потерял, пока он владеетсобой. После разрушения варварами города Нолы тамошний епископ Павлин,потеряв все и попав в плен к победителям, обратился к богу с такой молитвой:«Господи, не дай мне почувствовать эту потерю; ибо ничего из моего, как тебеведомо, они пока что не тронули». Те богатства, которые делали его богатым,и то добро, которое делало его добрым, остались целыми и невредимыми.
Вот что значит умело выбирать для себя сокровища, которые невозможнопохитить, и укрывать их в таком тайнике, куда никто не может проникнуть, такчто выдать его можем только мы сами. Надо иметь жен, детей, имущество и,прежде всего, здоровье, кому это дано: но не следует привязываться ко всемуэтому свыше меры, так, чтобы от этого зависело наше счастье. Нужно приберечьдля себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш, всегда к нашимуслугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное нашеприбежище, где мы могли бы уединяться. Здесь и подобает нам вести внутренниебеседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметьдоступа ни наши приятели, ни посторонние; здесь надлежит нам размышлять ирадоваться, забывая о том, что у нас есть жена, дети, имущество, хозяйство,слуги, дабы, если случится, что мы потеряем их, для нас не было бы чем-тонеобычным обходиться без всего этого. Мы обладаем душой, способной общатьсяс собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть на что нападатьи от чего защищаться, что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что вэтом уединении мы будем коснеть в томительной праздности:
- in solis sis tibi turba locis. [13]
Добродетель, говорит Антисфен, довольствуется собой: она не нуждаетсяни в правилах, ни в воздействии со стороны.
Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, которыймы совершали бы непосредственно ради себя. Посмотри: вот человек, которыйкарабкается вверх по обломкам стены, разъяренный и вне себя, будучи мишеньюдля выстрелов из аркебуз; а вот другой, весь в рубцах, изможденный, бледныйот голода, решивший скорее подохнуть, но только не отворить городские воротапервому. Считаешь ли ты, что они здесь ради себя? Они здесь ради того, когоникогда не видели, кто нисколько не утруждает себя мыслями об их подвигах,утопая в это самое время в праздности и наслаждениях. А вот еще один:харкающий, с гноящимися глазами, неумытый и нечесаный, он покидает далеко заполночь свой рабочий кабинет: думаешь ли ты, что он роется в книгах, чтобыстать добродетельнее, счастливее и мудрее? Ничуть не бывало. Он готовзамучить себя до смерти, лишь бы поведать потомству, каким размером писалсвои стихи Плавт, или как правильнее пишется такое-то латинское слово. Ктобы не согласился с превеликой охотой отдать свое здоровье, покой или самуюжизнь в обмен на известность и славу — самые бесполезные, ненужные ифальшивые из всех монет, находящихся у нас в обращении? Нам мало страха засвою жизнь, так давайте же трепетать еще за жизнь наших жен, детей,домочадцы! Нам мало хлопот с нашими собственными делами, так давайте жемучиться и ломать себе голову из-за дел наших друзей и соседей!
- Vah! quemquamne hominem in animum instituere aut
- Parare, quod sit carius quam ipse est sibi? [14]
Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех,кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы, как этосделал, скажем, Фалес.
Мы пожили достаточно для других, проживем же для себя хотя бы остатокжизни. Сосредоточим на себе и на своем собственном благе все наши помыслы инамерения! Ведь нелегкое дело — отступать, не теряя присутствия духа; всякоеотступление достаточно хлопотливо само по себе, чтобы прибавлять к этому ещедругие заботы. Когда господь дает нам возможность подготовиться к нашемупереселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимсязаблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которыесвязывают нас с внешним миром и отдаляют от самих себя. Нужно разорвать этина редкость крепкие связи. Можно еще любить то или другое, но не связываясебя до конца с чем-либо, кроме себя самого. Иначе говоря: пусть все будетпо-прежнему близко нам, но пусть оно не сплетается и не срастается с нами дотакой степени прочно, чтоб нельзя было отделить от нас, не ободрав у наскожу и не вырвав заодно еще кусок мяса. Самая великая вещь на свете — этовладеть собой.
Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как намбольше нечего предложить ему. И кто не может ссужать, тот не должен и братьвзаймы. Мы теряем силы; соберем же их и прибережем для себя. Кто способенпренебречь обязанностями, возлагаемыми на него дружбой и добрымиотношениями, и начисто вычеркнуть их из памяти, пусть сделает это! Но емунужно остерегаться, как бы в эти часы заката, который превращает его вненужного, тягостного и докучного для других, он не стал бы докучным и длясебя самого, а также тягостным и ненужным. Пусть он нежит и ублажает себя,но, главное, пусть управляет собой, относясь с почтением и робостью к своемуразуму и своей совести, — так, чтобы ему не было стыдно взглянуть им вглаза. Rarum est enim ut satis se quisque vereatur [15].
Сократ говорил, что юношам подобает учиться, взрослым — упражняться вдобрых делах, старикам — отстраняться от всяких дел как гражданских, так ивоенных и жить по своему усмотрению без каких-либо определенных обязанностей [16].
Есть люди такого темперамента, что им легко дается соблюдение правилуединенной жизни. Натуры, чувства которых ленивы и вялы, а воля и страсти неотличаются большой пылкостью, вследствие чего они нелегко подчиняются им,увлекаются чем-либо, — таков и я, например, и по природному складухарактера, и по моим убеждениям, — такие натуры скорее и охотнее примут этотсовет, нежели души деятельные и живые, стремящиеся охватить решительно все,вмешивающиеся во все, увлекающиеся всем, что бы ни попалось на глаза,предлагающие и себя и свои услуги во всех случаях жизни и готовые взяться залюбое дело. Следует пользоваться случайными и не зависящими от насудобствами, которые дарует нам жизнь, раз они доставляют нам удовольствие,но не следует смотреть на них как на главное в нашем существовании; это нетак, и ни разум, ни природа не хотят этого. К чему, вопреки законам ее,ставить в зависимость удовлетворенность или неудовлетворенность нашей душиот вещей, зависящих не от нас? Предвосхищать возможные удары судьбы, лишатьсебя тех удобств, которыми мы можем располагать, — как это делали многие изблагочестия, а некоторые философы — в соответствии со своими воззрениями, —отказываться от помощи слуг, спать на голых досках, выкалывать себе глаза,выбрасывать свое богатство в реку, искать страданий (первые — для того,чтобы мучениями в этой жизни снискать блаженство в грядущей, вторые — чтобы,спустившись на самую нижнюю ступень лестницы, обезопасить себя от паденияеще ниже) — это чрезмерные проявления добродетели. Превращать же свой тайникв источник собственной славы и в образец для других — пусть этим занимаютсядругие, те, которые тверже и крепче:
- tuta et parvula laudo,
- Cum res deficiunt, satis inter vilia fortis:
- Verum ubi quid melius contingit et unctius, idem
- Hos sapere, et solos aio bene vivere, quorum
- Conspicitur nitidis fundata pecunia villis. [17]
Что до меня, то мне хватает и своих дел, чтобы не забираться такдалеко. Мне более чем достаточно, пока судьба дарит меня своейблагосклонностью, подготовлять себя к ее неблагосклонности и, пребывая вблагополучии, представлять себе настолько мрачное будущее, насколько хватаетмоего воображения, — наподобие того, как мы приучаем себя к фехтованию итурнирам, играя в войну среди нерушимого мира.
Философ Аркесилай [18] нисколько не теряет в моем уважении из-за того,кто употреблял, как известно, золотую и серебряную посуду, поскольку емупозволяло это его состояние; и он внушает мне тем большее уважение, что нелишил себя всех этих благ, но пользовался ими с умеренностью и отличался,вместе с тем, неизменной щедростью.
Я вижу, до чего ограниченны естественные потребности человека; и, глядяна беднягу-нищего у моей двери, часто гораздо более жизнерадостного издорового, чем я сам, я мысленно ставлю себя на его место, стараюсьпочувствовать себя в его шкуре. И хоть я превосходно знаю, что смерть,нищета, презрение и болезни подстерегают меня на каждом шагу, все же,вспоминая о таком нищем и о многом другом в этом же роде, я убеждаю себя непроникаться ужасом перед тем, что стоящий ниже меня принимает с такимтерпением. Я не могу заставить себя поверить, чтобы неразвитый ум могсотворить большее, чем ум сильный и развитой, а также, чтобы с помощьюразмышления нельзя было достигнуть того же, что достигается простойпривычкой. И зная, насколько ненадежны эти второстепенные жизненныеудобства, я, живя в полном достатке, неустанно обращаюсь к богу с главнейшеймоею просьбой, а именно, чтобы он даровал мне способность довольствоватьсясамим собою и благами, порождаемыми мною самим. Я знаю цветущих юношей,которые постоянно держат в своем ларце множество разных пилюль на случайпростуды, и, полагая, что обладают средством против нее, меньше опасаютсяэтой болезни. Нужно подражать им в этом, а кроме того, если вы подверженыкакой-нибудь более серьезной болезни, вам следует обзавестись такимилекарствами, которые унимают боль и усыпляют пораженные органы.
При подобном образе жизни должно избрать для себя такое занятие,которое не было бы ни слишком хлопотливым, ни слишком скучным; в противномслучае, не к чему было устраивать себе уединенное существование. Это зависитот личного вкуса; что до моего, то хозяйство ему явно не по нутру. Кто желюбит его, пусть и занимается им, но отнюдь не чрезмерно:
- Conentur sibi res, non se submittere rebus. [19]
В противном случае это увлечение хозяйственными делами превратится, пословам Саллюстия [20], в своего рода рабство. Есть тут отрасли и болееблагородные, например плодоводство, пристрастие к которому Ксенофонтприписывал Киру [21]. Вообще же здесь можно найти нечто среднее между низкой ижалкой озабоченностью, связанных с вечной спешкой, которые мы наблюдаем утех, кто уходит во всякое дело с головой, и глубоким, совершеннейшимравнодушием, допускающим, чтобы все приходило в упадок, как мы это наблюдаему некоторых:
- Democriti pecus edit agellos
- Cultaque, dum peregre est animus sine corpore velox. [22]
Но выслушаем совет, который дает по поводу все того же уединенногообраза жизни Плиний Младший своему другу Корнелию Руфу: «Я советую тебепоручить своим людям эти низкие и отвратительные хлопоты по хозяйству, ивоспользовавшись своим полным и окончательным уединением, целиком отдатьсянаукам, чтобы оставить после себя хоть крупицу такого, что принадлежало бытолько тебе» [23]. Он подразумевает здесь славу, совсем так же, как иЦицерон, заявляющий, что он хочет использовать свой уход от людей иосвобождение от общественных дел, дабы обеспечить себе своими творениямивечную жизнь [24]:
- usque adeone
- Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter. [25]
Это, мне кажется, было бы вполне правильно, если бы речь шла о том,чтобы уйти из мира, рассматривая его как нечто, находящееся вне тебя;названные же мною авторы делают это только наполовину. Они задумываются надтем, что будет, когда их самих больше не будет; но тут получается забавноепротиворечие, ибо плоды своих намерений они рассчитывают пожать в этом мире,однако лишь тогда, когда они сами будут уже за его пределами. Гораздо болеездравыми представляются мне соображения тех, кто ищет уединения изблагочестия, поддерживая в себе мужество верой в будущую жизнь, котораяпринесет им осуществление обещанного нам богом. Они отдают себя богу,существу бесконечному и в благости и в могуществе; и перед душой открываетсянеобозримый простор для осуществления ее чаяний. И болезни и страданияприносят им пользу, ибо через них они добывают себе вечное здоровье и вечноенаслаждение; и даже смерть представляется им желанною, ибо она — переход кэтому совершенному состоянию. Суровость их дисциплины благодаря привычкевскоре перестает казаться им тягостной, их плотские вожделения, будучиподавляемы, успокаиваются и замирают, ибо они поддерживаются в насисключительно тем, что мы беспрепятственно удовлетворяем их. Этаединственная их цель, — блаженная и бессмертная жизнь — и в самом делезаслуживает того, чтобы отказаться ради нее от радостей и утех нашегобренного существования. И кто может зажечь в своей душе пламя этой живойверы, а также надежды, по-настоящему и навсегда, тот создает себе и впустыне жизнь, полную наслаждений и радостей, превышающих все, чего можнодостигнуть при всяком ином образе жизни.
Итак, ни цель, ни средства, которые предлагает Плиний, не удовлетворяютменя; следуя ему, мы лишь попадаем из огня да в полымя. Эти книжные занятиястоль же обременительны, как все прочее, и столь же вредны для здоровья,которое должно быть главной нашей заботой. И никоим образом нельзядопускать, чтобы удовольствие, доставляемое нашими занятиями, затмило всеостальное: ведь это то самое удовольствие, которое губит жадного хозяина,стяжателя, сладострастника и честолюбца. Мудрецы затратили немало усилий,чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей и научить отличатьистинные, полновесные удовольствия от таких, к которым примешиваются заботыи которые омрачены ими. Ибо большинство удовольствий, по их словам, щекочети увлекает нас лишь для того, чтобы задушить до смерти, как это делали теразбойники, которых египтяне называли филетами. И если бы головная больначинала нас мучить раньше опьянения, мы остерегались бы пить через меру. Нонаслаждение, чтобы нас обмануть, идет впереди, прикрывая собой своихспутников. Книги приятны, но если, погрузившись в них, мы утрачиваем, вконце концов, здоровье и бодрость — самое ценное достояние наше, — то нелучше ли оставить и их. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что польза отних не может возместить эту потерю. Подобно тому как люди, ослабленныедлительным недомоганием, отдают себя в конце концов в руки врачей исоглашаются подчинить свою жизнь некоторым предписанным ими правилам,которые и стараются не преступать, так и тому, кто усталый и разочарованный,покидает людей, надлежит устроить для себя жизнь согласно правилам разума,упорядочить ее и соразмерить, предварительно все обдумав. Он долженраспрощаться с любым видом труда, каков бы он ни был; и, вообще, он долженостерегаться страстей, нарушающих наш телесный и душевный покой; он долженизбрать для себя тот путь, который ему больше всего по душе:
- Unusquisque sua noverit ire via [26].
Занимаетесь ли вы хозяйством, науками, охотой или чем-либо иным, выдолжны отдаваться этому не дальше предела, где кончается удовольствие;берегитесь увлечься и устремиться вперед, туда, где к удовольствиюпримешивается усилие. Нужно предаваться занятиям и заботам лишь настолько,насколько это необходимо, чтобы сохранять бодрость и обезопасить себя отнеприятностей, порождаемых противоположною крайностью, а именно, вялым исонным бездельем. Есть науки бесплодные и бесполезные, и большинство из нихсоздано ради житейской суеты; их следует предоставить тем, кто занятмирскими делами. Что до меня, то я люблю лишь развлекательные и легкие книгилибо те, которые возбуждают мое любопытство, либо те, которые утешают меняили советуют, как упорядочить мою жизнь и мою смерть:
- tacitum silvas inter reptare salubres
- Curantem quidquld dignum sapiente bonoque est. [27]
Люди более мудрые, обладая душою мужественной и сильной, способнысохранять душевное спокойствие, независимо от всего прочего. Но так как душау меня самая обыкновенная, мне приходится поддерживать ее телеснымиудовольствиями; и поскольку возраст отнимает у меня те из них, которые былимне больше всего по вкусу, я приучаю себя острее воспринимать другие, болеесоответствующие этой новой поре моей жизни. Нужно вцепиться и зубами икогтями в те удовольствия жизни, которые годы вырывают у нас одно за другим:
- carpamus dulcia: nostrum est
- Quod vivis: cinis et manes et fabula fies. [28]
Что до славы, предлагаемой нам Цицероном и Плинием в качестве нашейцели, то я очень далек от подобных стремлений. Честолюбие несовместимо суединением. Слава и покой не могут ужиться под одной крышей. Сколько я вижу,оба названных мною писателя унесли из житейской толчеи только руки да ноги;душой же и помыслами они погрязли в ней еще глубже, чем когда-либо прежде:
- Tun, vetule, auriculis alienis colligis escas? [29]
Они всего-навсего лишь отступили немного назад, чтобы прыгнуть дальше илучше, чтобы, напрягшись, как следует, рвануться в самую гущу толпы. Хотитеубедиться, насколько легковесны их рассуждения? Сопоставим мнения двухфилософов [30],принадлежащих к совершенно различным школам и пишущих, один —Идоменею, другой — Луцилию, их друзьям, убеждая их отказаться от дел ипочестей и уединиться от мира. Вы жили, говорят они, до этого времени,плавая и носясь по волнам, — так доберитесь, наконец, до гавани, чтобы тамумереть. Всю свою жизнь они отдали свету — проведите остаток ее в тени.Невозможно отрешиться от дел, не отрешившись от их плодов; по этой причинеоставьте заботу о своем имени и о славе. Есть опасность, что блеск вашихбылых деяний осеняет вас слишком ярким ореолом и не покинет вас и в вашемубежище. Откажитесь вместе со всеми прочими наслаждениями и от того, котороевы испытываете, когда вас одобряют другие; а что касается ваших знаний иваших талантов, то не тревожьтесь о них; они не утратят своего значенияоттого, что вы сами сделаетесь более достойными их. Вспомните человека,который на вопрос, зачем он тратит столько усилий, постигая искусство,недоступное большинству людей, ответил: «С меня довольно очень немногих, сменя довольно и одного, с меня довольно, если даже не будет ни одного». Онговорил сущую правду. Вы и хотя бы еще один из ваших друзей — это уже целыйтеатр для вас обоих, и даже вы один — театр для себя самого. Пусть целыйнарод будет для нас «одним» и этот «один» — целым народом. Желание извлечьславу из своей праздности и своего затворничества — это суетное тщеславие.Нужно поступать так, как поступают дикие звери, заметающие следы у входа всвою берлогу. Вам не следует больше стремиться к тому, чтобы о вас говорилвесь мир; достаточно и того, чтобы вы сами могли говорить с собой о себе.Удалитесь в себя, но позаботьтесь сначала о том, чтобы сделать этоподобающим образом; было бы безумием довериться себе, если вы не умеетесобою управлять. Можно ошибаться в уединении так же, как и в обществеподобных себе. Пока вы не сделаетесь таким, перед которым не посмеетеотступиться, и пока не будете внушать себе самому почтение и легкий трепет, — observentur species honestae animo [31], — помните всегда о Катоне, Фокионе [32] иАристиде, в присутствии которых даже безумцы старались скрыть своизаблуждения, и изберите их судьями всех своих помыслов; если эти последниепойдут по кривому пути, уважение к названным героям возвратит вас направильный путь. Они поддержат вас на нем, они помогут вам довольствоватьсясамим собой, ничего не заимствовать ни у кого, кроме как у самого себя,сосредоточить и укрепить свою душу на определенных и строго ограниченныхразмышлениях, таких, где она сможет находить для себя усладу и, познав,наконец, истинные блага, наслаждение которыми усиливается по мере познанияих, удовольствоваться всем этим, не желая ни продления жизни, ниувековечения своего имени. Вот совет истинной и бесхитростной философии, ане болтливой и показной, как у первых двух упомянутых мной мыслителей.
Глава XL
Рассуждение о Цицероне
Вот еще одна черта, полезная для сравнения двух этих пар. ПроизведенияЦицерона и Плиния (на мой взгляд очень мало походившего по складу ума насвоего дядю) представляют собой бесконечный ряд свидетельств о чрезмерномчестолюбии их авторов. Между прочим, всем известно, что они добивались отисториков своего времени, чтобы те не забывали их в своих произведениях.Судьба же, словно в насмешку, донесла до нашего времени сведения об этихдомогательствах, а самые повествования давным-давно предала забвению. Но чтопереходит все пределы душевной низости в людях, занимавших такое положение,так это стремление приобрести высшую славу болтовней и краснобайством,доходящее до того, что для этой цели они пользовались даже своими частнымиписьмами к друзьям, причем и в тех случаях, когда письмо своевременно небыло отправлено, они все же предавали его гласности с тем достойнымизвинением, что не хотели, мол, даром потерять затраченный труд и часыбдения. Подобало ли двум римским консулам, верховным должностным лицамгосударства, повелевающего миром, употреблять свои досуги на тщательноеотделыванье красивых оборотов в письме, для того чтобы прославиться хорошимзнанием языка, которому их научила нянька? Разве хуже писал какой-нибудьшкольный учитель, зарабатывавший себе этим на жизнь? Не думаю, чтобыКсенофонт или Цезарь стали описывать свои деяния, если бы эти деяния непревосходили во много раз их красноречие. Они старались прославиться несловами, а делами. И если бы совершенство литературного слога могло принестикрупному человеку завидную славу, наверно Сципион и Лелий не уступили бычести создания своих комедий, блещущих красотами и тончайшими оттенкамилатинского языка, на котором они написаны, рабу родом из Африки [1]: красотаи совершенство этих творений говорят о том, что они принадлежат им, да и самТеренций признает это. И я возражал бы против всякой попытки разубедить меняв этом.
Насмешкой и оскорблением является стремление прославить человека за текачества, которые не подобают его положению, хотя бы они сами по себе былидостойны похвалы, а также за те, которые для него не наиболее существенны,как, если бы, например, прославляли какого-нибудь государя за то, что онхороший живописец или хороший зодчий, или метко стреляет из аркебузы, илибыстро бегает наперегонки. Подобные похвалы приносят честь лишь в томслучае, если они присоединяются к другим, прославляющим качества, важные вгосударе, а именно — его справедливость и искусство управлять народом в днимира и во время войны. Так, в этом смысле Киру приносят честь его познания вземледелии, а Карлу Великому — его красноречие и знакомство с изящнойлитературой. Мне приходилось встречать людей, для которых уменье владетьпером было признанием, обеспечившим им высокое положение, но которые, тем неменее, отрекались от своего искусства, нарочно портили свой слог, и щеголялитаким низменным невежеством, которое наш народ считает невозможным у людейобразованных; они старались снискать уважение, избрав для себя более высокоепоприще.
Сотоварищи Демосфена, вместе с ним отправленные послами к Филиппу,стали восхвалять этого царя за его красоту, красноречие и за то, что онмастер выпить. Демосфен же нашел, что такие похвалы больше подходят женщине,стряпчему и хорошей губке, но отнюдь не царю.
- Imperet bellante prior, iacentem
- Lenis in hostem. [2]
Не его дело быть хорошим охотником или плясуном,
- Orabunt causas alii, coelique meatus
- Describent radio, et fulgentia sidera dicent;
- Hic regere imperio populos sciat. [3]
Более того, Плутарх говорит, что обнаруживать превосходное знаниевещей, не столь уж существенных, это значит вызывать справедливые нареканияв том, что ты плохо использовал свои досуги и недостаточно изучал вещи,более нужные и полезные [4]. Филипп, царь македонский, услышав однажды напиру своего сына, великого Александра, который пел, вызывая завистьпрославленных музыкантов, сказал ему: «Не стыдно ли тебе так хорошо петь?»Тому же Филиппу некий музыкант, с которым он вступил в спор об искусстве,заметил: «Да не до пустят боги, государь, чтобы тебе когда-либо выпалонесчастье смыслить во всем этом больше меня».
Царь должен иметь возможность ответить так, как Ификрат ответилоратору, который бранил его в своей речи: «А ты кто такой, чтобы такхрабриться? Воин? Лучник? Копьеносец?» — «Я ни то, ни другое, ни третье, ноя тот, кто умеет над ними всеми начальствовать».
И Антисфен считал доказательством ничтожности Исмения тообстоятельство, что его хвалили как отличного флейтиста [5].
Когда я слышу о тех, кто толкует о языке моих «Опытов», должен сказать,я предпочел бы, чтобы они помолчали, ибо они не столько превозносят мойслог, сколько принижают мысли, и эта критика особенно досадна, потому чтоона косвенная. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли другие больше менязаботились именно о содержании. Худо ли, хорошо ли, но не думаю, чтобыкакой-либо другой писатель дал в своих произведениях большее богатствосодержания или, во всяком случае, рассыпал бы его более щедро, чем я на этихстраницах. Чтобы его было еще больше, я в сущности напихал сюда одни лишьглавнейшие положения, а если бы я стал их еще и развивать, мне пришлось быво много раз увеличить объем этого тома. А сколько я разбросал здесь всякихисторий, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения! Нотот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашел бы материал еще длябесконечного количества опытов. Ни эти рассказы, ни мои собственныерассуждения не служат мне только в качестве примера, авторитетной ссылки илиукрашения. Я обращаюсь к ним не только потому, что они для меня полезны. Вних зачастую содержатся, независимо от того, о чем я говорю, семена мыслей,более богатых и смелых [6], и, словно под сурдинку, намекают о них и мне, нежелающему на этот счет распространяться, и тем, кто способен улавливать теже звуки, что и я. Возвращаясь к дару слова, я должен сказать, что не нахожубольшой разницы между тем, кто умеет только неуклюже выражаться, и теми, ктоничего не умеет делать, кроме как выражаться изящно. Non est ornamentumvirile concinnitas [7].
Мудрецы утверждают, что для познания — философия, а для деятельности —добродетель, вот то, что пригодно для любого состояния и звания.
Нечто подобное обнаруживается и у знакомых нам двух философов, ибо онитоже обещают вечность тем письмам, которые писали своим друзьям [8].
Но они делают это совсем иным образом, с благой целью снисходя ктщеславию ближнего. Ибо они пишут своим друзьям, что если стремление статьизвестными в грядущих веках и жажда славы еще препятствуют этим друзьямпокинуть дела и заставляют опасаться уединения и отшельничества, к которымони их призывают, то не следует им беспокоиться об этом: ведь они, философы,будут пользоваться у потомства достаточной известностью и потому могутотвечать за то, что одни только письма, полученные от них друзьями, сделаютимена друзей более известными и более прославят их, чем они могли бы достичьэтого своей общественной деятельностью. И кроме указанной разницы это отнюдьне пустые и бессодержательные письма, весь смысл которых в тонком подбореслов, объединенных и размещенных согласно определенному ритму, — ониполным-полны прекрасных и мудрых рассуждений, которые учат не красноречию, амудрости, которые поучают не хорошо говорить, а хорошо поступать. Долойкрасноречие, которое влечет нас само по себе, а не к стоящим за ним вещам!Впрочем, о цицероновском слоге говорят, что, достигая исключительногосовершенства, он в нем и обретает свое содержание.
Добавлю еще один рассказ о Цицероне, который рисует его натуру сосязательной наглядностью. Ему предстояло публично произнести речь и нехватало времени, чтобы как следует подготовиться. Один из его рабов, поимени Эрот, пришел к нему с известием, что выступление переносится наследующий день. Он был до того обрадован, что за эту добрую весть отпустилраба на волю.
Насчет писем хочу сказать, что, по мнению моих друзей, у меня естьспособность к сочинению их. И для распространения своих выдумок я охотнопользовался бы этой формой, если бы имел подходящего собеседника. Я нуждаюсьв таком общении с собеседником (некогда я его имел!), которое быподдерживало и вдохновляло меня. Ибо бросать слова на ветер, как делаютдругие, я мог бы разве только во сне, а изобретать несуществующих людей длятого, чтобы писать им о значительных вещах, мне тоже было бы противно, таккак я заклятый враг всяких подделок. Если бы я обращался к хорошему другу,то был бы более внимателен и более уверен в себе, чем теперь, когда вижуперед собой многоликую толпу, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в этомслучае писал бы удачнее. Природа одарила меня слогом насмешливым инепринужденным, но эта свойственная мне форма изложения не годится дляофициальных сношений, как и вообще мой язык, слишком сжатый, беспорядочный,отрывистый. И я не отличаюсь уменьем писать церемонные послания, у которыхнет другого смысла, кроме изящного нанизывания любезных слов. Нет у меня ниспособности, ни склонности ко всякого рода пространным изъявлениям своегоуважения и готовности к услугам. Я вовсе этого не чувствую, и мне неприятноговорить больше, чем я чувствую. В этом я очень далек от теперешней моды,ибо никогда еще не было столь отвратительного и низменного проституированияслов, выражающих почтение и уважение: «жизнь», «душа», «преданность»,«обожение», «раб», «слуга» — все это до того опошлено, что, когда люди хотятвысказать подлинно горячее чувство и настоящее уважение, у них уже нехватает для этого слов.
Я смертельно ненавижу все, что хоть сколько-нибудь отдает лестью, ипоэтому, естественно, склонен говорить сухо, кратко и прямо, а это тем, ктоменя плохо знает, кажется высокомерием. С наибольшим почтением отношусь я ктем, кому не расточаю особо почтительных выражений, и если душа мояустремляется к кому-либо с радостью, я уже не могу заставить ее выступатьшагом, которого требует учтивость. Тем, кому я действительно принадлежу всейдушой, с предлагаю себя скупо и с достоинством и меньше всего заявляю освоей преданности тем, кому больше всего предан. Мне кажется, что они должнычитать в моем сердце и что всякое словесное выражение моих чувств толькоисказит их.
Я не знаю никого, чей язык был бы так туп и неискусен, как мой, когдадело касается всевозможных приветствий по случаю прибытия, прощаний,благодарностей, поздравлений, предложений услуг и других словесныхвыкрутасов, предписываемых правилами нашей учтивости.
И ни разу не удавалось мне написать письмо с рекомендацией кого-либоили с просьбой об одолжении кому-либо так, чтобы тот, для кого оно писалось,не находил его сухим и вялым.
Величайшие мастера составлять письма — итальянцы. У меня, если неошибаюсь, не менее ста томов таких писем; лучшие из них, по-моему, письмаАннибале Каро [9]. Если бы вся та бумага, которую я в свое время исписал,обращаясь к женщинам, была теперь налицо, то из написанного мной в те дни,когда руку мою направляла настоящая страсть, может быть и нашлась быстраничка, достойная того, чтобы ознакомить с нею нашу праздную молодежь,обуреваемую пылом любви. Я всегда пишу свои письма торопливо и такстремительно, что, хотя у меня отвратительный почерк, я предпочитаю писатьих своей рукой, а не диктовать другому, так как не могу найти человека,который бы поспевал за мной, и никогда не переписываю набело. Я приучилвысоких особ, которые со мной знаются, терпеть мои кляксы и помарки набумаге без сгибов и полей. Те письма, на которые я затрачиваю больше всеготруда, как раз самые неудачные: когда письмо не далось мне сразу, значит,мне не удалось вложить в него душу. Приятнее всего для меня — начинать безовсякого плана: пусть одно влечет за собой другое. В наше время в письмахбольше всяких отступлений и предисловий, чем делового содержания. Так как япредпочитаю написать два письма, чем сложить и запечатать одно, то это делоя всегда возлагаю на кого-нибудь другого. Точно так же, когда все, что нужнобыло сказать в письме, исчерпано, я охотно поручал бы кому-нибудь другомудобавлять к нему все эти длинные обращения, предложения и просьбы, которымиу нас принято уснащать конец письма, и очень желал бы, чтобы какой-нибудьновый обычай избавил нас от этого, а также от необходимости выписыватьперечень всех чинов и титулов. Чтобы тут не напутать и не ошибиться, я нераз отказывался от намерения писать, особенно же к людям из судейского ифинансового мира. Там постоянно возникают новые должности, царит путаница враспределений и присвоении высоких званий, а они покупаются настолькодорого, что нельзя забыть их или заменить одно другим, не нанеся обиды.Точно так же нахожу я неподходящим делом помещать посвящение с перечнемчинов и титулов на заглавных листах книг, которые мы посылаем в печать.
Глава XLI
О нежелании уступать свою славу
Из всех призрачных стремлений нашего мира самое обычное ираспространенное — это забота о нашем добром имени и о славе. В погоне заэтой призрачной тенью, этим пустым звуком, неосязаемым и бесплотным, мыжертвует и богатством, и покоем, и жизнью, и здоровьем — благамидействительными и существенными:
- La fama, ch’invaghisce а un dolce suono
- Gli superbi mortali, et par si bella,
- E un echo, un sogno, anzi d’un sogno un’ombra
- Ch’ad ogni vento ci delegua e sgombra. [1]
И из всех неразумных человеческих склонностей это, кажется, именно та,от которой даже философы отказываются позже всего и с наибольшей неохотой.Из всех она самая неискоренимая и упорная: quia etiam bene proficientesaminos temptare non cessat [2]. Но найдешь другогопредрассудка, чью суетность разум обличал бы столь ясно. Но корни его врослив нас так крепко, что не знаю, удавалось ли кому-нибудь полностью избавитьсяот него. После того как вы привели все свои доводы, чтобы разоблачить его,вашим рассуждениям противостоит столь глубокое влечение к славе, что вамнелегко устоять перед ним. Ибо, как говорит Цицерон, даже восстающие противнего стремятся к тому, чтобы книги, которые они на этот счет пишут, носилиих имя, и хотят прославить cебя тем, что презрели славу [3]. Все другоеможет стать общим; когда нужно, мы жертвуем для друзей и имуществом ижизнью. Но уступить свою честь, подарить другому свою славу — такого обычноне увидишь. Катул Лутаций во время войны против кимвров, исчерпав всесредства, чтобы остановить своих солдат, бегущих от неприятеля, сам стал воглаве беглецов и выдал себя за труса, дабы всем казалось, что они скорееследуют за своим начальником, чем спасаются от врага: так он пожертвовалсвоим честным именем, чтобы покрыть чужой стыд. Говорят, что когда Карл V в1537 г. вторгся в Прованс, Антонио де Лейва [4], видя, что император твердорешил предпринять этот поход, и считая, что он может увенчаться необычайнойславой, тем не менее возражал и давал императору противоположный совет, стой лишь целью, чтобы вся слава и честь этого решения были приписаны егоповелителю и чтобы, по мнению всех, так велика оказалась мудрость ипредусмотрительность государя, что, даже вопреки советам окружающих, онуспешно завершил столь блестящее предприятие. Таким образом стремился онпрославить его за свой счет. Когда фракийские послы, утешая Архилеониду,мать Брасида [5], потерявшую сына, славили его вплоть до утверждения, будтоон не оставил равных себе, она отвергла эту хвалу, частную и личную, чтобывоздать ее всему народу: «Не говорите мне этого, — сказала она; — я знаю,что Спарта имеет граждан более великих и доблестных, чем он». Во время битвыпри Креси [6] принцу Уэльскому, тогда еще весьма юному, пришлось командоватьавангардом. Именно здесь и завязалась самая жестокая схватка. Находившиесяпри нем приближенные, видя, что им приходится туго, послали королю Эдуардупросьбу оказать им помощь. Он спросил, в каком положении сейчас его сын, и,получив ответ, что тот жив и по-прежнему на коне, сказал: «Я повредил быему, если бы отнял у него честь победы в этом сражении, в котором он такстойко держался. И хотя ему сейчас трудновато, пусть она достанется емуодному», И он не пожелал ни сам прийти сыну на помощь, ни послать кого-либо,зная, что если бы он туда отправился, стали бы говорить, что без егоподдержки все погибло бы, и приписали бы ему одному успех в этом доблестномделе. Semper enim quod postremum adiectum est, id rem totam videtur traxisse [7].
В Риме многие считали и говорили повсюду, что главными победами своимиСципион был в значительной степени обязан Лелию, который, однако, всегда ивсеми способами содействовал блеску величия и славы Сципиона, нисколько непомышляя о себе [8]. А царь спартанский Феопомп, когда кто-то стал говорить,что государство держится крепко потому, что он умеет хорошо повелевать,ответил: «Нет, скорее потому, что народ умеет так хорошо повиноваться».
Подобно тому, как женщины, унаследовавшие звание пэров, имели право,несмотря на свой пол, присутствовать и высказываться при разбирательстведел, подлежащих юрисдикции пэров, так и пэры, принадлежащие к церкви,несмотря на свой духовный сан, обязаны были во время войны помогать нашимкоролям не только присылкой своих людей и слуг, но и личным присутствием.
Епископ города Бове, находясь при короле Филиппе-Августе во время битвыпри Бувине [9], сражался весьма мужественно. Но он полагал, что ему неследует пожинать плоды и славу такого кровавого и жестокого дела. Многихврагов смирил он в тот день своей рукой, но всегда передавал их первомупопавшемуся дворянину, предоставляя ему поступить с ними по своемуусмотрению: умертвить или взять в плен. Таким образом передал он Уильяма,графа Солсбери, мессиру Жану де Нель. С такой же щепетильностью в делахсовести, как та, о которой я только что говорил, он соглашался оглушитьврага, но не ранить, и сражался только палицей. Уже в наше время некийдворянин, которого король укорил за то, что он поднял руку на священника,твердо и решительно отрицал это. А дело было в том, что он бил его и топталногами.
Глава XLII
О существующем среди нас неравенстве [1]
Плутарх говорит в одном месте, что животное от животного не отличаетсятак сильно, как человек от человека [2]. Он имеет в виду душевные свойства ивнутренние качества человека. И поистине, от Эпаминонда, как я себе егопредставляю, до того или иного из известных мне людей, хотя бы и нелишенного способности здраво рассуждать, столь же, по-моему, далеко, что явыразился бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между иными людьми разницачасто большая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными, —
- Hem! vir viro quid praestat? [3]
и что ступеней духовного совершенства столько же, сколько саженейотсюда до неба; им же несть числа.
Но, если уж говорить об оценке людей, то — удивительное дело — всевещи, кроме нас самих, оцениваются только по их собственным качествам. Мыхвалим коня за силу и резвость:
- volucrem
- Sic laudamus equum, facili cui plurima palma
- Fervet, et exultat rauco victoria circo, [4]
а не за сбрую; борзую за быстроту бега, а не за ошейник; ловчую птицуза крылья, а не за цепочки и бубенчики.
Почему таким же образом не судить нам и о человеке по тому, что емуприсуще?
Он ведет роскошный образ жизни, у него прекрасный дворец, он обладаеттаким-то влиянием, таким-то доходом; но все это — при нем, а не в нем самом.Вы не покупаете кота в мешке. Приторговывая себе коня, вы снимаете с негобоевое снаряжение, осматриваете в естественном виде; если же он все-такипокрыт попоной, как это делали в старину, приводя коней на продажу царям, тоона прикрывает наименее существенное для того чтобы вы не увлеклись красотойшерсти или шириной крупа, а обратили главное внимание на ноги, глаза, копыта — наиболее важное во всякой лошади:
- Regibus hic mos est: ubi equos mercantur, opertos
- Inspiciunt, ne, si facies, ut saepe, decora
- Molli fulta pede est, emptorem inducat hiantem,
- Quod pulchrae clunes, breve quod caput, ardua cervix. [5]
Почему же, оценивая человека, судите вы о нем, облеченном во всепокровы? Он показывает нам только то, что ни в коей мере не является егосущностью, и скрывает от нас все, на основании чего только и можно судить оего достоинствах. Вы ведь хотите знать цену шпаги, а не ножен: увидев ееобнаженной, вы, может быть, не дадите за нее и медного гроша.