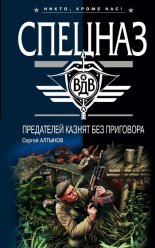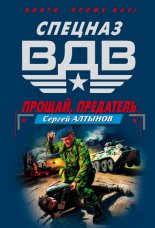… и просто богиня (сборник) Кропоткин Константин

Остаток дня Ляля иногда подходила к ней, клала ей на колени морду, вздыхала, напоминая о себе. Рита гладила ее по гладкой на темени черной шерсти, чувствуя резкий, свербящий собачий запах. А вечером они погуляли еще раз.
Во второй раз Ляля бежала не так уже ровно. Иногда она резко тянула Риту куда-то в сторону, учуяв что-то то на газоне или в кустах.
Она что-то про Риту поняла, и вела себя с ней, как хозяйка.
Леди.
Когда раздался звонок, Ляля, вытянув на полу свои лохматые ноги, крепко спала.
Она резко вскочила, залаяла громко, даже отчаянно. Она забегала по комнате, требовательно глядя на Риту, которая все сидела за столом и тюкала свои малозначительные глупости.
Вниз, к выходу, она Риту буквально тащила — вцепилась в поводок, скребла по ступенькам лапами, рвалась, рычала, скулила, скорей-скорей — и с облегчением, с визгом, зарыдала на весь двор, когда дверь открылась, и смогла она, наконец, вывалиться в ноги своей хозяйке.
Как ребенок после длинного-длинного дня в детском саду.
— Я ее ненадолго оставила дома. Купить надо было что-нибудь. Дома же шаром покати, — отчитывалась Рита под лихорадочные подскоки Ляли. — С ней идти побоялась. Вдруг отвяжет кто-нибудь? Или сорвется сама и убежит.
— Из тебя бы получилась гипертревожная мать, — отвечала Варя, даже и не глядя на свою обезумевшую спаниелиху.
— А из тебя какая получилась? — Рита обиделась.
— Какая есть. Собаки хуже детей. Не говорят ничего, все время, как дети. Если болеют, не знаешь, что делать. Она хорошо какала?
— Откуда я знаю? Ну, да. Наверное, — Рита вспомнила. — Она кашляет. Как от простуды.
— Как она кашляет? Вот так? — Варя издала пару звуков, как будто прочищая горло.
— Вроде бы.
— Точно. Или сердце, или глисты, — заключила подруга. — У спаниелей сердце слабое. Таблетками попою.
— От сердца? — Рита не поверила.
— Если не поможет, к врачу сходим, — она говорила легко, Варю ничем не испугать. — Не кормила? Точно?
— Нет. Почти.
— Морда, — удовлетворенно произнесла Варя. — Не курицу хоть? Там кости полые, нельзя, подавиться может.
— Из супа мясо.
— Выпросила, — она погладила собаку, та затрясла свой лохматой, утиных очертаний гузкой. — А я даже краситься не стала. Мужик пришел, а я в чем была, — было темновато, и потому, должно быть, Рита не видела в Варе того душистого яблочного света, с которым та уходила от нее утром.
Рита подумала про ком, который внезапно лопнул у нее в горле сегодня под душем — едва включив воду, Рита зарыдала, жалея от чего-то чужую собаку, чувствуя себя виноватой, что хозяйка ее бросила, хотя и на день всего. Иногда с Ритой случалось что-то вроде душевного вывиха — она плакала, хотя и не было совершенно никаких причин. Олег уехал всего лишь на два дня, и не в нем вовсе дело, и уж, конечно, не в этой Ляле-Лялечке, которую Рита пообещала взять на день и в другой какой-нибудь раз, когда Варе приспичит привести домой любовника.
А в чем?
— Если бы она злая была, агрессивная, то еще ничего. А она послушная, а глаза такие, что сердце рвется, — говорила Рита, оправдываясь зачем-то перед Варей, словно плакала из-за нее или как-то ее осуждала.
Рите не хотелось слушать про свидание. Варя не настаивала».
ТАКАЯ
В баре на Новом Арбате — на двадцать первом этаже новой высотки, напоминающей вывернутую наизнанку ванную комнату — диапазон красоты невелик. Ни одного лица просто милого. Сидят, покручиваются на высоких стульях девушки привлекательные, очень привлекательные, красивые, красивые необычайно (с той особой четкостью черт, которая придает лицу выражение несколько сюрреальное).
Они потягивают разноцветные напитки из бокалов разнообразных форм, улыбаются барменам, захлебывающимся в служебной эйфории, поглядывают на проходящих мимо — взгляды скользящие, широкого спектра: от распахнутой робости мимо дружелюбия к презрительности с перерывом на горделивую надменность. Смотрят они на мужчин, точнее, к ним присматриваются — их в полутьме бара почти не видно, а те, кого отчетливо видно — вот, например, юноша в своем ретро-пиджачке похожий на кузнечика — девушек не очень интересуют — взгляды скользят, регистрируют, не задержавшись, и мимо, и дальше: вот стоит толстяк белорожий, на нем песочный вельвет, ирландец или американец ирландских кровей, он громко говорит по-английски, нет, все-таки, американец, во рту его неотчетливая каша; идет стайка итальянцев, покачивают носами-рубильниками, а один из них, не худой черный стручок, а другой, тот, что постарше, с кудрями длинными, с проседью, смотрит на девушек, на одну за другой, шатко сидящих за длинной ярко освещенной барной стойкой, по-разному, каждая на свой лад, оживленных. Для его спутницы, тоже немолодой — она вся в изысканных переливах коричневого золота — блестючей барной стойки не существует, итальянка с прямой спиной удаляется в сторону гардероба, сквозь длинный полутемный коридор с краткими пятнами света на стенах. Навстречу ей — а мне, стало быть, прямо в лицо — движется белокурая стриженая женщина в черном, она укутана в ткань с головы до ног, платье ее и не платье вовсе, а что-то вроде асимметричного комбинезона, упаковывающего ее тело без зазоров — от белой шеи (немолода, нет, немолода, хоть и ухожена) до щиколоток. «Как же ты, бедная, в туалет ходишь?» — возникает у меня озорная мысль; я стою у стойки бара, пью красное, конечно, красное, итальянское красное; мое любимое немецкое, немецкое белое — так я думаю — здесь наверняка плохое. У белого легкий дух, едва уловимое тонкое послевкусие; его не должны любить в этом баре на двадцать первом небе Москвы, на высоте, которая никого не волнует; головокружительный вид за окном будто и не существует вовсе, девушки поглядывают на мужчин, женщины игнорируют девушек, мельтешат бармены, музыка грохочет, вьется древесный дымок от кальянов откуда-то из углов (там столы, а за ними смутные мужчины), вкрадывается сигаретный дым, пахнет духами и косметикой, пахнет алчностью; я чувствую агрессию, толстым слоем размазанную по всему пространству — от освещенного бара до окон-витрин, вдоль стен и по разноуровневым потолкам со светильниками в виде крупноформатной рыбьей чешуи. Кто-то ищет, кто-то нашел, кто-то будто и не ищет ничего. Возле девушки, которая выше всех даже сидя, стоит юноша мальчишеских статей, он отлично одет, он интересуется девушкой и, как мне видно с моего места, делает это умно, обаятельно, но если темноволосая красотка встанет, то он будет ей по грудь, что делать ему с такой красотой, интересно ли ей его миниатюрное обаяние? А в лифте с двадцать первого на первый, пока за одной из стен, стеклянной, город сворачивается в бутон, высокая девушка в серебре разговаривает с немолодым крепышом. Он в лихорадочных пятнах, глаза его полузакрыты, он вяло отвечает на какие-то малозначимые вопросы, он едва заинтересован в своей спутнице (или такова игра? будет ли им последнее танго в Москве). Прислонившись одним плечом к гладкой стене лифта, девушка (она, конечно, длинноволосая, они там все длинноволосые, похожие на текучих русалок) с интересом несколько показным смотрит на своего спутника, а он смотрит впереди себя, на неясное свое отражение на противоположной стене. Двери лифта разъезжаются, мы выходим наружу — там холодно, в Москве осень, а на дворе ночь. Она берет его под руку, а он (тонконогий, непородистый плоский зад) идет, как шел, не подставив локоть, руки вдоль тела (не игра, нет, не будет им танго).
Если бы я был такой девушкой, то возненавидел бы всех мужиков, которым нужна именно такая.
АХ КАКАЯ!
Когда Зазочка на сцене, то ясно, все взгляды — только на нее, все песни — только про Зазочку.
У Зазочки роскошные волосы — роскошные (произносить следует этим своеобразным, немного носовым звуком). Они могут быть у нее и черные, как смоль, и огненной рыжины, но чаще всего Зазочка — ослепительная платиновая блондинка, что выгодно подчеркивает и ее белую, как снег, кожу, и маки румянцев на скулах; и даже круглота лица, несколько чрезмерная в последние годы, как-то скрадывается за счет белокурого сияния, которым охвачена ее голова: парик у нее чаще всего пышный, скульптурными витыми потоками, вызывающими ассоциации не то античные, не то герпентологические (или какая там наука изучает змей?).
Волосы Зазочки раскиданы по мощным плечам, а плечи ее инкрустированы то блестками, то узорами из каменьев «сваровски», то сложным шитьем, который Зазочка приобретала сама, где-то на шумных базарах Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока. Она часто бывает в тех краях — не по собственному почину, так в командировку, вместе с московскими закупщицами парчи и муслина. Мало кому подвластно искусство торга со льстивыми туземцами, а для Зазочки с ее веселым дипломатическим гением нет ничего невозможного.
Грудь у Зазочки по сравнению с плечами скромная, обыкновенная даже. Был в ее жизни период, когда носила Зазочка огромные, в два силиконовых ведра, как она говорит, «сисяндры», но теперь решается на этот тяжкий труд только изредка, по каким-то особым случаям, благо, бюст пристяжной, можно всегда отправить его в отпуск.
Есть у нее и талия, куда же без нее. Зазочка втискивает себя в корсеты, она ловко конструирует силуэт «песочные часы», оставляя себе возможность не только дышать в этих забористо украшенных панцирях, но еще и говорить — а без слов ей нельзя. Зазочка — артистка разговорного жанра.
Лицо у Зазочки круглое, большое, и все черты на нем — если на сцене — тяготеют к некоторой чрезмерности: если ресницы, так до бровей, если глаза, так в два озера, а нос у нее прямой стрелкой, а губы изогнуты живописным, капризным немного, луком, раскрашенным актуальному парику в унисон.
Зазочка может и сажей уста извазюкать — если того требует образ. Однажды изображала комичную старую деву: у нее был короткий парик в струпьях и катышках, очки с толстыми стеклами, выгибавшими глаза ее, озера, в полукружья, платье короткое «крепжоржет» и серовато-рыжее лицо. Зазочка подробно выла над портретом (там, как в итоге выяснилось, был нарисован мужской член), а уходя со сцены, еще и сломала толстый каблук своих старомодных туфель — зал рыдал от счастья, и вряд ли дело в том только, что он был пьян, как это бывает в ночных заведениях в час или два ночи.
«Заза» — сценический псевдоним, но и когда освобождается от грима, то на имя это откликается, хоть и рассуждает о своей героине в третьем роде: Заза пошла, Заза поехала, подумала Заза.
Роскошная особа, вынуждающая клубные залы выть и улюлюкать, никогда не уходит без следа, даже если грим стерт, платье, пропахшее трудовым потом, утрамбовано в сумку, а на лице только природная бледность. Зазочка проступает, как сквозь морозное окно — словами, фразочками, поворотами головы или особым взглядом, который, за вычетом ресниц, не производит уже впечатления столь по-коровьи комичного. У героини этой нет внятной биографии, но она легко достраивается: прибыла в Москву из провинции, где училась какому-то там мастерству, грезила, может быть, о комиссаржевских и ермоловых ролях, но — «жрать-то надо» — пошла по малым столичным сценам. И закрутилось, и повелось…
Бурлеск — этот пряный жанр дается Зазочке исключительно хорошо. Она вульгарна и резка, ей по силам и вытянуть из декольте кролика, а из расшитой павлинами жопы — бесконечно длинную и цветную гирлянду. Жаль, нет столь сложных номеров у Зазочки, бурлеск ее — в словах, в нарочитой грубости, в странных смешениях гогота и визга.
— За-за, у-ля-ля, пою за три рубля, — басит она со сцены на мотив популярной песни.
А теперь — вот, прочел недавно — Зазочка записала целую пластинку, что логично, в общем-то. Пение должно было стать новым ее коньком, как часто бывает с хорошими артистами разговорного жанра: сначала они много и весело говорят, накручивая обороты, пританцовывая по самой кромке, а там уж можно и заголосить. Невсерьез, но весело. Опять же, если фонограмма, то, немо открывая рот, есть возможность передохнуть немного — тяжко ей, небось, в корсете в задымленном, пропитанном алкогольными парами зале.
А голос у Зазочки зычный, мощный, поставленный самой природой, ей бы в кинокомедиях бригадирш играть или партийных функционерок, но в кино берут пока только на роль самой себя — туда, где нужно выйти и гаркнуть какую-нибудь уморительную пошлость в своем репертуаре.
— А вот я сейчас как сяду тебе на лицо, чтобы ты от моей любви задохнулся, — обещала она раз чрезмерно назойливому поклоннику, и то, что в других коралловых устах звучало бы дрянно, у Зазочки, озорно валяющей блестки в грязи, было редкостным, хоть и грубоватым комплиментом — и смущенно утирал нос краснорожий поклонник, и толпа, пьяная не меньше, радостно улюлюкала.
Зазочка — знаменитость ночной Москвы, а там свои радости.
— Как ты? Все ли у тебя в порядке? — звонил я пару лет назад из своих заграниц, наткнувшись в Интернете на еще одно, второе в ряду, сообщение о смерти. Еще одна Зазочкина товарка умерла, в возрасте чуть за сорок (а кого ж молодят эти ночные смены?).
Нет, заверила Зазочка, о здоровье печется, таблеток тайских для похудания уже не жрет, перетянула себе желудок специальным хирургическим путем, скоро будет стройной, как в те стародавние времена, когда мы познакомились.
И пить уже не пьет.
Умница.
Зазочка — умница, но не только потому я за нее волнуюсь.
И не за то люблю, что все свои костюмы, купечески пышные, барочно убористые, цветастые, как мириады клумб, шьет Зазочка сама, сама и эскизы придумывает, восхищая не только коллег.
Мне по душе мысль, что когда придет ей время уйти со сцены (придет же оно когда-то, не с клюкой же ей скабрезничать?), Зазочка может запросто открыть ателье и весело, как и всегда у нее, обшивать профессиональных певиц, танцоров и говорунов. Не грозит ей нищета и низость, как, увы, часто бывает в этой профессии в качестве пенсиона — гнусный мир, жалко мне блестючих ночных баобабочек; где Герочка, тонкая веточка с изысканным лицом? нет ее, умерла-умерла, не лечившись, гуляя по краю; а Сильва где? и ее нет, прихватило сердце.
Кроме мощных плеч, кроме лица в протуберанцах, кроме портновского таланта и дара площадной комедиантки, есть у Зазочки сердце, которое напоказ не выставляет (да и кого интересует оно в чадной клубной атмосфере?).
Кто на похоронах у подруг отстоял, когда срок пришел? Кто дает деньги разным убогим? Кто раздает без счета провонявшие потом феерические костюмы «самой Зазы»? Доброе у Зазочки сердце и — вот, ей богу — заслужила она себе и здоровье, и любовь, и счастье — и все прочее, что вписывают в поздравительные открытки, что замылилось, как и клубный конферанс, но имеет все-таки смысл: умеет же Зазочка быть ни на кого не похожей в этих убогих обстоятельствах; может же она быть женщиной в самом вопиющем смысле этого слова — ослепительным скопищем колких веселящих молний…
Ей, ненаглядной клюковке ночной Москвы я (шепотом, в сторону) желаю еще мирной личной жизни, на которую пока времени у нее нет; когда ей дружить, переживать конфетно-букетное счастье, если работает ночами, а днем обшивает шоу-бизнес, а еще у Зазочки гастроли, а еще, вот, и пение благим матом. Я загадываю, что, пожалев себя однажды и найдя человека, который искренне полюбит редкостную ее человечность, очутится Зазочка — пусть ненадолго — в каком-нибудь садово-яблочном раю; будет пить там чай из блюдца, у самовара; и чтоб вился какой-нибудь уютный дымок, и чтоб яблони душисто пахли, и трава переливалась шелковисто, искусственно немного, куда ж в данном случае без чрезмерности…
— Береги себя, — прошу я Зазочку время от времени, не имея ни сил, ни возможностей изменить в ее жизни то, что мне кажется неправильным.
Говорит, что старается. Но я не верю.
Уже заметно, что я неохотно, со скрипом, говорю «она»? Уже видно, что роскошной Зазочке, богине клубной Москвы, не совсем подходит это местоимение?
Сосредоточив в себе, наверное, все византийское великолепие русской женщины (и лжецы, и слепцы те, кто зовет ее грубым словом «баба») — Зазочка просто не помещается в трехбуквенное слово.
Да, и формально, Зазочка — мужчина. Владик, актер. Но какая разница?
Главное — ах, какая!..
И ТАК, ОНА…
Есть у меня такой виртуальный раздел. Что-то вроде воображаемой залы-гостиной, где я поселяю особ эксклюзивных статей. Я их не ищу, конечно, но если попадется какая, то не могу не нарадоваться и не препроводить ее в эти гипотетические апартаменты, заставленные затейливо-воображаемой мебелью: усадить, напоить чаем или, скажем, какао, пирожинку дать, наглядеться вдоволь, волнуясь всем своим душевным веществом.
Богиня. Моя. Персональная.
Они все очень разные, не похожие одна на другую. Например, одна популярная колумнистка на своей фотографии на сайте похожа на мою одноклассницу, которую другая моя одноклассница любовно именовала «гугусенькой». А пишет она еще прекрасней — там у нее из сочинения в сочинения, из колонки в колонку ходят женщины, одержимые страданиями: от чувств они «отрешаются», на проблемах «фокусируются», а морщины у них — простихосподи — «мимические».
«Ах, — вздыхает лирическая героиня моей богини, — с моими-то мимическими морщинами…».
Прекрасно пишет. Как врет, так и пишет.
Она, конечно, популярна. И не может же иначе быть. Если она — богиня, то разве мыслимо такое, чтобы смотрел на нее один только восхищенный я?
Есть в моей гостиной и сексолог в шляпе. К шляпе прилагаются кудри и бульдожье лицо, но важнее все-таки шляпа. Она с вуалью, и эта деталь не может меня не восторгать. Вуаль стоит дыбом и розы искусственные трясутся на сетчатых шляпных полях. Великолепие это пропустить невозможно, смотришь на него, как кролик на удава, спрашиваешь себя, а была ли она весной, эта женщина-вечное лето? Сексолог говорит с телеэкрана о том, как следует любить, а точнее, как любить не следует:
«Леди не двигается», — крупно прочитывается в мелком бязевом плетении ее речей; снимает ли леди шляпу? носит ли круглосуточно? — узнать не представляется возможным.
А еще в воображаемых апартаментах прохаживаются девы-умницы. Они — огромные умницы, буквально слышно, как шелестит фолиант, о чем бы они ни говорили. Слова сыплются, а фолиант, засевший явно не в моей голове, сам собой переворачивает свои страницы.
«И как сказал Монтескье на странице тридцать девятой, абзац второй…», — произносит вдруг умница и сообщает какую же мысль сказал означенный француз.
Впрочем, это может быть и немец, и американец, и вообще неизвестный составитель словаря иностранных слов. У одной такой умницы недавно «сервильность» в одном абзаце блохой скакала. А ее троюродная кузина, которой мне хочется дать имя «Жюли», как у Толстого, подарила мне чудесное слово «аррогантный». Это слово прекрасно подходит другой моей богине, похожей на батон — я встретил ее в театре. Она там пела. Громко пела, оркестр едва поспевал. Стояла, тряслась концертным платьем, у нее было приобщение к искусству, а остальным не оставалось ничего другого, как приобщаться к ней.
Внимать.
Вообще, при всех своих различиях, мои персональные богини одинаково примечательны силой децибел — они очень громкие, их очень много, они, кажется, способны заполнить все свободное пространство своей нерассуждающей энергией — они и есть энергия, выстроенная не по законам логики, красоты или здравого смысла — чистая эмоция, незамутненная уверенность в своей божественности (не зря же я считаю их «богинями»).
Не пропустить, не проглядеть.
Сегодня, вот, опять радость ворвалась. Сижу утром, кофе пью, из окна на меня таращится дом, в утренних лучах похожий на кусок дыни, а из компьютера рвется удивление: одна журналистка сообщает в своем блоге приватную радость — у ее зубного врача есть интернет. Прежде она писала, что не любит мешки на восточных женщинах, а сегодня удивляется, что кабинет стоматолога оснащен беспроводным выходом в виртуальное пространство.
«…и это не в Москве», — восклицает она.
Ах, как же хочется, забыв про кофе и ослепительный дынный шмат архитектуры за окном, прижать прелестницу к груди (лучше широкой и волосатой), сказать, содрогаясь, как прекрасна она, как восхитительна.
Деточка! Крошка! Свет очей! Ну-ка, быстренько ко мне в комнатку. Есть у меня уголок в моей воображаемой светелке, по-модному уделанный стеклом, сталью, обшитый деревом и непременно на самом высоком этаже, чтоб отовсюду было видно.
И понял я, наконец, к чему все эти дни вертелась в уме странная фраза:
«Итак, она звалася микки-маус».
Сердце мое предвкушало рандеву.
БУТОН
Она, разумеется, бутон.
Я все берег ее для какого-то особого случая, для большой формы, для многословной истории, где она была бы не первым, но заметным второстепенным персонажем.
Она — бутон — могла бы быть знакомой главной героини (я хотел бы написать роман о молодой женщине, странно-счастливой женщине, которой вечно чего-то не хватает). Она бы звонила главной героине, требовала бы встречи своим намеренно писклявым голоском; они бы встречались в кафе пастельных тонов, пили бы напитки обстановке в тон, женщина-бутон жаловалась бы другой женщине, главной, на своего мужа, который скотина и сатрап; «a ты посчитай, сколько раз я с тобой спала», — говорила бы эта женщина, вспоминая какой-то новый их скандал; у бутона сложная личная жизнь, она вышла замуж за бывшего медбрата из Сибири, у нее это уже четвертый брак, он же самый долгий.
Сначала женщина-бутон вышла замуж за сокурсника по университету, чтобы не пугать родственников желанием с юношами спать; потом она вышла замуж за немца, чтобы уехать на нем за границу, далее она вышла замуж за другого немца, который, в отличие от предыдущего, не сажал ее на цепь в квартире, не бил, не мучал; он пожалел ее, убогую, женился, она получила возможность навсегда поселиться в Германии, в большом немецком городе, и с той поры считает себя в праве рассуждать о геях.
«Я вас очень хорошо понимаю», — говорит она, убирая со лба тусклую светлую прядь (она — линялая блондинка; по уму, надо бы подобрать ей сорт цветка такого рода — желто-коричнево-бежевого, неспособного в самую буйную свою пору поражать воображение, пастельной блеклостью и пленяющего — не пион, не герань и даже не астра; могла бы быть фиалкой, бело-розовой беспородной фиалкой, если б я не цеплялся так за это слово; она — «бутон», тусклое обещание какого-то цветения, вечное ожидание, только так).
Ее четвертый брак — а теперь я говорю о бутоне уже без всяких сослагательностей — оказался самым долгим. Как и сама она когда-то, ее муж, медбрат по первому роду занятий, выехал на ней за границу, получил право жить и работать, завел себе бизнес — принялся переправлять металлолом из России в Китай, и все это почему-то через немецкий портовый город. Он похож на бочонок — темного, желтовато-коричневого колера, как это часто бывает у сибиряков — он и безусловно заслуживал бы такого прозвища (зову же я ее «бутоном»), если бы не был так криклив, нахрапист, странно-неоснователен; он любит показывать свои цацки — у него то часы новые, то машина, то дом с гаражом, садом и дизайном, напоминающим мебельный магазин. Он суетлив, сует по делу и без дела атрибуты своей сказочной жизни, и чем больше их сует, тем больше похож на шулера — если и бочонок, то пустой внутри.
Он попрекает жену высшим образованием, бездельем и бесхозяйственностью; она его — необразованностью и отсутствием вкуса; вкуса у него и правда нет — в их доме я впервые увидел настольные лампы из позолоченных автоматов Калашникова и облицованный сталью рояль.
«Я его из говна вытащила», — говорила она, опять выпростав меня из обыкновенности моих будней; я не хотел с ней спорить, я только зафиксировал факт, с какой легкостью она говорит слово «говно». В иных устах меня не удивило бы это слово, но у бутона маленький подбородок, крошечный ротик; щечки, глядя объективно, великоваты, но вместе с подбородком и прямоугольным лобиком они образуют картину совершенно картинную — личико у нее; не лицо, а личико.
Специально или нет, не знаю, но говорит она на самых верхних регистрах обыкновенного своего голоса, не очень убедительно попадая в детский тон. И туфли она любит с бантиками, и ходит в них, подволакивая ноги, как ходила бы девочка, нарядившаяся в туфли матери, не отрывая каблуков от земли — как на лыжах.
У них сложные отношения; муж ей изменяет, она ему тоже, и не понять, кто из них начал первым; она говорит, что он — быдло и чурка с глазами. Я не знаю, точно ли в нем дело, ее слова меня не убеждают, а другой правды я не узнаю. Муж бутона (а пусть он будет бочонок, пусть — пустой грохочущий бочонок) от меня шарахается. Однажды встретил его на улице, в том большом немецком городе, в котором я тоже изредка живу; он стоял у витрины со своими детьми, девочкой и мальчиком, еще с ними была нянька-азиатка неясных лет, они упоенно рассматривали, стоящие в витрине, предметы — вещи были залиты ярким светом и от того, должно быть, в памяти моей не остались; он громко что-то рассказывал, из него выкатывался странный гулкий звук, словно по дну его погромыхивают большие тяжелые предметы (образ схвачен, теперь и подходящие сравнения сами лезут); безъязыкая нянька с непроницаемым азиатским лицом держала за руку пухлого младшего (он смешной, веселый; по легенде, и говорить начал сначала не то по-тайски, не то по-вьетнамски); а в руке у гулкого отца семейства была рука старшей дочери, вечно-хмурой и тоненькой; понять его слов я не успел, он заметил меня и буквально шарахнулся, пробормотал мне «здрасте» и торопливо ушел, уводя свою толпу; я смотрел ему в клетчатый зад, слишком клетчатый для такого зада.
Он думает, что я на стороне его жены, а я ни на чьей стороне — они мне в равной степени интересны и неинтересны; у них причудливая жизнь, она ни в какие ворота.
«Я не могу поехать в Россию, — сказала она мне под очередное казенное бланманже (обстановка в кафе напоминала дровяной сарай). — Он посадит меня в сумасшедший дом. Занесет денюжку куда надо, и все».
Она бы сама хотела его посадить — он спит с девицами со своей малой родины, которые не так образованы, как она; он спит с юными алчными сибирячками, и плохо скрывает — сын играл с его мобильником, а там были фотографии, он спросил у мамы, что это за тети и почему они голые, а дальше был скандал — она притворилась, что честь ее оскорблена.
Она тоже спит с кем-то, но фотографий не хранит — только зачем-то рассказывает о любовниках посторонним, мне, например, хотя я ей даже не друг; не знаю, по какому я у нее разряду — случайная, выбранная наугад, ваза, где бутону полагается ждать цветения? книга, меж страниц которой она спрессуется в тень себя самой, двухмерное подобие себя, составленное из переплетения разновеликих охристо-золотистых нитей?
Они все время на грани развода: он спит с кем-то, она — тоже; он зарабатывает большие деньги, она боится попасть в дурдом; он сорит деньгами, она думает, что он дает ей слишком мало; у него много денег, но она живет, «как нищенка» («Какие-то несколько тысяч», — говорит мне она, не чувствуя — всем дипломам вопреки — что выглядит шаржем).
Я не жалею ее, сначала жалел, а теперь не жалею.
Десять лет тому назад, когда мы познакомились на каком-то русском балу (одном из тех балов, которые отчаянно не хотят быть советской вечеринкой и напоминают торжественную панихиду), она позвала меня в гости, поила чаем (из пакетиков, заваренным, как попало); показывала большой телевизор, который я не преминул упомянуть в своей статье, которая и была поводом для визита; я собирал истории межнациональных браков и история бутона была самой драматичной — изверг муж (первый из ее немцев) из дому не выпускал, держал на цепи на кухне, драл в хвост и в гриву, она страдала, но умудрилась закончить местный вуз, затем сбежала от злодея, тяжко работала в аэропорту, раскладывая еду по коробкам, там познакомилась со вторым немецким мужем, он пожалел ее и взял в жены ровно на тот срок, чтобы она получила свой вид на жительство, а далее был последний брак — и сидит она теперь со мной рядом на большом кожаном диване, перед нами телевизор во всю стену, потому что русский металлолом пользуется у китайцев огромным спросом. Этот телевизор я и ввернул в статье, тогда мне было лестно находится в таком доме, чувствовать близость к ненатуральной такой жизни, прислуживать, выстраивая мелодраматичную, с ее слов словленную историю: много страдала, а теперь ее жизнь удалась (как закончила вуз, если на цепи сидела?).
Она подтасовывала, привирала — все мы привираем, всем нам хочется втиснуться в готовую, не нами отлитую форму — а рубим ли висящие по краям хвосты, от силы желания зависит. Запомнил, что муж ее, второй, который изверг с цепью, из школы сбежал, попал в иностранный легион, где из лоботряса сделали параноика — его, 17-летнего, заставляли рубить головы курам, такие были тренировки. Ужасная деталь — а больше я ничего о нем не запомнил (презрительная интонация его бывшей жены не в счет).
Встречались мы с ней только изредка; она сама настаивала (могла и пригрозить; «что я тебе такого сделала?» — пищала в телефон она). Звала на какие-то праздники (дни рождения?), которые стоили много, проходили в каких-то замороченных кулисах (то в музее, то в замке, то на ферме у крестьян) — и были смертельно скучны вплоть до той поры, пока я не догадался самостоятельно подыскивать себе аттракционы, не принимать эту натужную серьезность всерьез, веселиться, а почувствовав, как подступает к горлу скука или тошнота, уходить — не прощаясь и не чувствуя себя обязанным. В один год я приметил друга ее мужа, который пришел с женой, а руку норовил положить на зад совершенно посторонней девушке; в другой раз бочонок-муж взгромоздился пьяным на трактор, и я спорил с другим гостем, грохнется он или нет; однажды бочонок и бутон громко ссорились и крыли друг друга матом (он был жалок, она — омерзительна; о! это зловоние на ненакрашеных бледных губках), а завершил я свои походы после самого чудного дня рождения в моей жизни (рассказывая, я так его всем и объявляю: «самый лучший праздник»): гости пришли, а еды в шикарном доме не было; «возьмите что-нибудь», — вяло, с маской страдания на треугольном лице, сказала она, ковыляя на каблучищах; гости сбегали за едой в магазин, раскурили в чужом саду мангал, кое-как нажарили мяса, выпили вина, тайком меж собой на хозяев пошипели — я хохотал, поняв уже точно, что не могу ни говорить, ни думать про нее ничего хорошего — не человек она, а бутон, не более и не менее.
Общаться с той поры стало совсем легко: она звала, я отказывался, она предлагала — я не принимал всерьез. Однажды она хотела издавать с мной журнал, в другой раз писать книгу, в третий раз я сам должен был написать про нее, в четвертый — написать про ее мужа, какой он подлец и сволочь. Я говорил «рад бы, но некогда», я говорил «надо подумать», я говорил «нет времени» без угрызений совести, восхищаясь ее уверенностью, что номер «помогите деточке» прокатит (она единственный ребенок у чадолюбивых родителей, и единственный случай в моей жизни, когда я готов придать этому факту значение). Я говорю ей «нет» на удобном мне языке, я понимаю, что она расслышит только то, что ей удобней.
Муж-бочонок ее не бьет, а должен бы. Ее бьет любовник — он немолодой и опытный. Дает то, что просят. Она сама рассказала. Думала, что жалуется, а на самом деле — рассказала. Мне кажется, что она — мазохистка. Всей своей жизнью, всем своим бледно-бежевым существом просит она кирпича.
Бутон. Не нашлось для нее романа. Обойдется.
ПРЕТТИ ФИТ
Девочки, вы меня простите, но некоторые ваши тайны не могу я держать в себе. Не потому, что вас опорочить хочу — напротив, благодаря вам мне очевидно становится, что дороги к счастью разнообразны — нет единого на всех пути, а иные — так и «вопреки» счастливы, просто потому, что захотели.
Вот, значит, история. Почти все правда.
«Одной молодой женщине срочно нужны были деньги. Она купила новое пальто в красно-бурую клетку, а к нему лохматый берет, перчатки, облегающие руку, как вторая кожа, сумку-баул с большой пряжкой и резиновые сапоги в цветах-маках. Аксессуары обошлись дороже, чем пальто, поэтому платить за квартиру оказалось нечем, и хозяин мог в любой момент попросить их с мужем вон — за такое-то жилье (с отремонтированной ванной, солнцем в спальню и большой кухней), только свистни, и моментально выстроится очередь.
С мужем у них были современные отношения, и поэтому за квартиру платила она, а он мог исчезнуть из дома на несколько дней. Раз, проснувшись одна в своей спальне, похожей на сырную дольку, она, не вылезая из постели, раскрыла компьютер, стала читать записи виртуальных друзей и наткнулась на объявление. „Девочки, кому нужна подработка?“ — писала одна френдесса, ни имя, ни фотография которой нашей героине ни о чем не говорили.
Он нажала на ссылку и вышла на лысую, ничем не украшенную страницу, где был один только текст по-английски — очень простой текст, хватило и ее школьных знаний. Некое агентство искало красивые ноги. Оно обращалось к моделям, актрисам и просто молодым женщинам, у которых есть „prettyfeet“. „…500–800 долларов в неделю за „footsessions“… Вы остаетесь одетыми… Все 100 % легально…“.
Она подумала, что, дожив до 27 лет, и не знает красивые ли у нее ноги. Ухоженные — да, с педикюром — да, с пальчиками без всякой кривизны и шелковистыми пяточками. Все это у нее было, но считать ли набор этот красивым — она не имела понятия.
Интернет ей тоже не помог. Один американский режиссер в интервью спел женским ногам целый гимн, а в пример привел ступни одной известной актрисы, у которой был сорок четвертый размер.
У нее был тридцать шестой.
Она поискала в Интернете еще, и нашла рассказ про изуродованные ноги аристократок в средневековом Китае, которым в детстве ломали кости стоп и туго их обертывали, пока те не превращались в стручки, на которых женщины не могли самостоятельно добраться даже до сортира и нужны были служанки, которые поддерживали бы их с обеих сторон.
Ее, в принципе, все устраивало в своем теле: у нее были светлые волосы — густые и длинные, маленькая грудь двумя теннисными мячиками, тонкая талия и уютная попка. Прежде, оценивая себя, на свои ступни она и не засматривалась, пусть и не забывая делать пальчикам педикюр.
Красивы ли они? Хороши ли?
Она заполнила анкету в конце объявления (имя, телефон), прикнопила к нему фото с пляжа, и нажала на „послать“.
Ей нужны были деньги, но главным было все-таки то, что она ничего не знала про свои ноги.
Ей позвонили в тот же день. Женщина на ломаном русском сообщила, что кандидатура ее теоретически подходит, нужно только сделать фото ее „фит“.
— Что сделать? — не без испуга спросила героиня.
— Фи-ит, — напомнила та строчку из объявления, и рассказала, в каких ракурсах следует сфотографироваться. Особенно важно было показать, что у нее нет плоскостопия, поскольку клиент очень ценит изящный прогиб женских „фит“ и именно это обстоятельство делает их „претти“.
Назвалась она „Джессикой“ — и это героиню почему-то успокоило. Хорошенько отмыв ноги, намазав их кремом, она сделала несколько фотографий на телефон и отправила снимки куда попросили.
А через два дня, непоздним вечером понедельника, она сидела в просторной комнате, напоминающей аквариум, и смотрела, как внизу, по каналу, течет серая вода, а над водой плывут темные тучки (был пасмурный день).
Джессика сказала, чтобы, придя в это офисное здание (похожее на несколько аквариумов, сложным порядком составленных друг на друга), она представилась вахтеру, а он знает, куда ее отвести.
Так она и сделала, проехав с деловитым юношей в сине-золотой униформе в лифте на последний этаж, где дверь была только одна, а за ней располагался большой стеклянный стол, рядом с ним стоял стеклянный же столик с кофейными чашками, сахарницей, термосом из темно-коричневого пластика и конфетами в открытой коробке, а возле огромного окна во всю стену находились два кресла, в одно из которых она села, закинула ногу на ногу (спросив себя заодно, сделала она это движение по привычке, или хочет показать товар лицом).
На встречу она надела деловой бежевый костюм с юбкой выше колена — об официальном „дресс-коде“ ее попросила Джессика, особо подчеркнув, чтобы ни чулок, ни колготок на ней не было.
В комнату (нет, скорее, все-таки в зал) вошел мужчина средних лет в синем костюме. Лысоватый, несколько потертый блондин с оттопыренными ушами. Он улыбнулся кончиками блеклых губ, предложил ей кофе.
— С молоком? — наливая из термоса, уточнил он.
— Нет, спасибо.
— Сахар?
— Нет, спасибо, — принимая из его рук блюдце с чашкой дымящегося напитка, она переменила положение ног (снова не сумев поняв, с умыслом или без).
— Пейте, — попросил он.
Аккуратно поддернув брюки, он встал на колени и согнулся перед ней, словно в молитве.
Он снял с нее туфли, достал из внутреннего кармана пиджака тюбик с какой-то мазью. Она могла видеть сложно устроенный цвет его волос, огибавших озерцо белой лысины на манер пляжа: волосы его были совсем светлые у корня, затем, не спеша, темнели, а на конце, истончаясь, золотисто поблескивали.
Выдавливая из тюбика потихоньку, он начал втирать ей в ноги прохладную жидкость: в пальцы, в один за другим, начиная с большого — далее круговыми движениями по верху стопы — потом к косточке на внешней стороне, словно прорисовав ее заново — затем были вдумчивые касания пятки — осторожным перестуком по подошве (а она не знала даже, как правильно называются части ее собственных ног!) — и снова к пальцам — и потягивая их из стороны в сторону, словно проверяя, правильно ли, хорошо ли сидят жемчужинки на своих местах.
И другая нога — точно также. Такой маршрут он проделал и губами, не позволяя себе ничего, о чем не было уговорено — он даже не смотрел на нее, только показывал свой трогательный безволосый островок на светлой голове.
Потом и язык у него пошел в дело, и немножко зубы.
Чашку с кофе она не расплескала, но допить до конца не смогла, в итоге поставив ее, непорожнюю, на пол рядом с креслом.
Оргазмом свои ощущения назвать она не могла: вначале было щекотно, затем по телу — вверх — побежала теплая волна, следом другая, третья, растворяясь где-то в корнях волос, мелкими крупинками рассыпаясь по ушным раковинам.
В какой-то момент, словно по звонку, он замер и, резко выпрямившись, поднялся с колен, не забыв аккуратно одернуть брюки. „Footsession“ наступил конец.
Красивые ли у нее ноги, он не сказал. Поблагодарил только и вежливо улыбнулся (лишь дрогнули кончики губ; плохие зубы?). Она надела туфли, встала, подтянула поближе к коленям слегка задравшуюся юбку и, тряхнув волосами в несколько растерянном „прощайте“, пошла к выходу.
По дороге она сильно боялась упасть.
Можно было сделать вывод, что на главный вопрос она ответ получила — ведь улыбнулся, значит, ему понравилось. Но все равно, принимая перед сном душ, она снова спрашивала себя: насколько же „претти“ ее „фит“?
Через неделю Джессика позвонила ей, и она опять приехала по известному адресу. Тогда она обратила внимание, что ноги лопоухого человека обуты в туфли слишком узкие — остроносые, они были настолько тесны, что под мягкой кожей можно было разглядеть, похожие на обрубки, пальцы.
Нужды в столь странном приработке у нее больше не было — за квартиру она заплатила, а новых крупных покупок не планировала. Но воспоминание было приятным — теперь она поняла, что значит слово „нега“.
Ноги ее словно зажили самостоятельной жизнью. Они были вместе с ней, исправно исполняли свои обязанности, но героиня стала замечать, что иногда на ступнях ее появляются красноватые пятнышки, что они могут немного увеличиваться в объеме или напротив чуть-чуть усыхать, проявляя по бокам тонкие синеватые жилки. А иногда, отдохнув, выспавшись, и сама она не могла налюбоваться на свои ножки, две аккуратные египетские лодочки, готовые плыть по реке жизни и жизнью ничуть не испорченные.
Она стала покупать себе новые, все более дорогие кремы, завела умелую педикюршу-калмычку. Со временем она с закрытыми глазами могла воспроизвести каждый изгиб своих ног, включая невидимые арфы плюсны и крошечные палочки фаланг. Но красивы ли они? — на этот вопрос она ответить не могла.
Встречались еще и еще. Деньги — в точности по прейскуранту — исправно падали на ее счет. Он платил ей в долларах, но в пересчете на рубли. А однажды муж вернулся после очередного многодневного отсутствия и никого дома не обнаружил. Опустела сырная спаленка.
Исчезла и интернет-страница с объявлением „GirlsWithPrettyFeetNeeded (Age 18–30)“.
Они — я так думаю — счастливы. Прежде, чем исчезнуть из своей квартиры, да и из этой истории тоже, героиня узнала, что не бывает ступней красивых и некрасивых. В мире ног нет усредненных, единых на всех вкусов. Там все, в отличие, например, от мира лиц, крайне индивидуально. По крайней мере, в этом мы абсолютно свободны.
— По крайней мере… — сказал ей новый ее герой, как-то по особенному эту фразу подчеркнув.
Детей у них, скорей всего, не будет. Хотя кто знает…».
МОНИКИ ЭСПРИ
— Как ты собираешься привлекать мужчин? У тебя же совсем нет обаяния — эспри, — сказала Моника дочери, высокой хмурой красавице-старшекласснице.
Она ответила только подобием улыбки, как отвечает на многое, что изрекает ее многословная мать.
Когда Моника сообщает «мы поговорили», то обычно это означает бурный, нескончаемый поток ее слов, которому необязательны даже скупые камушки противоположной стороны: «да», «может…», «э». Временами столь же словоохотливый, однажды я сумел ее переговорить, но в тот вечер Моника смертельно устала: она с мужем и дочерью двенадцать часов проехала в машине, преодолев сотни километров с крайнего немецкого севера на север итальянский.
В горах было дело.
С Моникой и ее семьей я раз в год езжу в горы: однажды были австрийские Альпы (избушка возле нарядного коровника, сухой скрипучий снег), в другой раз — Альпы итальянские (красноватые горы, напоминающие халву, детвора повсюду, на лыжах без шапки).
Проживая бок о бок с этой семьей примерно неделю, я имею возможность вдоволь насмотреться на безостановочно разбрызгивающую слова Монику, на ее молчаливого мужа Вильфрида, на их дочь — блондинку-отличницу Юлию, изъясняющуюся, как учительница. Юлия почти не улыбается, из-за чего в свои 17 выглядит не девушкой, а ребенком — подчеркнутая трезвость ее суждений производит впечатление, скорее, трогательное.
На мой взгляд, в сосредоточенности и состоит «эспри» этой юницы, мечтающей быть попеременно то инженером, то летчиком, то кардиохирургом.
В отличие от матери Юлия не хочет быть ни «рокерской невестой», ни певицей, ни политиком.
Ни тем, ни другим, ни третьим Моника не стала, хотя в юности с мужем объехала на мотоциклах всю Новую Зеландию, хотя поет в самодеятельном ансамбле, хотя ее звали переехать из маленького городка, где она служит по социальному ведомству, в город большой, где освободилось перспективное место служки в региональном правительстве.
Юлия не противоречит матери — она просто удалась в отца, молчаливого интеллектуала со страдальческим (болеет) выражением лица. В семейных спорах, которые вспыхивают по любому поводу, дочь-блондинка и седой отец составляют почти бессловесную, оппозицию импульсивной Монике. Спором в классическом смысле эти сцены назвать нельзя: отец и дочь цедят по чайной ложке, а Моника выговаривает множество самых разных слов — и все получается беззлобно и смешно.
Две светлых тени против рыжей.
Взлохмаченная грива ее всегда была рыжей, а недавно приобрела немного морковный оттенок — Моника закрашивает седину. Она много гримасничает, и от того, что зубы ее немного выступают вперед, производит впечатление забавной обезьянки, вечно занятой, суетливой, которую нельзя воспринимать до конца всерьез.
К тому же сама себя она обожает всерьез не принимать. «И я, конечно, облажалась, все стояли и смеялись», — большинство ее малых частных историй завершается так. Рассказывая, ей нравится изображать себя недотепой, и в этом нет жажды утешения: это тот сценарий, который почему-то должен реабилитировать ее в своих собственных глазах. Если верить Монике, то у нее что-то получается, не потому что хороша, а вопреки тому, что она «такая».
В горах, когда мы с Юлией катаемся на лыжах, она гуляет с мужем по окрестностям, а, встречаясь с нами вечером на кухне, на разные лады повторяет, как много они прошли, как сильно она что-то напутала и как бурно они поругались; «и тогда я кинула в него сковородку» — такой у нее эвфемизм домашнего чепухового конфликта, происходящего, скорей всего, в ее собственной голове.
Эспри она конструирует из вечного соглашательства и веселой подвижности. Она — живая и от природы, но временами кажется, что ее кто-то подстегивает, кто-то говорит ей в ухо, чуть скрытое комковатой рыжиной (у нее лохматая имитация «каре»): «вперед, ты должна» — встрепенувшись, она снова производит огромное количество действий — дом, семья, кружок один, кружок другой, новый проект на работе, курсы повышения квалификации, планы на отпуск (муж болеет, надо побаловать).
Моника никогда не говорит «нет». Она, даже не дослушав, выпаливает «здорово, конечно», а затем только наращивает вокруг осторожные «а, может быть», «а, что если».
Однажды еду в нашем горнолыжном домике взялся готовить я (был мой день рождения). «Да, конечно», — отступила она от плиты, присела на диван, взялась за книжку, но усидеть, конечно, не смогла, и вскоре уже стояла рядом, мешая мне чистить картошку (а затем обсыпать розмарином, облить маслом, поставить в духовку), предлагая помощь, надоедая, по-правде говоря — Моника иногда забывает, что иностранцам трудно бывает сосредоточенно заниматься сразу двумя непростыми занятиями: готовить на чужой кухне и пытаться на иностранном языке уследить те тонкие связи, которыми соединены самые разные темы — будущее Юлии — путешествие по Шотландии — горестная история коллеги, которая развелась — счастливая история безработного, которому Моника нашла занятие — пруд в их саду, который надо вырыть заново — козы, которых она бы снова завела, но времени нет — нет же совсем времени — «годы не те».
Искусством ее мужа — слушать не все, а только главное — я не овладел. А может быть, я не распознал еще, что там у нее должно быть главным — ведь мы же только друзья.
В общем, в итоге мясо с картофелем, салат капустно-морковный и морс готовила она, а я только пыжился.
Как многие болтливые люди, Моника не дает увидеть свою суть, давая лишь понять, что говорит, скорее, сама с собой, глядя куда-то внутри себя, улавливая только сильные отзвуки внешнего мира, какие-то особенно четкие сигналы, и, согласная всегда говорить «да», имитируя полнокровный разговор, она может сыпать банальностями — например, тем газетно-публицистическим сухостоем, который принято выказывать успешным немецким женщинам ее возраста.
Она отзывается на знакомые слова, а не на новые смыслы. Самые удачные ее формулировки мне кажутся заученными:
— Говори сейчас, — любит она повторять своему супругу-молчуну. — Когда я умру, ты будешь жалеть, что мог сказать, но не сказал.
Он не протестует, но и книжной учености следовать не старается, оставаясь ровно таким, как был: суховат, молчалив, начитан.
Как не разгадал я толком тайны Моники, так неведомо мне и то, как они познакомились, почему стали мужем и женой. Ни он, ни она о знакомстве своем никогда не говорили. Моника утверждала только, что была отчаянно влюблена, но, глядя на исполнительного Вильфрида, мне трудно согласиться, что он способен стать причиной любовного отчаяния. Сюжет напрашивается менее драматический.
Он тоже романтик, но по-мужски: любит объезжать свои мотоциклы, у него их несколько, готов ездить часами — чтобы ветер в лицо. Молча.
«Привлекать мужчин», — сказала она.
Как и большинство немок в районе пятидесяти, всей своей жизнью Моника старается транслировать исконное, неотчуждаемое право женщины на равноправие: она много работает, она состоялась, как специалист. Смысл, заключенный в глаголе «привлекать», был совсем из другого сценария — женщины-цветка, приманивающего своим ароматом — «эспри» — сосредоточенных мужчин-шмелей.
Ее мать была домохозяйкой: вырастила двоих детей, подрабатывать бралась, только в кратковременные моменты безденежья. Умерла по немецким меркам рано. В шестьдесят с небольшим.
Отец Моники, немного карикатурный дед с тросточкой, приходит к ней по воскресеньям из своего домика, расположенного неподалеку; они говорят на фризском — гортанной смеси немецкого и голландского. Он болен (рак), но держится. Их ссоры давно в прошлом: он нуждается в дочери, дочь считает себя обязанной помогать ему, оба знают это, и ведут себя с виртуозной дипломатичностью: если бы я не знал прежних сложностей Моники, то, участвуя в чаепитиях в саду их дома, вообразил бы гармоничное соединение поколений: дед — дочь — внучка.
Внучка с дедом дружна. А Монике отец мешал. Она рассказывала, что он не давал ей денег на образование; по его планам, закончив школу, она должна была выучиться чему-нибудь женски-необязательному, выйти замуж, родить детей — желательно побольше — уйти на полставки, построить с мужем красивый дом, вести хозяйство, состариться также, как случилось это с его женой, и с его родителями, и предками тех — также живших в этих, плоских, как тарелка, местах недалеко от Северного моря.
Ее несогласие было бурным, но непоследовательным: Моника пошла на необязательные курсы и рано вышла замуж, но потом стала заочно учиться в университете, а дочку родила, когда точно стало ясно, что в большой город они с мужем не переедут, потому что в этом, маленьком, инженеру проще найти хорошую работу, а она — его жена.
Все та же логика: сначала «да», а потом эрозионное «…а может быть», «…а что, если».
Дочь Моники уверена в себе больше матери, она очень хорошо учится и главную трудность в жизни видит только в том, что ей все предметы даются чересчур легко — непонятно, чем ей следует заниматься во взрослой жизни. Она легко разгрызает математические задачки, она с чувством играет на виолончели, она неплохо поет (в отличие от матери, голос у нее не только громкий, но и интересно окрашенный). Единственный упрек, который я могу сформулировать: Юлия немного искусственна, у нее несколько заученный, затверженный образ мыслей — нет живости ума, небанальности, которая у талантливых детей проявляется сама собой, а у взрослых становится результатом долгой умственной работы. Дочь инженера.
Прошлой осенью я снова гостил у Моники (ее вечно много, поэтому мне кажется, что я приезжаю не к ее семье — молчаливой, акварельно исчезающей — а именно к ней). Юлия была необычно весела: много и невпопад смеялась, одета была с шиком обезумевшей гувернантки, неумело накрашена — слишком густо и темно для натуральной блондинки с нежной белой кожей. Я вспомнил тот разговор об «эспри», пожелал мысленно, чтобы девочка нашла свой тон, свою краску, свой голос, не пытаясь неумело копировать мать, которая, в свою очередь, не очень-то изящно выращивает в себе невротически-веселое «эспри».
Моника все время куда-то бежит, она словно сдает экзамен: это свойство, обычное, например, у жен нуворишей, чувствовать в ней очень странно.
Я не понимаю причину ее суеты. Моника за все берется, она все стремится довести до конца: она хочет быть и специалистом, и матерью, и женой, и хозяйкой, и благотворителем, и певицей — и, не умея останавливаться, однажды уже лечилась в клинике от нервного истощения. Она не хочет останавливаться, и это, наверное, правильно — единственное, чего я боюсь, не померла бы, зарапортовавшись, не заболела б.
Жалко. Она мне не чужая.
— Скоро я брошу Москву и перееду в Берлин. Тебе будет у кого пожить в столице твоей родины, — говорю я Монике.
Она смеется, торопливо благодарит, слушая — я понимаю это даже по телефону — только себя, с собой одной ведя какой-то не совсем понятный мне спор.
Недавно была концерте, где пела под настоящий саксофон и, конечно, облажалась, хотя ее все хвалили.
— Им по двадцать, а мне 50. Уму непостижимо!
Думая, что понял ее, я рассказал историю Ингрид Нолль, немецкой домохозяйки, которая вначале вырастила детей, а затем только, в 56 лет, взялась за исполнение своей мечты: она начала писать детективы, и книги ее переводят теперь на иностранные языки, включая русский.
Меня Моника не услышала: считая, что должна восхититься писательницей, она бурно это сделала; я не стал делиться с ней своей мантрой, которая мешает мне свалиться в уныние — начинать сначала никогда не поздно, пока живешь — живи, действуй, будь…
Прошлой необычно погожей осенью, мы весь день катались с Моникой на велосипедах по Восточной Фризии, от деревушки к деревушке, вдоль моря, велосипедными дорожками, мимо идиоток-овец, выхаживающих по зеленым дамбам в своих свалявшихся желтых шубах. Моника сноровисто крутила педали, подробно рассказывала историю этого края, на почти крайнем немецком Севере, где живет ее род уже давным-давно: там — еврейское кладбище (остались только покосившиеся довоенные надгробья, в войну всех вывезли и поубивали), а там — церковь, которая «пляшет» (подвижный грунт, сильно ниже уровня моря), а выросла она на хуторе (тоже недалеко), а в школу пошла… Она была оживлена, но без всякого старания — излучала несуетливую уверенность, ровный насыщенный оптимизм, чего я прежде в ней не замечал и даже не думал, что она на такое может быть способна. Я боялся сверзиться с велосипеда (и пару раз опасно вильнул), но все же поглядывал на плосковатое, немного обезьянье личико, на рыжие лохмы с заплутавшим в них солнцем; я думал, что в другом месте — если б уехала, как хотела, если б давно отдалилась от родного дома — вряд ли была бы она счастлива в такой же степени. Или несчастлива в той же, минимальной, в общем-то, мере.