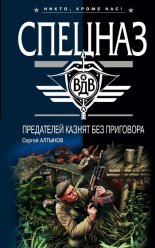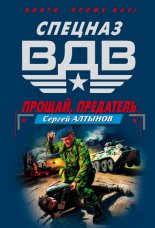… и просто богиня (сборник) Кропоткин Константин

Ничего ей, конечно, не сказал. Она бы меня не услышала. У Моники вечный собственный спор.
Я ВИДЕЛ ЖОПУ МАДОННЫ
Я видел жопу Мадонны.
Она небольших размеров, аккуратно сконструированная, белая, округлость свою несколько утратившая, но более чем пристойная для женщины пятидесяти трех лет.
Не скажу, что я, оказавшись в амстердамском Ziggo Dome рядом со сценой, был чрезвычайно счастлив разглядывать увядающий женский зад, но что ж поделать, если Мадонна сама назначила свою жопу одной из кульминационных точек нового шоу: примерно в середине программы она вышла на длинный подиум и, в этот момент необычайно похожая на злую ведьму (белокурую, с гладким фарфоровым лицом), расстегнула на черных в тонкую полосочку брюках боковую металлическую молнию, и, повернувшись в залу, выпростала описанный выше зад, разлинованный сеткой колготок на мелкие квадратики.
«Вы хотите видеть мою жопу? — вопрошала Госпожа безо всяких слов, поводя задом своим на незначительном расстоянии от протянутых к ней рук. — Смотрите! Любуйтесь! Вот моя жопа!». И не была предела ликованию — словно есть что-то удивительное в наличии у мадонны ягодиц.
А еще она показала нагую жилистую спину и надпись на ней, на английском сообщающую, что и «страха нет». Я подумал, что если бы Мадонна могла вырвать из себя куски мяса без ущерба для здоровья, то она, без сомнения, это бы сделала.
А затем на сцене возникло пианино; под его звуки Мадонна предъявила неистовствующей публике и свою страдающую душу — с надломом, которому хотелось верить, она спела, «как девственница». «У жопы тоже есть душа» — в темпе рваного вальса сообщала Мадонна, что последствий не иметь не могло — она приняла помощь от мультяшной красивости смуглокожего юноши, который помог ей вернуть штаны на место и затянуть жесткий корсет — и удалилась. Дальше. Кричать и дергаться.
И вой несся ей вслед, и стон, и клекотание.
Прежде, чем вынуть жопу, Мадонны хлестала виски, палила по мужикам из автомата, пускала кровь — с пугающей точностью шлепающуюся на огромный экран. Я подумал, что она никогда не была веселой. Была: хулиганистой, томной, оргазмирующей, бунтующей, гогочущей и развязной. Веселой не была.
«Я вас всех на хую вертела», — говорила одна девочка, и неизвестно, на чьем хую, где у девочки хуй. Шоу Мадонны про то же самое. Да, вертела, всех.
Микки-маус, голосом которого она пела тридцать лет тому назад, никуда, конечно, не делся — но писк его электрифицирован. Песни ее глупы, а гармонии — временами — великолепны. Добро и благодать она распространяет с точностью, выверенной по «Нью-Йорк Таймс». Деспоты Мадонны безусловны: в видеосолянке, которую под наваристый саунд показывал огромный экран, нашлось место и белорусскому диктатору, и французской националистке, и американскому гомофобу. Фавориты ее очевидны: мужчины на сцене, конечно, целуются, выхаживают на каблуках, вертят безупречными задами. Возмущение моралистов в Питере, где Мадонна тоже выступит, запрограммировано, как ожидаемы были и сладострастные пересуды римлян — итальянцам понравилась жопа Госпожи (а турок предсказуемо взбудоражила ее голая грудь).
Она преподносит ровно столько шоу, чтобы заведомо возмущенные возмутились, зеваки, которым нужна жопа, жопу увидели, а служители культа Мадонны Луизы Вероники Чикконе — а он, без сомнения, существует — исполнили все, культу сопутствующие, ритуалы: купили футболки, трусы и плакаты с маркировкой «MDNA 2012», спели все, выученные назубок, песни, покричали, попрыгали, поколотились в пароксизме.
Жопу Мадонны я рассмотрел не без любопытства — когда мне еще представится возможность узнать, как стареют жопы хватких американских миллионерш? А вот на служителей культа Госпожи, тянущих к ней руки с пустыми совсем глазами, глядел не без брезгливости. В поклонении кому-бы то ни было есть что-то безнадежно ущербное, хотя, конечно, дух захватывает глядеть, как вертятся, движутся, блещут тонны сценической техники: троекратный экран, то расходясь, то соединяясь, танцует балет, куски сцены и растут и опускаются — все происходит ровно в срок; высокоточное производство, запрограммированное изумлять, работает безупречно; оно бесчеловечно в своей великолепной расчисленности, от него не оторвать глаз — им любуешься, как любуются великолепно функционирующей, сложно устроенной машиной. Энергичные, жесткие, сочные представления Мадонны — это редкий случай, когда «грандиозно» не звучит преувеличением.
Я подумал, что она — ловкий политик: могла бы, спев свою «Какмолитву», провалиться под пол под колокольный звон и не вернуться, вызвав религиозный совсем экстаз. Но нет — снова явилась и в финале с истошной яркостью заверила, что культ MDNA невсерьез, что шоу — это шоу. То есть праздник.
Из концертного зала в амстердамские выселки выходил с женщинами зрелых лет. Они — вспотевшие, усталые — были в мятых футболках с мятым же лицом Мадонны — живое напоминание, что и бабушки были девушками.
Наверное, этот тур у Мадонны не последний: если в пятьдесят три она так хорошо контролирует свое тело, то почему бы ей не кричать и не кувыркаться на сцене в пятьдесят пять? пятьдесят семь? шестьдесят три? Жопу, как бы хорошо та ни сохранилась, она, я надеюсь, зачехлит. Зная о вульгарности все, Мадонна — я надеюсь — знает и то, что не бывает нелепых богородиц. Живописно страдающих — сколько угодно, а жалких — нет, не бывает.
ПЕЛА
В воскресенье вечером пела певица пронзительного голоса, меццо-сопрано. Пела в замке Кверчето, средневековом, из серо-бурого камня, на горе в окружении плюшево-желтых холмов.
В длинном помещении, принадлежащем тосканскому маркизу (его так тут по титулу и зовут — «Маркиз»), стояли столики, покрытые белыми бумажными скатертями, на них бокалы с красным вином, впереди вагоноподобной комнаты стоял черный рояль, а за роялем сидел аккомпаниатор: одухотворенно подняв подбородок, он показывал публике белую плешь меж черной, сложенной из двух подков, щетины. Он жмурился от наслаждения, выколачивая из рояля музыку.
А она пела.
Скуластое лицо ее было украшено пятнами румян. Глаза были широко раскрыты, и (как мне чудилось на отдалении) трепетали густо намазанные ресницы. Она прикладывала к невысокой груди тонкие руки с алыми ногтями. И рот раскрывала широко-широко, удивительным образом не напоминая человека на приеме у стоматолога.
Она пела и это трудно было не заметить.
Плечи ее покрывала лазоревая шаль с густой опушкой из бахромчатого золота. Складки длинного черного платья, морщины цветной шали сдвигались по чуть-чуть, налево и направо, вниз и наверх, стараясь будто подпеть певице, образовывая невидимый тонкий шлейф, — стараясь, я думаю, затереть остроту пронзительного меццо, щерившегося во все стороны, вынуждающего болезненно дрожать барабанные перепонки.
От наслаждения ли жмурился аккомпаниатор?
Певица пела итальянское оперное барокко, насаживала верткий его орнамент на иглы, прибивала музыку к воздуху и, по совести говоря, походила больше не на оперную диву из Парижа, как посулила афиша, а на модистку, пришивающую бордюр к подолу сложного платья.
Ей — анилиново-яркой — хотелось выглядеть куклой. Она не без изящества отыгрывала свое желание, помогая себе ломкими движениями загорелых рук, покачиваниями головы и высокой белокурой прически. Подбираясь к концу оперного сочинения, она ныряла голосом на неглубокую глубину, умолкала резко, словно завод в узком теле иссяк.
Это было заводное меццо-сопрано. И ни единой секунды на концерте я не скучал, потому как певица со всем возможным аффектом велела не принимать себя всерьез и, увидев вытаращенные глаза ее, можно было смешливо вытаращиться в ответ, или, глядя в широко раскрытый рот, подумать запросто, а можно ли певицам удалять гланды.
Мне понравилось. К тому же в антракте снова давали вино из погребов маркиза. Игривая вычурность места дополнялась временем — плыла южная, густая, как чернила, ночь, и крупные светлые мотыли плясали вокруг развешанных по стенам фонарей (старинных, а как же).
А в понедельник поехали в Вольтерру, чуть подальше от нашего дома. То же тосканское Средневековье, только гора выше, и на вершине ее не замок, где всего 36 жителей, как в Кверчето, а целый город — там самая старая площадь Италии, там в сводчатых небольших помещениях магазинчики с поделками из матового алебастра, из оливкового дерева, из цветных камушков.
И там тоже пела певица.
Другая.
На клоунессу она была не похожа, она ею была. Залихватски заломленная шляпа из черного фетра на черных жестких кудрях. Боа из трепещущих лиловых перьев вокруг шеи. Черные стрелки в углах прищуренных черных же глаз, придающие лицу выражение несколько хищное (и уж во всяком случае, отчетливо кошачье). Разбитые ботинки, незашнурованные, напоказ выставляющие свою неуместность с этим узким в талии, цветочного силуэта зеленым платьем, чуть блеклом из-за дорожной пыли.
А пела она у стены каменного дома, в ледяной его тени, отрезавшей большой кусок узкой улицы, в этот жаркий день щедро залитой золотом солнца. Она стояла в полутьме у микрофона, притоптывала бахилами — она пела, а ей подпевал музыкальный какой-то аппарат, тоже, как и она, хлебнувший пыли. Иногда она кивала ему, или, понажимав ногами на педали, меняла звук — впрочем, то могла быть всего лишь игра на зрителя, суета, служащая напоминанием о трудностях уличного артиста, который себе и жрец, и жнец: «подайте денежку». Чемоданчик впереди нее раззявил свою плетеную пасть: внутри были пластинки, медяки и, написанное на итальянском, предложение, класть медяки и брать пластинки.
Она была изящна. Ее фигура была из тех, которые жаль, если одеты они, как попало, без почтения к точным и тонким линиям груди, талии, бедер.
Она была молода. Или просто так загорела, что изъянов кожи не было видно — только цельность свою она предъявляла миру, а мир — обступивший ее на почтительном расстоянии, был многолик. Люди гуляли по старому городу, следовали туристическим условным рефлексам, рассматривали притиснутые друг к другу темные дома, — и замирали, удивленные неуместной для уличного жанра терпкой силой женского голоса.
Она была красива, что было видно и в клоунском наряде. А прекрасна была, — потому что пела. И мне не надо прятать в словах раздражение, или неприязнь, или насмешку, как в случае с пронзительной меццо-женщиной, описанной несколькими абзацами выше.
Она пела. У нее был хрипловатый голос, прокуренный словно — землистый, как (здесь должна быть метафора из локальных) — как тосканское вино, с особой его глубиной, уверенной правильностью, вольготностью вещества, существующего без запретов, без преград, на свободе, стесненного только обстоятельствами естественными, как солнце, влажность воздуха и температурные перепады.
Она была, наверное, не совсем в себе: странно щурилась на свет, и жесты ее были не совсем точны. Она пела и выстреливала свои взгляды вслед проходящим: услышали ли? поняли? кинули денежку?
Я кинул. Пластинку взял. Зачем с таким голосом, с внешностью такой стоять на улице, как будто нет сцен лучше и больше?
Мы ушли пить кофе возле городской стены, и, когда уже и с коржиками было покончено, увидели ее снова — она прошла мимо, впереди себя она толкала тачку, в которую было составлено ее музыкальное имущество — усилитель, электрическое пианино, гитара, мандолина, микрофон и проводов черный клубок. Она загребала слегка ногами — а как еще ходить, если ботинки разбиты и не завязаны шнурки? Она шла куда-то вниз, к желтым холмам, наверное в сторону парковки, к машине может быть. И мне не надо придумывать, что шла она в солнце — вечерело, и впереди полегоньку расплеталось солнечное полотно.
Пластинку ее заслушали до дыр. «Nefertiti in the kitchen». «Кухонная Нефертити».
Прекрасно и жаль. Жаль — и прекрасно.
«ЛЕНГИЗА»
Моя мама очень расстраивается, если я пишу о грустном, ей чудится грустное даже там, где прописывал я, например, отчаянную радость; как и все матери, она бывает тревожна без нужды, готова утешать, даже если записки свои я пишу, как сейчас, сидя на берегу итальянского горного озера, а не в Сибири, у окна с видом на трамвай, где она меня читает; не спрашивайте меня, почему я не могу изменить жизнь своей матери к лучшему — ответ будет длинным, многосоставным, а я хочу написать что-то оптимистичное безусловно. Например, о женщине, которая такая же маленькая, как и моя мать, и с упрямством невыразимым бурунит пространство и время.
«Ленгиза».
Хотел дать ей другое имя и даже посмотрел в Интернете, какие бывают татарские имена (ах, какие душистые бывают имена: «Айсылу» — красивая, как месяц, «Тансылу» — прекрасная, как утренняя заря, а еще «Ляйсан», «Алия», «Калима», «Миляуша»), но в уме я все равно называю ее «Ленгиза» и боюсь сбиться, а заодно сбить с толку и читателя — невоображаемого на этот раз, конкретного; мама, прочти, пусть тебе будет радостно: я сижу на берегу итальянского озера и тешусь иллюзией, что жизнь прекрасна и такой будет всегда, и будет плескаться у ног чистая вода, и будет небо казаться выгнутой в бесконечность синевой, и всегда будут эти нескончаемые «и», которые я люблю нанизывать, одно за другим, убеждая (кого?), что бытие текуче, оно безразрывно — и длится, счастливо тянется тихий синий свод.
Ленгиза.
Она терпеть меня не может, а я с удовольствием ее разглядываю.
— Ну, расскажи-расскажи! — требовал я от Ленгизы совсем недавно; мы сидели у художников, в мастерской, среди голых женщин и лошадей, пили шампанское и чай, ели рыночные пирожки с яблоками. — У меня есть две истории, я их все время рассказываю, всем уже надоел, мне нужна какая-нибудь новая. Расскажи, ну?! — мне было весело, а Ленгиза, по обыкновению не терпя дуэтов, отвечала невнятно; не видела она ничего смешного в том, что к принцессам вхожа и с принцами на короткой ноге.
Ленгиза, крошечная юркая татарка, снова была в Индии, опять возила русских по заповедным местам, где особы аристократических кровей сдают свои дворцы туристам, холят их, как могут, катают на лошадях, устраивают им оздоровительные процедуры, втюхивают, качая, должно быть, цветными тюрбанами, свои кремы, мази, притирки, а Ленгиза числит себя по этим делам большой специалисткой, и мне неведомо, как она к этому пришла — мы познакомились, когда она уже вовсю зарабатывала лечебными массажами, торговала пахучими мазями, колеся по стране, добираясь до заповедных шаманских краев и нигде не зная отпора.
Она терпеть меня не может — и потому в том числе, что меня веселит нынешнее дело ее жизни, я не могу принимать его всерьез, хоть и допускаю, что оно действительно также волшебно, как, например, индийское кино, к тому же наряды индусов — шальвары и кофточки с блестками — очень впору Ленгизе, сидят на ней так, словно в них и родилась востроглазая татарка и никогда не носила, например, халат поломойки.
А она носила, что вспоминать не любит. Иностранцев в Питере, у которых в начале 90-х мыла полы, она называет своими друзьями, что тоже правда, но вначале она поступила в домработницы, а потом уже стала дружить — иностранцы, немцы в особенности, легко ломают сословные барьеры, они их часто и не видят, чего о Ленгизе не скажешь.
Полов в чужих домах не мыла, дружила только — пусть так. Хоть меня и веселит эта стыдливость.
Ленгиза меня не любит, а я, не желая симметрии, напоминаю себе, что она мать-одиночка, в Питер прибыла из глухой деревни; у нее комната в коммуналке, эгоистичный несамостоятельный сын, у нее путаная профессиональная жизнь (завхоз? поломойка? торговка мазями? массажистка? кто еще? что дальше?) и условное образование — и попробуй-ка выжить с таким багажом в большом городе, а она не живет, а буквально скачет, в зависимости от обстоятельств, отыгрывая любимые сценарии (то «маленькая девочка», то «женщина-ведунья»), которые, в отличие от одеяний индусок, не очень ей впору.
— Я им столько людей привела, деньги на мне сделали, я им и сказала, давайте, стригите. — Ленгиза возила русских в Индию, там по магазинам с ними ходила, между делом вытребывая себе мелкие подарки от торговцев, которые правоту ее немедленно признавали, благодарили, как могли — то чаем, то отрезами ткани, то самодельными, жареными в масле, пирожками, или, вот, подравняли задаром ее жесткие, черные волосы, которые она обычно заплетает в косу.
— А что? — хихикнула, рассказывая, Ленгиза, — это же игра.
Она играет, пробует, ни от чего не отказывается, глаза-буравчики выпытывают, что и насколько. И я очень рад, что она, раз закинув удочку, не тиранит меня больше божественным происхождением своих индийских снадобий — и без меня есть много людей, которые могут ей поверить, и, может быть, они более правы.
Ленгиза восхитительно бодра, энергична. В путешествия берет свою подушку, ежеутренне по часу или два делает зарядку (перекатывается на спине, наклоняется, встает на голову — а ей под пятьдесят).
— А как я буду людей лечить? Кто мне поверит, если больная буду? — а руки (она мне однажды лицо в лечебных целях терла) жесткие, сильные, цепкие.
В гостях у художников, любуясь конями, никакой истории в мою коллекцию Ленгиза не преподнесла — и не хотела, да и не могла: то, что мне кажется невыразимо смешным, для нее наполнено иным смыслом.
Ленгиза хотела бы владычицей стать — желание комичное у крошечной юркой женщины, которая будет крошечной юркой старушкой (а жить она будет долго и счастливо). Шла как-то по улице, а ей навстречу мужик бежит, а за ним целая толпа гонится. «Стойте!» — крикнула Ленгиза, упреждающе подняв руку. И послушались они ее веленья, и кинулись прочь. Ей было бы приятно, если б, слушая такой рассказ, люди восхищенно ахали, но я не могу. В божественную мощь удалой торговки снадобьями я не верю, я верю только в ее человеческую силу: она живет своим умом, рассчитывает только на себя и, не имея иллюзий, не очень — то правдоподобно их инсценирует. Меня веселит этот контраст, эта трогательная комичность: крошечная татарка в цветастой курточке вздымает ладошку — и амбалы уж позабыли бить вора, бросились наутек. «Он же один, а их много», — обосновала Ленгиза свое вмешательство в чужой самосуд.
А еще она слониху мыла.
— Что ты к ней привязался, — не без раздражения, хихикнув только вежливости ради, выговаривала мне Ленгиза, когда мы сидели у художников.
А мне было смешно. Нет, ну, разве ж не чудо?
Однажды Ленгиза приехала в Индию, поселилась у знакомой королевы, а та в знак особой симпатии разрешила гостье помыть священную слониху. Ленгиза встала рано-рано, пошла куда надо, получила ведро и тряпку и стала тереть священную слоновью шкуру, непокорную, жесткую, а прислуга королевы слониху в узде держала, на всякий случай, чтоб та бед на натворила.
— Но мы с ней, конечно, поняли друг друга, — рассказывала Ленгиза.
— А это Ленгиза, — торжественно представляю я теперь ее новым знакомым. — Ей в Индии слонов мыть доверяют. — Ну, расскажи же, расскажи! — а она сердится, поджимает свой маленький рот, измазанный ярко-алым, жестко блестят глаза-глазки.
Не любит она меня, терпит только, злится, но терпит — может быть, полезен могу быть, а может такая у нее привычка — все, что мешает, терпеть, и нестись дальше, туда, где игры другие, где есть иные близкие ей правила.
— Они хотят нас отравить, еще мой папа говорил, — объявила она в последний свой приезд в Москву (из Питера проездом куда-то в Сибирь, где индийские притирки пользуются спросом). Неназванные враждебные силы ведут подрывную работу, травят потихоньку честной народ, добавляют гадости в еду, чтобы люди перемерли, освободив место (кому?).
Доказательств не предъявила, потому что папа врать не может, да и сама она чувствует враждебные силы, устроившие священную войну добру в ее лице, но ее не сломить, она знает как злу противостоять, а на ее стороне другие, добрые силы — могучие, древние, — которые хранятся, например, в сибирских горах; вот-вот вырвутся эти силы на волю и устроят всем врагам крахтибидох. Глаза ее блистали, а слова вылущивались твердыми камешками — Ленгиза знает правду, потому что она ее знает. Одна, воз большой, необразованная, а все успевает, за все берется — запел я себе мысленную мантру, чтоб не разозлиться без повода.
Зачем мне злиться на Ленгизу?
В метро — мы ехали вместе, вниз, по эскалатору, она на пару ступенек выше, потому что маленькая — вдруг резко замотала головой, хлеща себя острой черной косой по плечам цветастой ориентальной курточки, и заверещала.
— Что ты! — запротестовала Ленгиза. — У меня же все только начинается! После сорока я расцвела, как цветок! — и воздела руки к потолку, уплывающему вверх в черноту. И рот, по обыкновению излишне намалеванный алым, упрямо поджала — знает, что говорит, она знает.
Разве ж можно на нее злиться?
И все-таки я ее иначе назову. Она меня не любит, подозревает в чем-то дурном и может обидеться. Пусть уж тогда по другому зовется — Ленгиза, например.
МАТЕРИ И…
Она сказала, что хочет от меня ребенка. Сказала во второй раз — отложив вилку, подперев рукой голову, навалившись слегка на стол — с той же серьезностью, как и в прошлый раз, когда мы ели и пили, из чего я сделал вывод, что она не шутит.
Зачем шутить дважды?
Зачем ей дети от меня, я не знаю; я не стал бы заводить от себя детей, и вряд ли дело в том, что я слишком мало зарабатываю. И не в том дело, что я не хочу повторить своего отца, бросившего мою мать (зачавшего ребенка по любви к ней, его не любившей, брезговавшей им, и бросившего ее из — странной, наверное — мести).
К девочке, которая меня младше, которую я знаю всего ничего, у меня есть только симпатия. Она похожа на мою сестру; иногда свет падает так, что я вижу не скрученную в тонкий жесткий прут лимитчицу-москвичку, а собственную сестру: у девочки такая же длинная, слегка неточная переносица и рот аккуратным кружком. Глаза у моей сестры покрупней, но все равно очень похожи.
Очень.
Только эта девочка читает много, а моя сестра нет. Надо бы спросить у девочки, играет ли она в шашки. Моя сестра хорошо играет в шашки, хотя в математике слаба. Сестре, в жизни совершенно нерасчетливой, каким-то образом видно, что будет, если сделать этот ход или тот.
Я в шашки всегда проигрываю.
Я проигрываю всегда, даже если объективно наоборот. Даже если я люблю и меня любят, даже если я работаю только такую работу, которая мне нравится, если вижу столько мира, сколько хочу, имею ровно такое будущее, какого по моему — придирчивому, безусловно, — вкусу заслуживаю, даже если неписанная, как закон, анкета «Моя счастливая жизнь» испещрена плюсами в окошках «да», «да», «да». Я проигрываю, потому что меня оттягивает бездна. Я всегда смотрю вверх и все время чувствую, как теряю почву под ногами. Я жду, когда сорвусь, и все закончится для меня, не имея никакой возможности для продолжения и это верно, это уместно, это логично, а почему, не знаю.
Я не хотел бы от себя детей, и меня удивляет, что кто-то хочет по-другому — и дело не в том, что я страдаю залеченным комплексом неполноценности, что я, например, недостаточно хорош собой. Есть много людей, которых собственная внешность не волнует, они заводят потомство, потому что так получилось, потому что подошел срок, потому что хотели, потому что такова жизнь.
Мне кажется естественным, что мой генетический набор повторится только косвенно, через кузенов, кузин и племянников, через каких-нибудь четвероюродных, которые внешне могут быть сильно на меня похожи, а я буду похож на них, доказывая неоспоримо, что нас вычерпали из одного супового горшка; они, может, будут также, как я, требовать, чтобы их любили, они будут такие же вздорные, эгоистичные; они будут где-нибудь, когда-нибудь, мне наплевать какими и где они будут.
Она сказала, что хочет детей, что ей скоро тридцать, ей надо, и, возможно, дала также понять, что я — случайный кандидат. Женщины рожают от случайных. Женщины рожают «для себя» — и им важно только, чтобы у спермодонора не было горба, заячьей губы и шизофренических родственников. Они рожают, потому что им нужны дети, и наличие детей бывает для них наслаждением.
— Я хотела бы маленького, — говорила мне одна хорошая женщина, у которой своих четверо, в том числе взрослая дочка-карьеристка, которая замуж не хочет, и дитя без мужа тоже. — А я бы взяла его, — мечтательно говорила женщина-мать, обхватив у груди невидимый сверток, а в глазах ее ясно виделось наслаждение. Она хотела снова побыть матерью, и в этом желании было что-то эротическое. Она хотела слияния с маленькой душой, единения такого тесного, что я, застыдившись, начал нервно помешивать в чашке чай. Еще она сказала, что собаки заменой детям быть не могут, с собаками тяжелей, чем с детьми, когда они болеют, то видна только боль, а сказать они не могут и смотреть на их страдания нет никаких сил. У нее, в ее большом доме, две собаки, две визгливые тетки, мать-колбаса и дочь-сосиска.
Больше никогда не приближался я так близко к тайне материнства. И моя мать ответа мне дать не может, хотя она рожала дважды, она двоих вырастила — и всегда любила (меня сильней, нервозней, чем сестру, как часто любят тех, кого (и с кем) вынуждены оборонять (ся) — таких случайных). В истории моей матери не было выбора, она не думала о том, нужны ли ей дети, они у нее просто так получились, и у нее не было нужды предлагать изломанному хлыщу, на десять лет себя старше, завести с ним детей — просто потому, что она этого хочет.
Для женщин дети и выход, и избавление, и цель, и даже смысл.
— Детей не хватает, — любит повторять одна моя знакомая, родившая расчетливо, от того, кто будет любить ее дитя, о нем заботиться. Все проблемы трудноформулируемого, неявного толка она объясняет отсутствием детей, и, возможно, я захотел бы с ней согласиться, если б она не была так сильно похожа на душную клушу.
Эту центричность мне не понять. Хотя я и удивляюсь, что бывает по-другому.
— Мне надоели эти дети, — совсем недавно, остервенев, говорила приятельница, которую вконец заездила эгоистичная дочь. Мужчины ее тоже заездили, но меня удивил этот странный намек: будь ее воля, жила бы собой, другими материями бы жила, и о детях думала бы только гипотетически, в некоем далеком, абстрактном смысле, примерно также, как я об Австралии, куда бы хотел, или о Нью-Йорке, куда попаду вероятней, чем в отцовский стан.
Может быть, виноват мой эгоизм, может быть — нежелание неудобств того или иного рода, хотя не исключаю, будь я богаче, будь у меня, в мои скоро сорок, пустой дом, я бы думал иначе, мне, может быть, хотелось бы заполнить его детским гамом.
Нет у меня ни того, ни другого, как нет и желания поправить дело, взяться за ум. Не играть в свою жизнь также плохо, как в шашки.
Я не могу завести детей по любви. Могу по симпатии, приязни, воле случая, глупости — не по любви.
На компромиссы я не согласен. Зачинать детей по инструкции мне неинтересно.
— Какие дети? — насмешливо фыркнул я, притворившись, что не увидел всей серьезности этой девочки. Никакие.
Она будто того только и ждала. Мы продолжили есть и пить.
НАДЯ, ДОРОГАЯ!
Формально номер у нее третий. Первой была румынка Отилия с одним своим театром на немецких квадратных метрах, пополнившая галерею моих портретных «богинек». Затем появилась хорватка, которая была так скучна внешне и так удручающе неразговорчива, что я даже имя ее сейчас вспоминаю не без труда — а звалась она Анкой, как советская пулеметчица; ах, какие восхитительные параллели можно было б нагородить, если б эта женщина средних лет и известковой наружности оставляла не только кривые полосы по центру комнаты — жаль-жаль-жаль.
А теперь вот третья. Надя. Моет полы в моей московской квартире. Как в Москву из германий переехал, так и моет.
От природы Надя — блондинка. Сама мне о том говорила, когда мы разговорились о цвете ее волос — стриженая горшком, голова ее пыхает светом зрелого баклажана — чернильно-черным, то с синей, а то и с красноватой искрой. Выданное природой Наде не нравится, она противится доступными средствами — и вот баклажановое сияние распространяется по всей квартире, включая, кажется, даже самые отдаленные уголки, едва Надя оказывается в ее пределах, стягивает берет — то шерстяной, то фетровый, но непременно кривой, с крошечным тусклым цветиком у виска.
По возрасту она годится мне в тетушки, но именовать себя требует «Надей».
— Я всегда была Надей, не могу я по отчеству, что я… как эта… — махнула рукой, прищурила и без того узенькие глаза в две мелкие щелочки; лицо ее сделалось азиатским, напоминая о столетиях татаро-монгольского ига, оставившего русским не только «башмак» и «сундук», но и другие, более отчетливые приметы своего насильственного присутствия.
Кстати говоря, такие лица — скуластые, круглые, с глазами в прищуре и с желтоватой кожей — можно увидеть и в Германии, особенно в восточной ее части, и вряд ли в случайной похожести дело. Я вообще не верю в случайности, у людей похожих при равных прочих похожи и судьбы, как бы случайно они ни ткались. В Москве живет один человек, который частенько говорит моими словами и страдает теми же неврозами; а один немецкий знакомый собирает фаянсовых кошечек с тем же неистовством, с каким это, по слухам, делал и один питерский писатель. Немец книг не пишет, но я почему-то уверен, что есть и у него тайный дневничок с явными амбициями.
Надя напоминает мне Отилию и дело не только в маленьком росте («удобном, чтоб полы мыть», лезет в голову реплика человека из моей немецкой жизни). Круглая москвичка Надя, как и круглая румынка Отилия, тоже не столько ходит, сколько мечется, не столько говорит, сколько тараторит, не столько рассказывает, сколько дает понять. При ближнем рассмотрении отыскиваются, само-собой, и принципиальные различия: если Отилия застегивала свежеотглаженные рубашки от первой до последней пуговицы, вынуждая владельцев чертыхаться по утрам; то Надя, с той же тщательностью отутюжив, застегивает только две верхних, показывая не свое трудолюбие, которое следует у нее «по умолчанию», сколько заботу о чужом удобстве. Вообще, удивительно, как много о человеке может сказать деталь. Когда деталей много, то образ человека потерять легко и требуется уже более близкое знакомство, чтобы снова ухватить его суть, которая бросилась в глаза первым делом.
Похожесть двух незнакомых друг с другом женщин, живущих друг от друга в тысячах километров и говорящих на разных языках еще и в том, что в поломойки они пошли не от хорошей жизни: за прежнюю работу перестали платить, а у них дети… Отилия уехала в другую страну, откуда вот уж который год высылает деньги троим уже давно взрослым лоботрясам. Надя ездит из своего пригорода в центр Москвы, что по степени стресса, наверное, сопоставимо с пересечением государственной границы: сначала она едет на электричке, потом на метро, далее еще немного пешком — из хрущевского двухкомнатного рая в чужие хоромы, из магазинов «Пятерочка» — в «Седьмой континент», из жизни «все под рукой» — до цирка «попробуй, дотянись». Первое, что я сделал, познакомившись с Надей, организовал ей стремянку, но и сейчас стараюсь не думать о том, как она дотягивается до лампы под потолком, и что может случиться, если лесенка зашатается. Страха у Нади нет, она добирается всюду — свитера и кофты вдруг выстраиваются в аккуратные башенки, у цветка на подоконнике исчезают жухлые листья, бельевая корзина пустеет, а стиральная машина начинает ходить ходуном. Буквально вчера переехала коробка с коллекцией моих кепок, стоящая на верхотуре платяного шкафа — теперь большой красный куб подмигивает не из угла сбоку, а ровно из центра, как повелело Наде ее эстетическое чутье.
Иногда мы ведем разговоры об искусстве. Надя появляется на кухне, куда я во время ее визитов обычно прячусь с компьютером, и с тряпкой в руке делится впечатлениями: обычно это книжка с женщиной-автором, или телепередача с мужчиной-ведущим, или песня — тоже спетая мужчиной, только не спрашивайте меня их имена. Иногда предметом разговора становится ее коллекция настенных тарелок — ей их дарят клиенты, то настоящие, то бывшие. «Откуда только не шлют! — восклицает она и мчится за телефоном, в котором упрятаны снимки ее немалого собрания. — Места в квартире мало, жалко», — сокрушается, показывая на экране потертого телефона стенку, цветочков которой почти не видно из-за разномастных кругов с гербами и башнями.
Выслушав речь, скачущую реченькой, я говорю «да-да-да»; она, мелко покивав, итожит торжествующим «во-о-от» и убегает заниматься своими делами. Ясней всего ее музыкальные вкусы — я прячусь на кухне не столько от шума пылесоса или пыханья утюга, сколько от воплей радио «Шансон», буквально брызжущего тестостероном.
Наде это рыканье и бряцанье нравится, и я очень за нее горд. Надя своих пристрастий не скрывает, но никому их особенно и не навязывает — я это называю достоинством, а Надя, хоть в таких выражениях никогда не высказывается, неутомимо дает понять, что так оно и есть. Однажды, желая облегчить ей работу, я накупил каких-то тряпок, и получил разнос — прищурившись, в веселой такой манере она рассказала, что в тряпичном вопросе собаку съела, и тем, что я накупил, она пользоваться не будет ни в коем разе, потому что от такого материала остаются разводы.
— Ох, я уж столько всего перепробовала: и тряпки какие знаю, и порошки, — заявила она, я подхватил брошенную петельку, спросил, а давно ли Надя в поломойном бизнесе, она сказала, что уж двадцать лет, и все с иностранцами.
Первый иностранец, он был голландцем («высокий, солидный, потом на молоденькой женился и уехал»), достался ей случайно, а далее уже саму Надю приезжие гости столицы стали друг другу передавать, как эстафетную палочку.
— И англичане были, и голландцы, и французы, и немцы, — рассказала мне Надя. В скудном русском ряду, правда, я у нее не один. Раз в две недели она ходит к какому-то богатею, но удовольствия от работы не имеет. — Я уж не знаю, что делать. Что ни сделаю, все не так, — призналась она.
Русский хозяин привередлив, платит только за отработанное, на Рождество подарков не дарит, на премии скупится, а если Надя берет летом две недели отдыха («святое дело, на дачу уезжаю»), то отсутствие ее, в отличие от тех же немцев, не оплачивает.
— Уйду я от него, — сказала она. — Как найду замену, так и уйду.
— Он относится к вам, как к прислуге, — предположил я, — а вы просто делаете свою работу, такую же достойную, как и у него.
Надя промолчала, но мысль, ей эта явно понравилась. В тот день она перегладила мне еще и все майки, хотя, вот, ей-богу, не понимаю, к чему эта пустая трата времени.
У Нади муж. У Нади детей двое. У нее дача, где с семьей она отмечает праздники. Есть машина, на которой они возят в город соленья-варенья. Однажды Надя пришла в сиренево-бирюзовом пальто-разлетайке. «Невестка привезла».
Разговаривать мне с Надей трудновато — имена ее любимых певцов мне ни о чем не говорят, в сортах поломойных тряпок я не разбираюсь, дачный бизнес для меня также далек, как татаро-монгольское иго — но смотреть на нее — живое удовольствие. Люблю профессионалов. Отилия больше угождала, чем работала; Анка не столько работала, сколько презирала «барчука в пижаме»; Надя занимается делами, вписываясь в чужой дом ровно в той степени, в какой это нужно.
Номер у Нади третий, но только формально — в моем личном рейтинге поломоек она занимает пьедестал почета и дело не только в том, что говорим мы с ней на одном языке. В принципе, теперь я понял, почему богатые и за границу ездят с персоналом — они везут с собой свои привычки. Я запросто могу представить себе ситуацию, что какой-нибудь иностранец, оттрубив положенное в Москве, уезжает, скажем, в Лондон или Берлин, и приглашает Надю в домоправительницы — она из тех, кто сам ищет себе работу, она из тех, кто умеет служить без прислуживания, на нее можно положиться. Расслабляться, правда, тоже не стоит. Охотно «давая понять», Надя и сама любит искать шифры в чужих словах. Однажды я рассказал, что прибегали соседи снизу, жаловались на воду с потолка, но у нас кроме пыли под кухонной раковиной ничего обнаружено не было. В итоге в тот же день, а точнее, немедленно означенное пространство под раковиной было отмыто, оттерто; порошки и всякие нужные в хозяйстве предметы выставлены по ранжиру.
— Зачем? Не надо, — лепетал я, растерянно и даже краснея.
А вчера оторопел.
— Это ваша книга? — она вбежала на кухню с моей цветастой брошюркой.
— Нет, — заявил я, не имея желания обсуждать мои творческие планы.
— У тебя там в кладовке много, я подумала… — сказала она, по обыкновению путаясь в регистрах вежливости. — Так читается легко, а то бывают книги, которые начинаешь читать и читать невозможно. Я подумала, автограф может…
— Они просто лежат, — отрезал я, уже коря себя за вранье.
Унеслась. А потом ушла, не попрощавшись. Смутилась? Обиделась? Оскорбилась?
Ну, вот издадут моих «богинек» — тогда и подарю. С автографом. «Дорогой Надежде!» — напишу я.
P.S
Он вручил его мне по инерции. Развернулся, протянул и, потом лишь, подняв глаза, смутился чуть.
— На, — сказал с запинкой смугло-лиловый мужчина. — Возьми, — на моем месте он, наверное, желал бы видеть женщину, а лучше красивую девушку, которая сочтет это внимание за знак, и одарит его мимолетной приязнью. Но в момент, когда торговец начал разбирать на ночь свой цветочный развал, шел мимо только один я. Других не было.
Букет его был некрасив: месиво бело-синих астр, розовато-коричневый бутон цветка неясной породы, большая и не очень потрепанная желтая хризантема. Некрасив.
Он вручил мне букет, и я поймал себя на мысли, что по случайности выгляжу точно таким же месивом из цветов: в кепке в сине-розовую крапинку, в бордовых штанах с лазоревыми подворотами, в фиолетовом свитере и странных тряпичных ботинках, имитирующих сине-бело-красный британский флаг. Я подумал, что прохожие могут решить, что я купил себе эти цветы для украшения, как бутоньерку, или что, может, мне подарили этот букет, догадываясь о нынешней моей любови к неразборчивому соединению цветов — к яркости без цели, смысла и умысла, имеющей желание сказать только «вам на меня наплевать — так и вы мне надоели».
Я подумал.
Я пойду с букетом, прозрачная обертка будет похрустывать в моих руках, а с почерневших цветочных корешков будет капать — торговец сунул мне цветы в руки прямиком из ведра, где они простояли весь день; долго напитывались влагой, прежде чем умереть окончательно, увянуть без всякого, в общем-то, смысла. В жизни что-то происходит, а смысл происходящего не понятен — его не вынести даже в постскриптум. Его вообще трудно вынести, если очень уж хорошо думать.
Я пойду с букетом по дороге, которая, следуя из центра, соединяет его с другими городскими кварталами наподобие змеи. Улица будет изворачиваться то влево, то резко вправо, открывая одни магазинчики и кафе, упрятывая другие.
Я пойду с букетом, и буду думать, кому отдать его — потому что цветы я не люблю. Букеты меня даже раздражают, потому что их надо ставить в воду, воду надо менять, но что бы ни делал, через день-другой разложение их будет уже очевидно, и надо будет выбрасывать их, они не будут помещаться ни в одно мусорное ведро, цепляясь мертвыми листьями, они будут разбрасывать скукоженные и липкие части себя, а ведь еще надо и отмывать сосуд от вонючей слизи.
Я подумаю, что можно подарить букет девочкам-старшеклассницам, в сложных позах сидящим за металлическом столиком на металлических стульях. Но девочки будет две, а букет один и ни к чему, выбирая, обижать их зазря.
Я подумаю, что можно подарить их старушке с белыми волосами, в отутюженных штанах из серого полотна, но у нее костыль, а кроме костыля большая сумка-кошель, и как она поволочет этот букет? А если она догадается, что я хочу не подарить, а избавиться от букета, то может оскорбиться, и будет права.
Я подумаю, что можно подарить цветы молодому мужчине в темном костюме клерка, догнать его, черного кузнечика, идущего впереди меня быстрым подпрыгивающим шагом, вручить цветы и уйти в сторону, ничего ему не говоря. Но зачем ему цветы от цветастого незнакомца? Что подумает он, если я отдам ему цветы?
Цветы — больше чем цветы, они — так принято думать — фиксация приязни, исполнение долга, тяга к красоте. Возьмите цветы и пройдите с ними по улице, лучше в одиночестве и вы поймаете на себе новые взгляды, на вас будут глядеть, гадать будут, почему букет? Зачем? И вряд ли даже в постскриптуме догадаются, что их могли всучить, лишь бы не выбрасывать.
Случайно. И нет в том ровно никакого знака.
Я найду цветам применение, уже почти поднявшись к себе на последний. На втором этаже, не думая, а повинуясь спонтанному импульсу, я положу букет на черный с синей полосой половичок возле двери соседки, одинокой и немного сумасшедшей женщины средних лет, которая любит тянуть себя за светлые длинные пряди и, выкатывая голубые глаза, требовать от собеседника «ну, скажи, ну, правда же, я права, да?..». В какой-нибудь неподходящий момент — у почтового языка, или с мусорным ведром у контейнеров, например — она нападет на меня и расскажет, как неизвестный поклонник задаривает ее роскошными цветами экзотических пород; он не дает ей проходу, она уж и дверь открывать боится — а вдруг втопчется в картонную коробочку с орхидеями, или в розу с лепестками необычайного синего цвета.
P.S. Рассказала.
РИТА
«ИДЕАЛЬНО»
А счастье у Риты получилось такое.
«Рита старалась вставать вместе с ним, хотя могла бы спать дальше, хотя вчера легла поздно, хотя Олег не обиделся бы, если б не стала она, слегка заваливаясь на каждом шаге, норовя будто подмести пол блеклыми цветами ночной рубашки, плестись на кухню, как на голгофу, идти к кофеварке, ставить под краники кружку (лучше ту, белую, с мелкими бычками, рядами их, похожими на дрессированных блох), искать молоко, находить его — обычно в холодильнике, а иногда и на столе, если ночью ей хотелось выпить кофе (с молоком, конечно, она всегда пьет с молоком, даже если эспрессо; с молоком и без сахара). Рита могла бы не садиться с кружкой кофе за кухонный стол, покрытый бордовой скатертью с едва видимым тиснением по всему полю, не пить кофе, не смотреть впереди себя, вяло притворяясь, что видит Олега, что может с ним говорить и хочет. Олег бы не обиделся, если бы Рита и дальше спала, он бы допил свой кефир, которым стал завтракать вместо хлеба с сыром, когда врачи установили у него повышенный холестерин (как пугливы мужчины, особенно отменно здоровые), он бы напялил свое серое пальто, ушел бы на работу, осторожно прикрыв дверь — и не сказал бы ничего, ни по телефону, в ритуальном обеденном разговоре („я обедаю, а ты?“), ни вечером, поздно уже, возвращаясь с очередного приема, с готовой историей о богатом, например, человеке 70-ти лет, у которого 20-летняя жена, или о женщине-шотландке, похожей на кочергу, которая хочет уговорить его перейти в другую фирму, которой она, хэдхантер, его, Олега, пообещала.
Если б день их — Олега и Риты — начался порознь, вразнобой, то вечером Олег все также рассказывал бы ей свою жизнь последних часов — скупо, выхватывая наугад — следуя правилу. У него на все есть правила, он не спрашивает себя, нужны они, нет ли, он следует им и потому самое трудное — убедить его в существовании какого-нибудь правила, а дальше он просто будет его исполнять: раз в неделю, по выходным, разговаривает по телефону с родителями; кефир этот (а иногда мюсли с тем же кефиром); поцелуй перед сном и вопрос „спим?“ не требующий ответа; маленькая круглая щетка в шкафчике в прихожей, которой он, вернувшись с работы, обмахивает пыль со своих остроносых туфель — несущественную пыль; там, где он ходит, пыли так мало, что щетка ему не очень нужна.
Рита могла бы следовать рисунку своей жизни (она — сова, он — вынужденный жаворонок), но вставала с бренчащими осколками сна головой, шла, и цветочки блеклые колыхались над лоснящимся теменью паркетным полом, и кофеварка сипела.
Она хотела начинать свой день вместе с ним, зная точно, что с мелкого разнобоя начинается жизнь порознь. Она будет спать, он бодрствовать; она будет глядеть своему компьютеру в силиконовые бездны, а он сползет с дивана и, объявив (опять обычное) „я удаляюсь“, уйдет в спальню, со спины напоминая сытого гуся. А ночи ее будут длиннее, а дни его все дальше. С Сергеем у нее начиналось так — а потом она влюбилась, а потом развелась и долго-долго убеждала себя, что все правильно, и хорошо, что не успели они завести детей, благоразумно, хотя она стареет, часы ускоряются, еще немного и на нее будут смотреть с жалостью, словно у нее кособокая грудь или пятно в пол-лица.
От Сергея Рита хотела детей. Двойню даже (хотя и двойная тяжесть, и двойные риски — все вдвойне). И сейчас, уже бросив его, она думала, что ей бы нравилось узнавать в маленьких рыжих ребятишках и эту манеру подпирать рукой подбородок (все пальцы в кулаке, а мизинец торчит, чуть касаясь кончика носа) и шаткость походки (у него кривоватые ноги).
Хотела, но уже не могла. Ушла, развелась, не жалела.
— А хочешь я подую тебе в ухо? — спрашивала Олега Рита, оживая от кофе через минуту-другую.
Или:
— Зачем тебе один нос? Почему?
Или:
— Если я тебя тоже брошу, перекрась стены в кабинете. Лучше в красный. Красный — это значит кровь, значит, ты страдаешь.
А Олег отвечал: то так, то сяк. Для Риты было главное сказать что-то, обозначив границу между сном и явью. А Олег мог и улыбнуться, и покраснеть, и остаться сидеть, как был (надо спросить у него „сволочь ли он?“, неужто и тогда просто улыбнется?). Рита спрашивала, чувствуя равнодушие: он — такой болезненно любимый — с утра, после бредовой ночи, не вызывал у нее ровно никаких чувств и собственная бесчувственность ее утешала. Ей было покойно, как бывает, должно быть, покойно мучительно больным, измученным этой болью и чувствующим вдруг, ранним ватным утром, только муть пустоты.
Не может же она любить его всегда/круглосуточно?
Не может.
Детей от него она не хотела. Боялась, наверное, множить боль.
— Как же мне все это надоело, — сказал Олег тем утром, натягивая поверх костюма свое серое пальто.
К нему на три дня приехали важные гости. Сегодня он снова должен был их развлекать: забрать из гостиничного лобби, возить куда-то, что-то показывать…
— А ты не думаешь, что это единственное, ты отлично умеешь делать? — прислонившись к стене, спросила она.
— Какая ты умная.
По его улыбке она не смогла ничего прочесть.
— Иронизируешь?
— Нет, я серьезно. А ты? — он уже взялся за ручку двери.
— Не знаю, — сказала она.
Она не знала, почему задала ему этот вопрос. Она просто смотрела на него и ей захотелось спросить.
— Я тебе надоела? — она подошла к нему, обняла и прижалась щекой к его щеке.
— Нет, наоборот, — сказал он, послушно замерев.
— А себе я надоела. Но скоро пройдет. Правда?
Он улыбнулся. Он вряд ли ее понял.
— …если я уйду, потому что, ты знаешь, всякое бывает, — в другое утро закончила она обычной своей формулировкой, повторяла которую, как молитву, и никто — даже мнимый бог — не знает по-настоящему, почему.
— А если ты уйдешь, то мне тогда точно хватит, — сказал Олег обыкновенным своим голосом, и эту обыкновенность Рита постаралась запомнить, потому что тогда уже поняла, что, пересказывая, вспоминая, придумает ему и легкую в голосе дрожь, и увлажнившиеся чуть-чуть, набравшие в синеве, глаза, хотя говорил он обыкновенно, не строго даже, будто скрывая чувство, а очень просто, без всяких затей. — Если ты уйдешь, тогда мне точно хватит. Больше никого.
— Почему? — спросила она, удивляясь искренне, честно не понимая, почему он, здоровый, молодой, красивый мужик, готов записать ее последней в ряду жен-любовниц (скорее, жен, какая ж она ему любовница?). Молодой ведь, кра-сивый…
— У нас же с тобой все идеально, — сказал Олег, не пытаясь убедить, ничего не утверждая, а фиксируя факт, равный вещественности жизни — вот, хотя бы этой кружке с кофе, в которую сунула она нос, будто бы принюхиваясь.
Олег утверждал то, чего Рита не знала, в чем уверена не была. Они любили друг друга, сомнений быть не могло — Рита любила его любовью болезненной, обожженной, Олег любил ее уверенной властной любовью — и из комбинации этой получался не только пламень, но и много чада, который он, твердокаменный, привычный замечать только самое нужное, игнорировал, от которого она, ошпаренная драная кошка, часто чихала. Они были вместе, они говорили „мы“, но Рита — и не только вслух! — проговаривала: „может быть, ненавсегда“. Ни в чем уверена она не была, на взгляд ее, не были их отношения идеальны, они только стремились в том направлении — страстно и опасливо с ее стороны; невозмутимо, медлительно, уверенно — таким был его вклад.
— Но это не значит, что я хочу уйти, — сказала Рита, отглотнув кофе. — Я ничего уже не могу исключать. Однажды я уже обещала вечную любовь, однажды я уже обманула. Я больше не хочу никого обманывать.
— Я понимаю, — сказал Олег. Он улыбнулся, блеснули отбеленные зубы, и Рита выругала себя — она всегда уступает, она позволяет ему это самодовольство, хотя он в той же степени должен быть не уверен, что у них надолго, что у них — навсегда.
Она опять уступила. Он опять не заметил уступки.
Рита не верила ему, она ему не доверяла — и с этим ничего невозможно сделать. Идеально, ну, как же идеально? вела он с ним мысленный спор тем же днем, оставшись одна, в блеклых цветочках. Чего хочет она, эта глупая дура? Что нужно ей, идиотке? Чего не хватает этой встрепанной Маргарите? Вы знаете? Кто-нибудь? Ну, подойдите же к ней, кто-нибудь! Пожалейте, скажите же ей: дурочка, он любит тебя, у вас идеально, я вижу, я знаю, все именно так, как он сказал — чтобы спал наконец с души ее камень, чтобы вздохнула, дохнула — и зажила, и в другое утро, готовя кофе и бутерброды, с легким сердцем подтрунивала б над ним, у которого все — „идеально“, не боясь ничего, просто зная — также, как он…».
Такое счастье. Другого не будет.
КАК ЕСТЬ
И ЭТО ЭПИЛОГ
Я долго не мог определить природу ее обаяния.
Оно не во внешности. Черты лица у нее, скорее, неправильные. Фигура стройная, но ничем особо не выдающаяся, волосы кудрявые, темные, но такие негустые, что видно белую кожу. Она немного сутулится при ходьбе, шагает широко, и потому туфли предпочитает на платформе, а не на каблуке. Горделивая козья походка, этими мелкими шажками, ей несвойственна.
Если приглядываться, то легко заключить, что она некрасива, но не случайно я медлил целый абзац, прежде чем высказать это предположение. Мне неприятно говорить, что она некрасива, мне кажется, что я шлепаю на ее лоб (кстати, просторный даже излишне) штемпель, а он ставит вроде бы крест на ней — некрасивой, а потому по-женски, вроде бы, не очень значимой.
Глупости. Неправда. Че-пу-ха.
Она обаятельна, чрезвычайно обаятельна.
Прежде я думал, что обаяние ее в глазах — они у нее большие, удивленные будто. Распахнутые. Она смотрит, и внимает. Кажется, что она усваивает каждое твое слово, показывая в улыбке неровные белые зубы.
Она тороплива, спешит и вечно не поспевает, но умеет слушать: замирает, перестает трепыхаться. Она интересуется тобой, но обаяние ее не совсем в этом.
Ей хочется помочь.
Есть люди, которым приходится помогать — они беспрестанно ноют о сирости своей, убогости — и ты готов уже дать что угодно, лишь бы прекратить эту зубную боль.
Есть люди, которым хочется помочь просто так. Ты желаешь им помочь, повлиять на судьбу, не потому что они нужны, полезны. «На, — спешишь сказать ты, — возьми же, пользуйся, мне приятно думать, что моя помощь кстати; мне хорошо, если хорошо тебе». Ты помогаешь, и сам внутренне хорошеешь от этого шага; ты удивляешься себе, надо же я могу быть бескорыстен — я делаю что-то просто так, поддаваясь внутреннему порыву, без оглядки и без всякого расчета. Не все кончено со мной, не потерян я, и не потерялся.
Вот в чем, наверное, дело. Ты прикасаешься к чужой жизни, и тебе становится лучше. Ты будто смотришься в зеркало, которое показывает тебя лучше: ты говоришь и под пытливым вниманием слова получаются красивей, точней, глаже. Ты чувствуешь, что все внимание только для тебя — и эти распахнутые глаза, эта улыбка, которой не годится слово «вежливость», эти вопросы, заданные по делу, и выводы вслух — неожиданные даже для тебя самого.