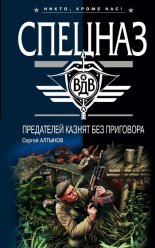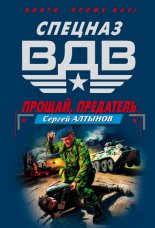… и просто богиня (сборник) Кропоткин Константин

Сиятельный облик не потускнел, даже когда она пальто сняла и облачилась в рабочую униформу — халат и тапочки.
Отилия исполняла свой поломойский театр, а я думал: вот она, немолодая мать моделей и инженеров, живет одна в чужом городе, в стране, язык которой знает только понаслышке; моет полы у чужих людей, хотя могла бы жить дома и счастливо шить себе золоченые фижмы. Быть главной героиней своего театра — примадонной, а не служанкой, как бы ни была она похожа на субретку.
Но говорить ей об этом, конечно, не собирался.
«ШЗ»
Вдруг в своей Германии устал от иностранного ТВ, надоело разом — и немецкое и англоговорящее. Принялся смотреть русскую «Школу злословия» — нечаянно нашел в Интернете записи всех программ, включая недопущенные к показу. Смотрел залпом одну за другой, иногда отвлекаясь, иногда приглядываясь — это уж какая тема попадется. Вот, например, про МХАТ было интересно, и про питерские коммуналки, и про школьные гетто. А про велеречивых церковников, да врунов-египтологов — не очень.
Впрочем, интересовали меня не столько собеседники дуэта Толстая-Смирнова, сколько сам дуэт, потому что мне всегда важно не то, что говорят, а кто говорит, а главное — как. В перчатке слова смыслы прячутся. За сорок минут человека не узнать, а вот с ведущими можно побыть помногу раз по сорок.
Понравилось. Даже массивное обаяние Татьяны Толстой вдруг по душе пришлось. Прежде она казалась мне похожей на танк, который раздавит, а уж потом будет разбираться, к чему тут кости человечьи валяются. Но нет. Оказалось, что в бесконечном этом стремлении говорить много, цветисто и сплошь о себе, прячется особа может и вредная, но все-таки небанальная, трогательная по-своему: представляются отчего-то банты в темных толстых косах, большеглазая такая настойчивость; решительно вышла, перед елкой новогодней встала, ножкой крупной притопнула — сейчас я буду рассказывать стих. И замолчали все, прислушались.
Гости в «Школе злословия» Татьяну Толстую не перебивают, дополняют к месту, возражают аккуратно, может, тоже подозревая и банты, и косы и давным-давно досказанный стих в этой крупноформатной женщине, от передачи к передаче не столько хорошеющей, сколько набирающей внешнего неназойливого блеска — и наряды стали темней, и глаза засияли, как отмытые, и тяжкими ровными прядями повисли волосы, и все это чудесно дополняет и дотошное знание Пушкина, и к Японии интерес, и к доктору Хаусу.
Смотрел, а параллельно удивлялся — надо же, а ведь на ТВ возможна еще живая мысль, неотрепетированная полемичность, реплики озорные, но никогда не пошлые — злословие в самом прекрасном смысле своей злобы, фейерверком-шипучкой, остротой нескучной мысли, умением сложить два плюс два, но и обернуть полученное «четыре» в метафорический фантик.
Но все это я выяснил как бы между делом, интересуясь главным образом Дуней Смирновой, которая теперь называется Авдотьей, которая написала несколько хороших сценариев и снимает кино, которая умеет быть резкой без жестокости, наблюдательной без пристрастности, уместно капризной, лукавой — умницей, про каких только в прекрасных книжках пишут. Но она не книжная. Вот, под мальчика подстриглась — и отпало, наконец, вялое очарование доцента филфака, проявилась точеная куколка, открылся и лоб, и большие глаза, а в особенности детская манера смотреть исподлобья, безупречное оружие против самого гадкого собеседника.
Стало ясно и то, почему программы куда менее критические на российском ТВ уже давно умерли, а «ШЗ» живет себе, здравствует.
А девочек не бьют. Во всяком случае, если они ведут себя, как девочки.
ЕЕ ЯПОНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Начальница моего друга — японка, и чем больше я на нее смотрю, тем отчетливее понимаю: в другой жизни я бы отправился в какую-нибудь осаку, да вывез бы себе японскую подругу жизни.
Идеальная жена.
На работе, в немецком банке, нет такой закорючки, которую бы она упустила. Ошибка для нее приравнивается к катастрофе. Друг рассказывал, как огрех, мелкий, незначительный, вверг ее в такое состояние, что она была готова из окна от стыда сигануть — прямо с тринадцатого этажа.
Коллеги уважают ее профессионализм, но регулярно на нее злятся: она никогда не опаздывает и уходит тоже по часам; ее высокоточный японский механизм слишком настойчиво напоминает, что на работу приходят работать, а не болтать в курилке, кофе пить, сплетничать, праздновать дни рождения… «Машина», — шепчут про нее, похожую, впрочем, больше на изящную лампу-торшер, тонкую, с кривыми ножками и несколько великоватой для такой хрупкости головой.
Начальница моего друга работает, не покладая рук, зарабатывает неимоверные деньги, не забывая и дом в порядке содержать, и регулярно готовить полезные рыбно-рисовые блюда. «У меня нет свободного времени», — говорит она, не то жалуясь, не то эдак робко гордясь.
Сама себе она предоставлена по часу в день. Не больше и не меньше — столько длится ее бег трусцой, в любую погоду, ранним утром.
Менять в своей жизни она ничего не хочет, служит мужу-чиновнику, у которого по чиновничьему порядку день рабочий невелик, хорошо нормирован, со службы он возвращается рано, звонит жене, требует, чтоб домой шла.
Она идет, готовит, убирает, и все это будто бы со знанием, что так должно быть — в этом будто и состоит ее японское счастье.
— Не человек, а пчела, — восхищается мой друг, да и я вместе с ним, хотя воображаю себе не столько пчелу, сколько серую мышь, которая неутомимо зерна в нору таскает, хоть ты сто раз ей объясняй, что незачем, что мышья доля не для людей придумана. Она все шуршит, хлопочет, мечется серой тенью. И одежды-то у нее неярких цветов, словно уже купленные застиранными.
Она экономна, и с мужем в свои сорок уже выплатила кредит за дом и капитальный ремонт сделала. Дом ее похож на сарай, он пуст, потому что у японцев с мебелью дружбы нет, а супруг ленив, чтобы набивать двухэтажные апартаменты европейским плюшевым уютом. На кухне голая лампочка.
— Люстру купила, а повесить некогда, — говорила она, словно у нее мужа нет.
В Японии, в своей деревне где-то под Осакой, она бывает раз в год. Эти три недели осенью — еще один повод поработать; родители старые, а с ними еще и сын-инвалид. Сад-огород и многочасовые приготовления рыбных блюд…
Кстати, недовольство я от нее слышал только по одному поводу — рыба в европах плоха, свежа недостаточно, а та, которая свежа, стоит слишком много и не вписывается в экономный японский уклад.
В суши-рестораны она ходит редко — и всегда по субботам, до двух часов, когда все блюда продаются за полцены. Я не могу представить ее сорящей деньгами, танцующей, хохочущей во весь голос.
Пьет только чай. Спиртное ей противопоказано. От алкоголя, даже от бокала шампанского, у нее краснеют белки глаз, она начинает заикаться, дергаться — жалко смотреть.
— Мой муж не ходит по магазинам, — сообщила она на каком-то торжестве.
— Почему? — спросил я.
— Не любит.
Я засмеялся.
— Мало ли кто чего не любит. Я вот дураков не люблю, а приходится мириться.
Потупилась.
Чувства юмора у нее нет, а может, не позволяет себе японская женщина смеяться. Там как-то все по-другому тикает (по пчелиному? по-мышьи?) и, глядя на эту готовность служить, не возникает и стыда — кажется, что если отобрать эти хлопоты, то ничего не останется человеку, выйдет из жизни воздух.
Странно это, и вызывает, порой, садистские импульсы: хочется нагрузить пчеломышь побольше, чтоб посмотреть, а не проглянет ли наконец-то что-то понятное, живое — не пчеломышье усердие, а гнев, возмущение, обида. Чтоб по-настоящему. Так ведь не проглянет. Только быстрее забегает, серой тенью, прилежной и безропотной.
Идеальная жена — японка. Во всяком случае, для мужчины, которому баб запрягать не стыдно.
— И деньги, и дом, и кухня, — дивился мой друг буквально недавно, когда мы вдвоем по лесу гуляли.
— А в постели как? — спросил я.
Глянул, словно я ему инцест предложил.
— А поговорить?
И тут он не нашелся что ответить.
«ОПЕРЕТТА»
И еще одна. И ведь давно уже не дева. Говорит: «Лучше бы я его не видела. Он испортил мою жизнь». Почему? Отвечает: «Испортил и все». Упрямится. Хочет выглядеть злой, наглой, но вода-то течет. Похоже на стыдливый ручей в грязном февральском сугробе. Снег рыхлый, ноздреватый, но вода не знает еще куда ей бежать. Не знает, капает понемногу.
— Он, как орех, понимаешь? Как орех.
— Почему не апельсин? — веселюсь я.
— Я стучу, дурак, а оттуда непонятно что.
— Кто ж дурак-то?
— Ты, конечно.
— А может, он? Твой друг сердечный? Он не старый хоть?
— Хамло трамвайное.
— Ты что-то заплутала, дева. Давай-ка определись: или орех, или хамло, — мне легко лавировать меж кусками ее наглости, наверное, помогает мысль, что я всегда могу бросить трубку. — Что за человек-то?
— Он? Я сейчас могу только матерно.
— Не надо. Не опубликуют.
— Фигня вопрос, — надо же, и не переспросила, куда я могу присунуть ее пьяные речи.
Она была пьяна. Она всегда звонит мне пьяной. Трезвой не вспоминает, и не уверен, что уже смогу с ней разговаривать, если услышу ее не во хмелю — ведь другой строй речи, темы другие и больше несвободы. В студенчестве у нас с ней было что-то вроде романа, но друзьями мы расстались еще до того, как достаточно друг друга узнали. С того времени она любит рассказывать мне о своих любовниках.
— И что мне с твоим горем делать? — говорю я. — С собой что ли носить?
— Было бы горе, — фыркает она. — Об одном жалею, зачем я его встретила. Женатая же баба.
— А я думал замужняя.
— Фигня. Я женатая, а муж у меня замужний.
Мне до этого гендера дела никакого нет, но я послушно слушаю. Подруга пьяна, и если я сейчас положу трубку, то она все равно позвонит еще раз. А если отключу телефон, как однажды было, то будет целый век обижаться, спрашивать, что же она сделала не так — мука еще большая, чем слушать переливы эти и бормотания.
У нее драма. У нее есть кто-то. И это при живом муже.
— Так кто ж у тебя там орех?
— Не поняла тебя.
— Ты повстречала кого-то. Он тебе все испортил.
— Почему нам нельзя просто встречаться-общаться? — голос тягучий, тяжкий. — У него, как у телевизора, черно-белое мышление. Или вместе, или раздельно. Не иначе.
— У телевизора нет никакого мышления. Телевизор, это всего-лишь телевизор.
Она тянет свою волынку, мне не очень ее жаль, трудно жалеть назойливо-пьяных, тем более, с другой стороны земного шара, через километры проводов. А еще у меня — поздний вечер, а у нее — глубокая ночь.
— Ложись уже спать, — предлагаю я. — У вас скоро утро уже, — шорох, который я слышу, мне не нравится, приходиться делать еще одно усилие. — Так при чем здесь твоя оперетта?
— Мы получаем удовольствие, это он мне говорит. Я ему сама говорила, а он повторил, он мстит мне, играет, как кошка с нитками. Издевательски говорит, что дешевая оперетта. Он не хочет просто встречаться-общаться, понимаешь?
— А ты хочешь, и при живом муже.
— Хочу.
— Нельзя иметь все сразу.
— А почему не попробовать?
Супруга ее я не знаю, она вышла замуж уже после моего отъезда из родного города. На свадьбу не звала, и слава богу. Не люблю свадеб, это какая-то особенно изощренная пытка: все делают что-то им совсем не свойственное, а при этом еще и радость изображать должны.
— Было же хорошо так без него. Ну, не очень, может быть, хорошо, зато тихо.
— А ты его взяла и повстречала.
— Ох, он был такой, — протянула она, голос стал тише, но странным образом набрал в глубине, мне слышно сквозь все эти тысячи километров. — Стоит в футболке. Лиловой, цвета фуксии. Пьет что-то черное. Я спрашиваю «молодой человек, это у вас „кола“?». Глотнула, а во рту жжет. Подлец. Он смеется надо мной. Смеется. Уже тогда надо было ухо востро держать. Сунул бабе виски с колой, говорит, что приличный напиток, а разве ж так поступают? Ну, скажи мне, какая оперетта?
— А у него жена есть?
— Да, есть какая-то маня, мне до нее как-то фиолетово…
— Лилово, ага, цвета фуксии. Ты, как всегда, только о себе думаешь.
— Ты меня еще Гитлером назови, цуцик фашистский. А что делать мне с ним? Я не могу его из головы выбросить. Что ж мне ампутацию мозга делать?
— У тебя любовь и вообще великое чувство, — говорю я самых издевательским из своих голосов. Мужа ее я не видел никогда, но даже мысли о нем — тихом рогоносце — достаточно, чтобы захотеть наговорить ей неприятных слов. — Поиграете, да разойдетесь, подожди только.
— Мы уже два года не можем, раз в неделю, это как закон.
— А где встречаетесь? У него?
— Не твое дело.
— Слушай, не пойму, кто кому звонит? — я начинаю сердится уже открыто. Она хоть и пьяна, но надо же и совесть иметь.
— Не могу его забыть, чем больше хочу, тем меньше получается. Сегодня вышла из машины, встала — смотрю наверх, на высотки. Он сзади подошел, обнял, прижал крепко. Давай уедем. Он так говорит. Зачем нам эта дешевая оперетта? А куда я поеду? У меня дела, квартира.
— Муж, — напоминаю я. — Дети.
У нее двое. Две девочки, которых я никогда не видел. В наших разговорах они почти никогда не всплывают, и потому присутствуют только бледными тенями. Любовница существует от матери отдельно, две эти женщины — наверняка разные — как-то уживаются бок о бок, в одном теле. Я уверен почему-то, что она хорошая мать, ну, может быть, жесткая иногда.
А как любовница невыносима.
— …поздно уезжать. Время ушло, — голос ее прояснился. Протрезвела, будто душ приняла.
Хотя мне спросонья и показаться могло. У нее-то скоро рассвет, а у меня вечер до ночи сгустился.
— Спать пора. Давай-ка.
— Давай. Буду, — и трубку бросила.
И «здрасте» не сказала, обошлась и без «до свидания».
ВЕРИТЬ
Томас не вошел, а влетел — особенность поразительная в таком большом человеке. Сейчас приятель весит килограммов, наверное, сто пятьдесят — во всяком случае, гораздо больше, чем в прошлую нашу встречу, после которой он сильно худел (наслышан, чудеса), сильно страдал (ушла его архитекторша), много лечился (врачи, таблетки, терапия — сочувствующие взгляды коллег; приступы обжорства — последнее, впрочем, додумываю; и без того склонный к полноте, он раздулся в дирижабль).
— Какие туфли! — восхитился я. На нем были мокасины из ярко-красной чешуйчатой кожи, с золотыми пряжками. — Как у кардинала.
— Из Милана, — сказал Томас, вытирая со лба пот. Ко мне на последний высоко взбираться, лифта нет, лестница витая, а он невозможно толст и тяжел; на рубашке, на груди и спине, проступили темные треугольники пота. — Купил три года назад.
Года три тому назад мы и виделись в прошлый раз. Летом на рынке вино пили. Синяя рубашка-поло с вышитым желтым всадником, огромные джинсы беспощадно обтягивающие круп — тогда все было примерно, как сейчас, только с ним еще была его архитекторша, белая, прищуренная, злая — она все время фыркала на Томаса, мешала разговаривать. У них была любовь.
А сейчас у Томаса другая — за тем и ко мне пришел.
Илина — румынка, по-немецки ни бельмес, Томас хотел узнать, где я учил язык, на какие ходил курсы и почем. Он торгует страховками — и в «почем» отлично разбирается.
— Индивидуальные, но за тысячу, — рассказывал Томас, когда мы уже ели (он — салат зеленый, а я — и салат, и плов, и дыню; я — не романтик, а похудеть мне надо бы только на самую малость). — Момент, говорю, — он выставил ладонь, будто что-то пригибая, — вернись, на землю, дорогая.
Курсы немецкого, которые Томас нашел, непомерно дороги, а ему неопределенный срок двоих кормить, ему надо найти недорогой и эффективный вариант, чтобы его Илина заговорила с ним на одном языке.
— Лучше в группе заниматься, — сказал я, вспоминая давние уже обстоятельства своей учебы. — С такими же, как она. Ей же нужны будут социальные контакты. Не с тобой же одним разговаривать.
— Илина если здесь по улице пройдет, — Томас щелкнул пальцами, витой стул под ним, подобранный мной на помойке, все скрипел, — сразу пятерых с собой может взять. Сексапильная телка, надо честно сказать. Я в центре давно не был, не знаю же, а там дорогу ремонтируют. Опоздал, Илины нет. Звоню, объясняю, айм соу сорри, кэн ай. У нее английский тоже — так себе. Заскочил в машину, примчался.
— Ну, да — сексапильная же телка.
Он посмотрел на меня с преувеличенным упреком (а стул так и выл надсадно — я боялся, что развалится, как случилось на рынке, в самый разгар винопития, после чего Томас сел на диету, от которой, как видно, был только вред — о чем только ни думаешь, разговаривая параллельно и умудряясь внимательно слушать, а я слушал очень внимательно — мне симпатичен этот одышливый толстяк).
— Сначала у нас ничего не было, — сказал он. — Это правильно, я так считаю.
— Но потом-то было.
— Да! — гаркнул, как каркнул. — Всеми соками обменялись.
Томас — романтик, ему не до подробностей. А мне наоборот, только они интересны, в них суть, мне кажется. Я — не романтик, у меня колкий лед в глазу.
— А разговаривали как? — спросил я.
— Слава богу, есть гугль-переводчик. Всю ночь сидели, писали, то я то, то она, — Томас потер глаза (слезы? пот со лба набежал?). — Ее поработили. Этот негодяй… — он назвал улицу, которую я тут же забыл, — полунемец-полурумын. Вызвал ее, и запер. Я говорю ей, дай адрес, имя, я заявлю в полицию. А Илина говорит, ты не знаешь, что будет, не надо. Пишет мне, пишет, а сама плачет, — голос его пресекся. Он взялся, наконец, за салат.
— Вот же гандон.
Я знаю одну русскую женщину, которую немецкий изверг на цепи держал. Сложная история.
С Илиной (я правильно пишу ее имя?) Томас познакомился по Интернету. Он и сайт назвал, только название его я тут же забыл, потому что лишняя мелочь. Он как-то с Илиной встретился, и не раз даже; затем она уехала назад, в свою румынскую пампу, где-то близ молдавской границы. Томас начал читать про Румынию все подряд, и теперь даты буквально отскакивают у него от зубов (а салаты мои ест вяло, будто повинность выполняет). Томас знает теперь, что городок Илины построили евреи, а там, где евреи, там экономика цветет, что и было — дома, говорит, красивые выросли, бульвары, а дальше, уже во времена второй мировой, румыны евреев отстреливать начали — и увял цвет, остались только архитектурные памятники.
— Как они живут! Ты не представляешь! — опустошив наконец тарелку, воскликнул он.
— Не волнуйся, отлично представляю. Там как у меня в Сибири, только теплей.
— Да, ты знаешь, как Илина живет?! Илина с подругой живет! Вся квартира, как вот эта комната — и спальня, и гостиная, и кухонная ниша, и туалет. Все! А дороги! — он схватился за пухлые щеки, придавил их чуть-чуть. — Яма на яме. Привез ей парфюм. Недешевый, само собой, а у нее туфли из… — он назвал фирму.
— Разбитые? — я подумал, что если у человека есть вкус, то неважно какой фирмы его туфли. У Томаса вкуса нет совсем (да и сложно иметь вкус, когда любая одежда по швам трещит).
— В пассаж пришли. Там эти русские везде, извини. В мехах и бриллиантах.
— Извиняю. И в губах еще, да.
— Говорю: купи себе новые туфли — отдаю кошелек и ухожу. Она конечно самые дешевые купила. А ее подруга — я ей тоже по мелочи привез — подарила мне сервиз. Не знаю, дорогой или нет, неважно — важен жест. Сто пятьдесят евро за перегруз заплатил. Дешевыми же летел. Мог б оставить сервиз, а забрать попозже. А эта дура на регистрации…
— А чем Илина занимается? — перебил его я. — Образование у нее есть? — образование для меня о чем-то говорит. Хотя, конечно, кого только университеты не воспитывают…
— Она — ветврач! У нее средний балл «девять и один», это почти как наша «единица»!
— Умная, — сказал я не без облегчения.
Хотя если умная, почему запереть себя позволила? Да, и была ли тюрьма? Как встречалась она с Томасом, если под замком у зверя-полукровки сидела?
Побыв на цепи год или два, моя знакомая русская бежала от своего немецкого изверга, вышла замуж еще и еще, и всякий раз — так она рассказывала — злые мужчины били ее, горемыку. Сейчас любовник бьет, и мне ее не жаль. А милая девица, она москвичка, спрашивала меня как-то про один голландский город — хороший ли, стоит ли ехать. Ее замуж голландец позвал. «Ты его любишь?» — спросил я. «Да, я смогу по всей Европе без визы ездить», — ответила она. А знакомый бразилец, голосистый кудрявый алкаш, буквально в эти минуты пьет кровь одному хорошему человеку — жрет, пьет, срет в душу и жалуется всему свету, что гадкий любовник хочет найти ему — такому прекрасному — работу.
И нет им числа.
Как люблю я этих блядей — всех полов, возрастов и национальностей, этих торговок патентованным счастьем, эквилибристок елея, змей-заклинательниц, профессиональных идиоток, гениев алгебраических гармоний, щупательниц недр, изымательниц активов — всех цветов и сортов. Как люблю я их, неутомимых искательниц слабины, душек этих, пушистых и мяконьких, с глазами-блюдцами, поющих нескончаемую свою песнь — как жила и страдала, как неодолимые силы ввергли, как обрекли… И слезы по щекам, и трясутся нервно метафорические сиротские бантики.
Я люблю их, я ими любуюсь, я могу себе это позволить, у меня лед в глазах, им нечего у меня брать — даже пример.
— Нужно быть осторожным, — осторожно начал я.
Незадолго до того, как злющая архитекторша его бросила, Томас рассказывал, какую шикарную они сыграют свадьбу.
Томас понял меня с полуслова.
— И что? Что я теряю?! Только время!
И время, и чувства, и деньги, а главное, надежду.
А если не будет надежды у этого нелепого немца, то он опять жрать начнет, как свинья, или завалится в клинику с неврозом — или еще хуже, будет ходить, полный таблеточного счастья, будет пугать людей своей эйфорией — мне рассказывали про Томаса, мне было жаль его очень.
— Не получится — уедет, — сказал он. — Теперь я думаю только позитивно. И пока все идет только в плюс, — он открыл папку, там были копии документов на румынском. Сертификаты чего-то ветеринарного.
— Хорошая бумага, — сказал я. Копии были цветные, а бумага плотная, глянцевая, почти как пластик.
— Если уж делать, то как следует, — сказал он, перекладывая листы. Один из них был распечаткой фотографии — наверное, из Интернета.
— Это она?
— Да, смотри какая.
— …
Она была головокружительно хороша.
И что после этого? Верить?
ФРАУ ШРЕДЕР — ФРАУ КНОПФ
Деревня немецкая, небольшая, обустроенная скучно: двухэтажные домики блеклых цветов — розовых, желтых, голубых — выставлены рядами, без всяких палисадников впереди, как будто детские кубики. Ряды глухие, без просвета, а за ними жизнь кипит.
Вот, две старушки. Живут по соседству. Фрау Кнопф — фрау Шредер. У них Холодная война.
У одной я часто останавливаюсь — ее сын приходится мне приятелем, и, если мы шумной толпой едем на машине к Северному морю, то есть возможность переночевать в этом желтеньком доме — сделать по пути остановку.
О другой — фрау Кнопф — я слышу всякий раз, когда бываю в доме фрау Шредер, а потому и вспоминаю старушек всегда парно.
Фрау Шредер — фрау Кнопф.
Одна — высокая, худая, подтянутая, кудри залакированы волосок к волоску, на кашемировой нежно-розовой груди тусклый черный камень в серебряной оправе — была бы воплощенной леди, если б не некрасивая растоптанная обувь, в какой удобно отекшим ногам.
Другая — круглая, седенькая, глаза светлые, выпуклые, будто в два круглых аквариума воды налили, и рыбки там — по одной в каждом, живые и мелкие. Была бы русской, носила б цветастый платок по плечам, но она немка — на ней что-то вроде вязаной кацавейки.
Сухощавая фрау Шредер ходит, не спеша, хозяйство ведет с толком: дети, которые приезжают к ней в гости (то все трое разом, то по одиночке), завтракают не позднее десяти. Правило соблюдается неукоснительно. Однажды я проспал, и наутро внизу в столовой меня ждало бескрайнее поле белой скатерти с сиротливо стоящим с краешку утренним ассортиментом: чашка с блюдцем, тарелка, нож, ложечка, салфетка, термос с кофе, тарелка с колбасой и сыром, баночка варенья, яйцо в стаканчике, укрытое самодельной вязаной шапочкой. Мне стало стыдно, с той поры я старался не опаздывать, как бы сладко ни спалось мне в деревенской тиши.
А в два часа обед. Готовить его фрау Шредер принимается почти сразу после завтрака — под шум посудомоечной машины, которая, к слову, появилась у нее первой из всех жителей этой деревни. Фрау Шредер знает цену прогрессу. Ее родители были обедневшими врачами, она училась в большом городе, а в деревне очутилась, выскочив замуж за своего дантиста. Тот умер лет двадцать назад, с той поры она живет вдовой. Ее сын рассказал мне, что «mama» (всегда «mama», и никогда чопорное «mutter») могла бы пойти в политику, ей предлагали место в каком-то местном совете, но по делам ей пришлось бы часто разъезжать, пренебрегая материнскими обязанностями — и она отказалась.
На обед бывает то зелень с мясом, то рыба с фасолью, то еще какая-то очень сытная и очень старомодная еда, предназначенная для вкушения, а не заталкивания в себя на ходу. Готовит ее фрау Шредер, не суетясь, и меня поначалу удивляло, как она, ветхая, в общем-то, старушка, прекрасно все успевает: к двум часам тарелки на столе сияют, старое разнокалиберное серебро подмаргивает в такт, в металлическом соуснике плещется какая-нибудь аппетитная жидкость, стоят и блюдо с мясом, и большая глубокая тарелка с салатом, и еще одна — то с картошкой, то с какими-то стручками; если день рыбный, то приготовлена еще и отдельная тарелка, куда следует класть хребты и кости. Подглядывая за фрау Шредер, я научился встряхивать салфетку и аккуратно раскладывать ее на коленях, есть рыбу специальным рыбным ножом (оказалось очень удобно), а когда с трапезой покончено, сигнализировать о том вилкой и ножом, сложенными на тарелке вместе.
После обеда фрау Шредер удаляется в комнатку, смежную с гостиной и, накрывшись русской белой шалью, почивает на диване. Диван этот мне очень нравится — он достался фрау Шредер от тетки. Та была старой девой в Берлине, а когда умерла, отписала имущество любимой племяннице.
— Она замуж не вышла, — рассказывала фрау Шредер. — У нее груди были, как бутылки. Очень стеснялась. Стала журналисткой.
В кабинетике рядом с цветастым диваном стоит пузатый комодик — у него есть один симпатичный фокус: скважины для ключей обрамлены в перламутровые оконца. Эти продуманные детали сообщают, что изготовлен комодик давно, любовно и приобретен за большие деньги.
Судя по фотографиям в круглых рамочках на стенах, сама фрау Шредер в молодости была хороша собой. Не красавица — профиль жестковат, и нос крупен, с хищно прорезанными ноздрями, а рта и нет почти, один только намек на губы. Но зато прекрасная кожа и густые светлые волосы войлоком.
Когда я впервые оказался у фрау Шредер в гостях, то обстановка меня поразила — все казалось очень роскошным, солидным, буржуазным очень. Потом, правда, выяснил, что солидность и дороговизна скопились только в двух комнатах — гостиной и кабинетике по соседству. В остальном дом обставлен, скорее, просто — функционально очень. В гостевой комнате на втором этаже, которую обычно выделяют мне — полки, сбитые чуть не вручную, а платяной шкаф своей простотой напоминает советскую фанерную мебель.
— Она все потратила на детей, — объяснил ее сын, средний из троих, который приходится мне приятелем.
Подремав часок-другой, фрау Шредер встает и, втиснув отекшие ступни в комнатные туфли, шаркает на кухню. Там она заваривает кофе, раскладывает на тарелочку самодельные коржики. Молоко непременно наливает в специальный металлический молочник с едва приметным носиком. Чашки фарфоровые, тонкие, пить из них страшно — кажется, что жидкость запросто просочится сквозь просвечивающие стенки. Или кокнешь, не дай бог. Фарфор венгерский, приобретенный давным-давно, но почти целый — одна только чашка склеена. Остальные — их пять, вроде — целы-целехоньки.
— Трое детей было, и ничего не разбилось, — удивлялся я.
— Мы из кружек пили, — пояснил мой приятель. К фарфору, по его словам, допускали только совершеннолетних.
А далее наступает вечер. Сумерки неспешно сгущаются, в гостиной зажигается торшер с желтым треугольным абажуром. Фрау Шредер, нацепив очки с толстой бесцветной оправой, сидит в своем высоком кожаном кресле, вяжет крючком, читает прессу, смотрит телевизор, упрятанный в нише фанерного шкафа-стенки. Когда темнота за окном становится непроглядной, а по углам вспыхивает еще и пара желтых настольных ламп, на столике, украшенном кружевной белой салфеткой появляются бокалы с вином, вкусная мелочь — конфеты, печенье, кубики сыра. Собираются все обитатели дома — дети, дети детей, мужья, жены, их друзья. Иногда, на Пасху или Рождество, бывает даже тесновато, и мне трудно представить, как выглядит эта комната в другое время, когда фрау Шредер совсем одна — а такое бывает чаще, все дети давно разлетелись кто-куда (врач, финансист, врач).
Здесь много говорят о политике, фрау Шредер в разговорах участвует редко, но всегда по делу — ум ее ясен, а глаза, чаще полузакрытые (она сидит, откинув голову, касаясь кудрявым затылком темно-коричневой кожи кресла) не дремлют.
— Интересы большинства людей не простираются дальше ближайшего фонарного столба, — говорит она безо всякого осуждения.
Сама она интересуется мировой политикой. Убеждения свои называет христианско-демократическими. Прежде я не знал, что есть такая немецкая партия, мне это сочетание понравилось, потому что — так я решил — христианство, промытое демократичностью, дает человечность. Узнав, что я из Сибири, фрау Шредер вспомнила, как летала с мужем в Японию, и видела в окно иллюминатора бескрайние сибирские леса.
Фамилия у нее, как у бывшего немецкого канцлера.
— Нет-нет, — заверяет она. — Мы не состоим в родстве, — но предположение ей лестно, легкий румянец проступает.
Впрочем, может быть, это от вина. А к полуночи она поднимается — кто-то из детей непременно бросается ей помогать.
— Mama! — кричит этот кто-то.
Поддерживаемая под локоток, она шаркает к себе наверх, в спальню с отделанными темным деревом панелями, высокой кроватью и стопкой толстенных книг на прикроватной тумбочке. Читает немного, а вскоре выключает свет.
Слов получилось много, а про соседку — фрау Кнопф — говорить, в общем-то, и нечего, из-за чего они еще больше напоминают мне сообщающиеся сосуды.
В паре шагов от желтого дома фрау Шредер стоит дом грязно-розовый. Некогда он был ярко-розовым, но с той поры много воды протекло. На стенах потеки, черепица на крыше, от природы красноватая, безнадежно черна. Там-то фрау Кнопф и живет.
Ее мне трудно понять — она говорит на специфическом немецком диалекте. К тому же у нее вставная челюсть «Плохо сделанная», — толкает меня сейчас в руку фрау Шредер, а вернее, отчетливое воспоминание о ней. Вот сидит сухая строгая старуха в своем высоком кресле, крупные руки, усыпанные ржаными пятнышками, сцеплены, крутит большими пальцами, говорит тихо, размеренно, аккуратно — будто мелкие гвоздики вколачивает.
— Хорошего дантиста она себе может позволить, но не хочет, — говорит она о фрау Кнопф, с которой соседствует с незапамятных времен и с тех же самых времен у них что-то вроде Холодной войны. Ум у фрау Шредер ясный, речь чиста, и мне непонятно, зачем мудрой старухе война с полубезумной соседкой, ее старьем и суетливой колготней.
За каким-то из обедов фрау Шредер рассказала историю, от которой у меня пропал аппетит: невозможно ведь есть и смеяться одновременно.
Однажды рано утром фрау Шредер пошла в туалет, ручку дернула, а дверь не открывается, только за дверью тихое шебуршанье. Испугаться не успела — дверь подалась, а за ней…
— Хильда! Я спрашиваю, что ты здесь делаешь? — без улыбки, рассказывала фрау Шредер. А ответом ей было нечто про испорченную канализацию и страшные боли в животе. — Она воду экономит. Скупердяйка.
Я загоготал: было смешно представлять бабульку — седенькую, белоглазую — которая тайком пробирается в чужой дом, чтобы воспользоваться туалетом. Раннее утро, сквозь дымку яблони в саду понемногу прорисовываются, а меж ними к заветной дверце крадется старушка в кацавейке…
Список претензий к фрау Кнопф у фрау Шредер велик, но, на мой взгляд, некритичен. Ссорятся из-за малины, которая растет у одной (фрау Кнопф), а к другой (фрау Шредер) тянет свои ягоды сквозь сетку-ограду.
— Всего лишь кружку нарвала, а она в тот же день все ветки обстригла, — говорит фрау Шредер, припоминая и то, как видела соседку у себя в саду. Та яблоки собирала.
У фрау Кнопф живут две блудливые козы — блеют в загончике в конце сада. Однажды умные твари пробрались в соседский сад, ободрали все яблони. Фрау Шредер хотела даже в суд подавать, но потом что-то передумала.
Кроме облезлого розового домика у фрау Кнопф есть еще большой земельный участок, а на нем еще один домик, тоже облезлый, но размером поменьше. Она его сдает, получает за него деньги, деньги относит в банк.
— Можете пользоваться моим гаражом, — прокурлыкала она мне как-то, поймав на улице, отбуксировав в свои владения, проведя вкруг домика и едва не затащив во внутрь апартаментов, рассматривать которые я категорически отказался, уверенный, что внутри там также, как и в главном доме, где я тоже был, не сумев однажды сказать «нет» цепким маленьким пальчикам.
В комнатках у нее все уделано кружевами, пахнет старыми духами, пылью — наверное, так и пахнет остановившееся время. На кухне, рискуя свалиться с этажерки, стоит громоздкий телевизор. Когда-то он был цветным, но испортился, показывает только черно-белым.
— Я радио слушаю, — рассказывала фрау Кнопф, улыбаясь. Ее любимая радиопрограмма — выцветшее дребезжанье и вкрадчивые разговоры. Была бы русской, слушала бы радио «Старые песни».
— Извините, я плохо говорю по-немецки. Зер шлехт, — повторяю я ей снова и снова, глядясь в бледную, выцветшую глазную синеву прямиком двум черненьким живым рыбкам. Но она только сворачивает рот таким образом, что по краям его образуются морщинки-скобочки. Вранье мое фрау Кнопф никогда не убеждает, она говорит и дальше, головой качает, наподобие собачки-болванчика, какими украшают салоны автомобилей: вверх-вниз, мелкие такие кивки острым, фарфоровым на вид, подбородком.
Фрау Шредер говорит, что у фрау Кнопф двое детей. Сын и дочь. Мужа уж давно нет, умер, а дети не приезжают — ни тот, ни другая. Сын просил у матери беспроцентный кредит — дом хотел построить. Отказала. С дочерью еще сложней.
— Она — лесбиянка, — сказала фрау Шредер. — У нее есть подруга.
В прошлый раз я шел в булочную — за хлебом к завтраку.
— Ах! — послышался возглас. Фрау Кнопф. Узнала ли — неведомо, но за руку взяла, загугнила, показала и на небо, и на дорогу. И себя по груди постучала. Шиш на затылке растрепался. Глаза белесые — безумные, да, совсем безумные.
Говорила если не час, то достаточно долго, чтобы меня заждались в доме у фрау Шредер, где уж и кофе остыл, и яйца в крохотных стаканчиках заледенели. Пришлось извиняться: был у фрау Кнопф… у нее что-то случилось, наверное, я не понял что…
— Дома заработала, а разговаривать не с кем, — заключила фрау Шредер. Вбила гвоздик. К ее чести — без всякого торжества. Говорю же, настоящая леди.
Я подумал: одна и не знает, что у нее с соседкой война.
Я подумал: если соседка умрет, то другой будет очень-очень грустно.