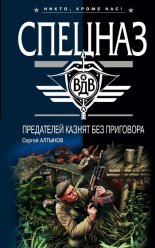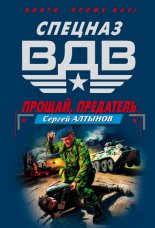… и просто богиня (сборник) Кропоткин Константин

— Холодное, — говорит она, ткнув длинной ложкой шарик мороженого (розовый, со вкусом клубники). — Зубы сводит. Он очень вежливый человек. И это проблема.
Я чуть не пискнул. Вот так и бывает: встречаешь в кафе полузнакомую востроносую снегурочку, а она, походя, снимает с твоих губ твои же слова, как с кипяченого молока пенки.
— Когда на тебя набрасывается насильник, — Ева слегка наклоняется ко мне через стол, — ты знаешь, что делать — каблуком по яйцам, пальцы в глаза. Орать, кусаться. Кричать «пожар». Если сволочной человек — тоже просто. А что с вежливым делать? С порядочным, вежливым, милым? Я его точно когда-нибудь…
— …возненавижу, — подхватываю я. И у самого внутри дрогнуло. Не обвалилось, а дрогнуло. Накликал себе визави. — Ты чувствуешь себя, как мяч для пинг-понга.
— Не поняла тебя.
— Ты скачешь перед ним туда-сюда, но пределы вашего поля определены, и если ты вылетаешь, значит, и из игры выбываешь. Так ведь?
— В некотором роде, — говорит она, а далее, наверное, специально, ковырнула из самого центра мороженого шарика — где холоднее. Чтобы снова вздрогнуть. — Это жестоко с его стороны. Какая-то хитрая изощренная жестокость. И ни туда, и ни сюда. Сказал бы, что у нас ничего невозможно. Что все. Аут.
«Пошла нахуй, тупая пизда», чуть было не предложил я реплику, но отношения наши с Евой не так близки, смешные резкости едва ли приемлемы.
— Внес бы ясность, дурачок небритый, — сказала Ева, немного потеплев.
Внутри меня съехало что-то, и еще одна деталь сошлась — история моя, персональная, становилась все менее уникальной, на глазах таяла она в общую на всех розовую слизь. Есть, оказывается, и другие истории, которые похожи на мою, личную. Сидит такая Снегурочка на плетеном диванчике на своей большой и светлой кухне, смотрит на него, заросшего, наверное, щетиной. Может быть, чай с ним пьет, или кофе, или хлебает вино. Руки ее заняты чем-то, неважно чем, она смотрит на него, ждет от него чего-то, они разговаривают; он вежлив, и она тоже; они сосуществуют по правилам, как приличные, друг от друга на расстоянии вытянутой руки. У них, наверное, секс, у них, наверное, какие-то приятные совместные дела, они встречаются, расходятся, снова встречаются; не видит он, не хочет видеть, как белеет она лицом, как превращается молодая тонкая женщина в однотонную снегурочку; не видит он, не хочет видеть, что она смотрит на него, а видит большую глухую высокую стену; она царапает ее, невидимую, из-под ногтей кровь хлещет; пальцы незримы, преграда воображаемая, а кровь хлещет-хлещет-хлещет; кровь не видна, а лицо бледнеет, как от большой кровопотери.
— Ты не болеешь? — спрашиваю я.
— Нет, я здорова. Я вообще свое тело чувствовать перестала. Будто под наркозом. Ничего не болит, ну, совершенно, — говорит Ева, доедая мороженое.
Шарики в моей вазочке, растеклись в лужицу, отчетливей распустив свой душистый яблочный вкус. Я вылакал жижу, просто приставив стеклянную вазочку ко рту. В жидком виде мне мороженое нравится больше. Оно не обжигает, и зубы от него не болят.
— Это жестокость, конечно, — говорит Ева, продолжая свою какую-то важную мысль, которую она беспрестанно думает. — Но он ни при чем. Он же не может поставить себя на мое место. Он и представить себе не может, каково мне…
— Знаю, — говорю я. — Он по другим законам живет. Он не плывет, а ходит по земле. А ты плывешь. Ты хочешь, чтобы вас вместе несло, а он идет, он рядом, по берегу. Мне знакомо такое состояние. Вы рядом, а не вместе.
Ева с удивлением смотрит на меня, словно только сейчас разглядев во мне способность к каким-то чувствам. Влюбленные — особенно несчастливо влюбленные — эгоистичны. Они холодны, в некотором смысле.
Снегурочки.
— Когда-нибудь я его возненавижу, — ровным голосом повторяет Ева.
— Наверное, — мне нечего добавить.
Мы рассчитываемся и выходим на свет.
РИТА
МНИМАЯ
Про нее — скорее, мнимую, — я бы, наверное, написал такую историю.
«Рита (да, все та же „Рита“) не увидела Ревекку, хотя стояла в двух всего от нее шагах. Рита пила свою странную смесь — „шампанское на клубнике“ — а взбудоражена, почти оглушена была, конечно, не от близости незнакомой женщины (унылой на вид, как предъявили потом фотографии) и не от щекочущего ноздри сладковатого напитка.
Рита была влюблена, а прочее никакой роли не играло.
Их знакомству с Олегом был всего день. Точнее — сутки. Только вчера вечером пришла Рита в ресторан, одна, заказала себе полное меню (и выбирать не пришлось — прошлась только пальчиком по советам шеф-повара, витиевато прописанным на шершавой желтовато-бежевой бумаге), с аппетитом поела, поглядывая на всех сразу и никого совершенно не выделяя, а когда подошло время кофе (она заказала двойной эспрессо без сахара, черный, обжигающий — и специально попросила, чтоб, заварив, несли немедленно) выпила эту крошечную темную лужицу из толстокожей маленькой чашки и увидела, наконец, за другим столом Олега. Она назвала себя, предложила, чтобы он пересел к ней, потому что „одинокой неприлично“, а у него — незнакомого — „приличный вид“. Все сложилось один к одному — бывает так, когда события складываются естественно и верно, будто меч вошел в ножны. Он и вошел — было хорошо той ночью, все получилось, как она и думала; вернее, она и не думала ничего, а каким-то чутьем заранее поняла, что сложится и вложится — потому что пришло время. Дождавшись, когда Олег заснет, Рита вызвала такси, спустилась вниз с его последнего этажа, уехала домой, к Сергею, который еще сидел перед компьютером и лицо его озарялось резким светом (работал? играл? возбуждался на порнуху?). Она легла спать, а следующим непоздним вечером пришла на праздник в городском парке, куда позвал ее новый любовник.
Рита была уже влюблена. Так быстро все бывает в жизни.
Она там тоже была. Его бывшая. „Ревекка“.
Рита не знала еще о ее существовании, да и на летний концерт пришла не для того, чтобы глазеть по сторонам — ничего не помнила Рита. Вспоминая, она чувствовала только шипучее изумление: надо же, влюбилась.
Как показали потом фотографии, Ревекку было легко не заметить. Небольшое тело на полпути от груши к яблоку; длинный нос с особым завитком на конце, придающим лицу выражение отчетливо овечье; пушистые темные волосы. На ее месте Рита обрезала бы волосы в каре, открыла бы шею, наверняка трогательную, как всегда бывает у маленьких женщин; поменьше увлекалась бы рюшами и оттенками лилового; она избрала бы простую, но ясную асимметрию — достаточно всего-лишь сбить фокус, чтобы из невыигрышной милой овцы сотворить статуэтку, будто высеченную небанальным автором. И волосы, пожалуй, чуть-чуть бы осветлила. У Ревекки были черные блестящие глаза — и следовало бы не стирать, а выделять эту плотную, насыщенную густоту.
У Ревекки было обиженное выражение лица и близкопосаженные глаза из блестящей непрозрачной эмали.
Как же жалела Рита, что не заметила Ревекку в толпе. Ничто и ничто, никак, никоим образом не сказало ей, что сошлись они — две — в первый и единственный раз, и было это у края моста: Ревекка покидала его, сходила, к земле, а Рита тянулась в противоположном направлении, она готовилась ступить на узкую шаткую поверхность над водой внизу, мутной и длинной. Они разошлись, даже не соприкоснувшись плечами. Хотя, может быть, Ревекка прочла что-то в лице Олега, что-то, что могло бы сообщить ей, что прищуренная худая баба в искристо-синем, к которой отошел от нее Олег, которую осторожно взял под руку — она не просто очередная блядь, забравшаяся к нему в постель. Ревекка прожила с Олегом десять лет и должна была уметь читать по нему больше, чем Рита, которая к полутонам и умолчаниям приспособлена еще не была.
Рита видела тогда только свое чувство и детали не могли играть важной роли. Она была смертельно влюблена. Ой, мамочки.
Перебравшись в холостяцкое свое жилье, Олег не выбросил и не спрятал фотографии Ревекки. Олег — не из тех, кто клянет своих бывших, кто сжигает их фотографии, а с ними и мосты (и не из тех он, кто раздумывает, пытается понять, почему не сжигает, и не клянет почему). У них с Ревеккой — по его словам — такая была история. Ревекка несколько лет была частью его жизни, но им пришлось расстаться. Она сказала, что больше его не любит, Олег, поразмыслив, и за собой признал то же самое. Разошлись. Каждый зажил сам по себе. Что-то происходило в жизни Ревекки, а у Олега однажды летом наступил момент, когда поздним вечером он проголодался, зашел к итальянцам, сел на невысокий диван, но, выпив воды (он был за рулем), еды так и не дождался — его окликнула Рита, дальнейшее известно.
В том углу парка, где бренчали цыганщину, в закуте, отгороженном для „випгостей“ грубо обструганными досками, заставленном светлыми диванами, увешанном светлыми же полупрозрачными занавесками, как парусами, людей было много. А Ревекка была, скорей всего, прилично одета, она прилично себя вела — она имела невыразительно приличную внешность, так что с толпой слилась запросто, и, конечно, зря кляла себя Рита, что была такой слеподырой курицей, что не удосужилась греховодница даже глаза пошире раскрыть, увидеть важное, а не слушать шипучее и колкое — тщетное — внутри себя море.
А потом они ушли — опять к нему, пить, смеяться, трахаться. Он тогда ни слова не сказал Рите о встрече со своей „бывшей“, да и не должен был.
У кого их — бывших — нет?
Только бывшие и делают нас настоящими.
Как-то днем, через недели две после той встречи, для Риты мнимой, Олег позвонил и сказал грустным голосом, что Ревекки больше нет. Пришла домой — и прихватило. Сердце. Ревекка умерла на руках у соседки. Постучалась, пожаловалась — та даже не успела вызвать „скорую помощь“.
Рита не расслышала в голосе Олега ничего, кроме легкой грусти, и к смерти незнакомой женщины, о которой знала к тому времени совсем немного, отнеслась как к заметке в газете — знаю, да, люди, увы, внезапно смертны.
— Приношу свои соболезнования, — сказала Рита. А месяцев через семь или девять переехала к Олегу — так сложились обстоятельства.
Дом был холостяцкий — и к лучшему, Рита, почему-то брезгуя, не смогла быть жить в квартире, обставленной чужой женщиной. А Ревекка, эта приличная еврейская женщина с овечьим лицом, уже влезла в жизнь Риты, она не настаивала на своем присутствии, но, проявляясь пунктиром, вечно была. „Я здесь“, — указывала она то через фотографию, то безделушку, подаренную по неясному поводу, то через обшарпанную деревянную раму, которую Олег покупал с Ревеккой сообща, на блошином рынке.
Олег мало говорил о своей жизни с Ревеккой. Он вообще неразговорчив, считая почему-то, что многое (если не все) следует по умолчанию. Рите оставалось лишь догадываться, как он жил с Ревеккой, и почему она попросила его вон — ведь явного повода не было. Повод был, наверное, но Рита, чего-то, должно быть, не зная, его просто не видела — она только чувствовала какую-то тяжесть в глубокой глуби темной воды, которую мне, рассказчику, хочется именовать еще и бесконечно длинной.
Ревекка беспокоила Риту. И не только потому, что полезно знать, от каких женщин уходят любимые мужчины. Рите казалось, что, угадав суть этой невыразительной женщины, она будет лучше понимать самого Олега, который оставался для нее не совсем понятен. Она не исключала даже, что он страшен может быть, и когда-нибудь она сама, узнав какую-нибудь отвратительную тайну, захочет уйти от него. Ведь попросила же Ревекка его вон; хотела дожить с ним до старости, но взяла и выгнала.
В их последнюю встречу — в парке — Ревекка сказала Олегу, что надеялась на их воссоединение. Она была приличной женщиной, и, говоря такое, наверняка не шутила, не кокетничала („воссоединение“ — таким и было слово). Олег — не такой уж эгоист, ему должно было сделаться грустно, что их с Ревеккой общая история подошла к концу. Мостик над темной водой уже не принадлежал этой женщине с горделивым именем и внешностью скучной толстоватой овцы, да и сама Ревекка это наверняка знала. Если бы Ревекка действительно чувствовала способность вернуть его, она вряд ли стала бы говорить ему, что „надеялась“. Так мужчин не возвращают, а она была неглупа.
Почему она не завела от него детей? Если бы у них были дети, Олег никогда от нее бы не ушел. Он не позволил бы детям расти безотцовщиной, каким вырос сам, ведь это единственное, о чем он говорит с видимой мукой, а в остальном облачается в любимый теплый, лишенный жесткости и углов кокон.
— Она была бесплодна? — приставала к Олегу Рита.
Нет, не была. Ему, во всяком случае, неизвестно. Ревекка говорила ему, что не хочет детей, что дети разлучают, а не единят, и все чушь, что долдонят нам из поколения в поколение. Дети — это экономический резон, чтобы было на кого опереться в старости, в чем Ревекка необходимости не видела (и, как видно, была права).
В сущности, Ревекка была склочной бабой. В конце их совместной жизни она очень часто мучила Олега. Он мог приехать из дальней утомительной командировки, а она, сидя за столом, перебирая, например, почтовые марки, могла и не обернуться, буркнув только „а, ты?“. Она могла весь вечер, в гостях, простоять с унылым лицом, не говоря ни слова, провоцируя неловкости, ожидая будто, что Олег взорвется и скажет ей что-то обидное, злое.
Она ждала.
Врачи сказали, что она переусердствовала. Ревекка была склонна к полноте, стала заниматься спортом и умерла. Рита решила, что Ревекка решила похудеть. Если бы она думала о своем здоровье, а не только о внешности, то, записавшись на фитнес, и курить бы бросила, но вместо этого смолила одну за другой. Говорят, курение отбивает аппетит, и Ревекка не могла этого не знать. В общем-то, она убила сама себя: за здоровьем не следила, стала бегать до одури, и умерла.
Она была склочной бабой, но ранней смерти все равно не заслужила. Никто не заслуживает ранней смерти, а Ревекка — так думала Рита, оставаясь одна в большой пустынной квартире, когда Олег уезжал в очередную командировку — могла почувствовать себя в, полном безысходности, в глухом, как бункер, одиночестве. Олег не виноват, что занят. Не виноват он, что молчит, но и она ведь тоже не виновата! Если бы у Риты не было своих интересных занятий, если бы ходила она на работу, как на голгофу, то могла бы не только ворчать при его появлении. Она б закатывала ему истерики, обвиняла б без нужды, несправедливо или даже подло.
— Лучше бы ты прическу себе новую сделала, — корила Ревекку Рита за эту серьезность, за эту приличную овечью правильность, которая хороша, как полиэтиленовый пакет: если надолго, то уже не гигиенично, а душно, тошно, мертво. — Нельзя быть слишком серьезной, нельзя.
Чтобы мост не рухнул, он должен быть пластичен, части его должны двигаться — и только так он, чутко дрожа, удержится над длинной темной водой.
Ревекка занималась скучным офисным трудом, а в детстве хорошо играла на рояле и даже мечтала о профессиональной карьере пианистки, но, отбивая на уроке физкультуры баскетбольный мяч, сломала палец. В юности профессионально занималась бальными танцами — но и с этой мечтой пришлось расстаться, потому что случилась какая-то беда со спиной. Олег рассказывал об этом Рите, припоминая не без труда. Этим нитям — внезапно оборванным, этим цветам — не успевшим расцвесть, он не придавал значения. В детстве он мечтал стать биологом, но им не стал, и в том, по его разумению, не было ничего плохого.
А что было бы с ними, с Олегом и Ритой, если б она не разговаривала с ним, а только ждала? Что было бы, если б не вела она эти выматывающие обоих разговоры — что думает он, о чем мечтает, хочет чего, чего боится. Что было б, если б ждала она от их отношений только музыки, только танца, живого естественного движения — если б ждала, а не требовала? Как скоро озлобилась бы, осатанела, возненавидев эту вечную, ко всем случаям подходящую склонность делать вид, что все в порядке, прекрасно все — все так хорошо, что заебись. Что было б, если б не умела Рита смеяться, над собой, над ним, над их любовью — безусловно, неверной и верной тоже вне всякого сомнения, раз уж нет единого на всех закона любви. Что было б, если б видела она всю нелепость бытия, каким бывает оно даже в самые нежные свои моменты, и не могла бы усмехнуться, отстраняясь, предлагая себе не принимать все слишком всерьез?
Ревекка была слишком серьезной. Может быть, думала Рита, она хотела жить только в полную силу — и неважно, что внешность у нее была скучной. Она же звалась этим редким именем „Ревекка“, и не пожелала сократить его до какой-нибудь… „Риты“, например.
Она могла молча и сильно требовать от Олега, чтобы он любил ее наотмашь, как в любовных романах, которые так любят такие женщины, такие, овечьей выделки, а он — человек полутеней и полутонов — не понимал, чего хочет от него эта женщина. Она умерла, он разок-другой всплакнул. Пересчитать бы сколько слезинок стоил каждый год их общей жизни? Думая об этом, Рита ловила себя на мазохистском удовольствии — он жил с человеком, был, наверное, счастлив, и так же легко положил его в архив, не гадая о причинах, не сожалея о следствиях. Может быть, и ее, Риты, уход, он встретит с той же грустью. Была — и сплыла. Он заживет дальше, снова кого-то встретит, кем-то увлечется, у кого-то пойдет на поводу. Рита была уже взрослой девочкой, она понимала, что после чьей бы то ни было смерти, жизнь не заканчивает свое коловращение. Мост рухнул, но вода-то течет. Но Рита точно знала, что если Олег умрет, то и она совсем скоро подохнет — от тоски, в муках, в сердечной немочи. Но она же дура, она же уродка, эта Рита. У нее душа в язвах. Какой с нее спрос?».
Такую написал бы историю.
ТУДА
Одна моя знакомая, она — лысая, потеряла брата. Его, недавно разведенного, нашли на полу собственной квартиры с пластиковым пакетом на голове. Задохнулся. Квалифицировали, как самоубийство, но не исключено, что и трагическая неосторожность. Он умер без штанов. Вполне возможно, пытался обострить ощущения от оргазма кратковременной асфиксией. Есть, говорят, и такой способ очутиться на седьмом небе.
Номер седьмой не вышел, получился смертельный. К брату моя знакомая не ходила, вещи из съемной квартиры ее муж вывозил. «Ненавижу твоего бога», — такую надпись он прочел в спальне.
— Нацарапали прямо на обоях, — с явным огорчением шепнул мне он.
Моя знакомая, как я уже отметил, лысая. Совсем. Прежде у нее были пышные ржаные волосы до плеч, но случилась какая-то сложная болезнь, волосы выпали целиком, включая брови и ресницы. Из улыбчивой красотки получилась барышня из научно-фантастического фильма. О ней, прежней, я могу судить только по фотографиям. Даже моей приметливости на лица не хватило, чтобы узнать, что за девица стоит на фото и, подняв руку, будто только что откинув тугую светлую прядь, хохочет во весь белозубый рот.
— Это ты?
— Это я.
Я познакомился с ней, когда голова ее напоминала бильярдный шар, когда она жила с тремя кастрированными котами в доме, окруженном садом, когда в качестве медсестры опекала смертельно больных, а я по журналистской надобности собирал материал о хосписах. Ничего принципиального она мне в интервью не сказала — мямлила что-то невнятное о работе, которая отдельно от дома — но удивить тогда все-таки смогла: лысая молодая женщина не прятала своей безволосой маковки ни под париками, ни под шапочками, но и не делала из этого шоу. Она производила — тогда — впечатление человека, который и в новых обстоятельствах сумел зажить с душевным комфортом. У нее, правда, была одна не очень приятная привычка: она повторяла за собеседником концы фраз и делала это с улыбкой, что, учитывая нулевое количество косметики на лице, напоминало о язвительной усмешке.
Моя лысая знакомая рассказывала о правах, которые получила буквально играючи. Прежде она много играла в компьютерное автовождение — у нее даже руль для это есть. Она рассказывала о своем саде, требующем постоянного ухода. О кошках, конечно, тоже. Они у нее в доме повсюду — не живые, так деревянные, картонные, фаянсовые; рисованные и нет.
— Красивые картинки, — сказал я однажды, когда, уходя от нее, увидел в прихожей три открытки в общей раме — это был Лондон, Париж и что-то южное, вроде Рио-де-Жанейро. Открытки были сделаны явно недавно, но так умело состарены, что казалось, будто смотришь на них из будущего.
— …картинки, — усмехнулась она и толкнула раму своим коротким белым пальцем. — Пятно на стене спрятала.
Рама качнулась; я ушел, запомнив зачем-то это замечание, в котором мне послышалась самоирония.
В последний раз она учила меня играть в настольный теннис у себя в саду. Это было летом. Ее муж жарил сосиски на гриле в углу сада, а мы метались по обе стороны облезлого теннисного стола. Она показывала, как держать ракетку, чтобы нужным образом отбить мяч, но у меня ничего не получалось. Я смущался, и от того делал еще больше ошибок.
— Бесполезно, — сказал я в итоге, а эхом мне стал ее искривившийся рот, бледный, как мне теперь вспоминается.
Мы стали есть сосиски, разговаривать. Ее муж говорил много, но я толком не могу вспомнить ни одной его реплики — главным образом о машинах, в которых я совсем не разбираюсь. В придачу к своему джипу он купил кабриолет. Дантисты могут позволить себе и дом с садом, и жену, работающую на полставки, и кучу кошек, и кучу машин, — наверняка так думал я, поддакивая мужчине, который тоже был лыс, но естественным образом: темная шерсть кудрявилась на висках, а кожа его была загорелой. Он выглядел негативом своей жены, которую, наверное, любил — не бросил же он ее, лысую, ради какой-то другой. А может, он просто был порядочным человеком. А может, он знал ее душу, о которой я мог только догадываться, но так и не догадался.
— Я почему бы тебе не пойти к психотерапевту? — спросил я лысую знакомую на каком-то витке нашего садового разговора.
— Я знаю, что он мне скажет, — она ответила так, будто ждала этого предложения и уже хорошенько его обдумала.
— Ну, и что?! Он же не говорить будет, а тебя слушать.
— Слушать, — повторила она по обыкновению.
— Поговорила бы, покричала, поплакала. Я бы пошел.
— Вот и иди, — она встала и скрылась в доме. Чуть позднее муж отправился за ней, а вернулся с известием, что у супруги срочные дела, да и ему тоже пора…
Ушел и я. А точнее, удалился — знакомство оборвалось. Ни она не настаивала, ни я. На ее месте (не удивлюсь, если ты меня читаешь), я б сходил к психотерапевту. Мы думаем, что мы умные. Мы ими, может, даже и являемся, но всего знать мы не можем, нам даже самих себя до конца не изведать. Когда моя жизнь пошла трещинами, я стал у всех спрашивать совета. Я тоже был умный, но почему-то уверен был, что спрашивать совета надо, даже если знаешь, что тебе ответят — и вот нежданно треснет где-нибудь еще, в месте, вполне возможно, самом неожиданном, гной выйдет и заживет рана; и не надо будет нечленораздельно мычать, зачем пошла ты смотреть на умирающих; почему бросила работу в детской клинике и пошла — туда…
СКАЖИ!
Вначале заработал денег. А как запахло жареным, уехал. Не в Лондон, как «главный», и не в Вену, куда слились служки от Алексея на пару пинков повыше. И даже не в Малагу, поближе к теплу.
Выбрал Мадрид. Точнее, его пригород Эль-Эскориаль, провинциально-старинный, претендующий на звание самостоятельного города, но обмануть Алексея было сложно — он влет сообразил, куда стремится этот городок с выложенными камнем улочками, из-за горы будто вставшими на дыбы. Купил квартиру с окнами на скверик из узловатых платанов, хотя маклерша, почуяв жирного карася, впаривала жилье побольше — дом, или хотя бы полдома.
Балкона в квартире не было. Там, где он должен быть, устроили продолжение гостиной — она торчала над улицей издевательским языком. В этот эркер с длинными до пола окнами он поставил кресло-качалку и пальму, чтобы сидеть и, покуривая в условно-тропической тени, смотреть на народ внизу, на узловатые бледные платаны, на небо, оказавшееся ближе, чем в Москве, на суету деревянной двери по другую сторону скверика — там была булочная, принадлежавшая двум братьям-близнецам, похожим на одышливых жаб; дверь все время то открывалась, то закрывалась.
Метраж у квартиры был небольшой, квадратов сто. Но на двух этажах. Внизу — по одну сторону — кухня и столовая, обе похожие на пенал. На другой стороне — гостиная с эркером-щелью и лесенкой, ведущей к спальне под крышей, кабинету и детской. В комнате для девочки место было только для узкой кровати, шкафа и небольшого книжного стеллажа. Вся квартира выглядела какой-то сдавленной, но в детской это чувствовалось особенно.
Когда я появился у него со своим чемоданом — чужой, в общем-то, человек, мы виделись в Москве пару раз у его старшего брата, а перед моей поездкой в Испанию списались по Интернету — он повел себя так, словно мы давно и хорошо знакомы. Я отдал ему пухлый пакет от брата, от себя — конфетно-шоколадную мелочь. Брат Алексея сказал, что он — сладкоежка.
Исполняя ритуал, Алексей пожалел, что я всего только на пару ночей; извинился, что комнатку может предложить только тесную — а кровать только там помещается, а кроме нее есть супружеская, двуспальная, а гостиный диван неудобный… Мне было неловко, я — каюсь-каюсь — заподозрил даже какие-то намерения, которые при наших прежних встречах не угадывались, да и из облика его, тупым топором вытесанного, никак не следовали.
Комнату он мне выделил дочкину. Девочка — черноглазая и темноволосая, что глядела с фотографии у телевизора в гостиной — она жила у матери, у бывшей жены Алексея, из-за которой он предпочел Малаге мадридский город-сателлит, морскому бризу — близость неба и вид на булочную с суетливой дверью.
Рассказывать стал сам, я не просил. Мы сели на кожаный диван (почему одинокие мужчины любят кожаную мебель?), он разлил по бокалам красное вино, чокнулись за встречу, музыка задребезжала. Заработал денег, вовремя смылся, а в Малаге, еще проживая в гостинице, оторвавшись от мучительных осмотров бетонных каких-то уродин, претендующих на звание дома, записался на курсы испанского.
«Ана». Звалась она «Ана». С одной буквой «н» посередине, как это принято среди испанцев. Она давала иностранцам уроки испанского, а он был ее учеником. Собирались, конечно, в казенном помещении, девушка раздавала карточки, долдонила что-то — тут мне и спрашивать было не надо: во всем мире иностранцев учат разговаривать именно так. Алексею было легче, чем остальным — он помнил шесть месяцев на Кубе, куда на практику ездил еще студентом, да и перед бегством из Москвы, спохватившись, полистал какие-то книжки. Мог сказать больше, чем просто «Hola».
— Наверное, настоящая испанка, — предположил я, чувствуя себя обязанным что-то спросить, а он, худой, чернявый, и с лицом, как в полузабытьи, только пожал плечами.
Она могла быть и блондинкой, одернул себя я, с круглым рязанским лицом — мало ли, какие чудеса преподносят нам генные игры. Девочка лет пяти с прижатой к щеке ладошкой, которая наблюдала за нами с фотографии, могла быть чернявой в отца, а мать ее могла быть толстомордой блондинкой — как знать.
Алексей как-то познакомился с Аной, они как-то сблизились, нашли общий язык. Она сказала, что уезжает в Эль-Эскориаль, к родителям. Малага перестала его интересовать, он поехал в Мадрид, а оттуда в его сателлит. В общем, оказался в квартире-щели с видом на сквер и на булочную.
Работать по большому счету ему было не нужно, но через год или два он уже руководил своим малым предприятием. Алексей стал заниматься обновляющимися энергиями — или как там называются эти аппараты, вылавливающие энергию из солнца, ветра и воды… Есть люди, которые умеют притягивать дела, а с ними и деньги. Он, наверное, и в Антарктиде нашел бы себе занятие — поставлял бы пингвинам рыбу, или пингвинов — путешественникам.
Разошлись на сон, а утром, сидя в узкой столовой за непомерно большим столом темного дерева, он показал мне свое любимое испанское блюдо: ломоть поджаренного в тостере хлеба он натер чесноком, полил оливковым маслом, а сверху положил пару долек помидора.
— Любимое блюдо испанцев — это оливковое масло политое оливковым маслом, — говорил Алексей. Лицо его выглядело ровно таким же невыспавшимся, как и накануне вечером. Не мятым, но припухшим, с носом чуть меньшим, чем у его брата, но тоже крупным, видимо, фирменным для его семейства.
Он взял выходной. Не ради меня, конечно — кто я ему? — ради дочки. Он должен был забрать ее из школы в четыре часа дня.
— Мне на диван переезжать? — заволновался я.
Не надо. Встреча всего на час-два. Он заберет дочь из школы, поиграет с ней, и ее уведут.
«Уведут», — отметил я слово, странное в данном случае.
Времени до встречи было достаточно — он был готов со мной покататься: показать квартал в Мадриде, который мне наверняка понравится, и свою любимую кондитерскую.
Машина у него была грязноватая. Создавать уют, обустраивать пространство Алексей не умел. Дома — черный кожаный диван и лысые белые стены, в машине — какие-то пластиковые кули, куски рваного картона на заднем сиденье. Пока я обсыпался сахарной пудрой на втором этаже его любимой кондитерской, Алексей, попивая свой кофе с молоком и пятью ложками сахара, жаловался на испанцев, которые не сдерживают своего слова, не говорят всей правды и попробуй-ка вести с ними дела.
В музей «Прадо» он идти со мной не захотел, подвез только к заветным ступенькам, а сам отправился назад, в свой брусчатый Эль-Эскориаль — «купить чего-нибудь, и в школу».
Вернулся я поздно — увлекся пышной красотой мадридского центра, зримо, выпукло, многообразно отвечающего на вопрос, во что перевоплотилась, разграбленная испанцами, Америка. Профукали конкистадоры богатства заокеанских народов — так думал я, — проиграли, пропели, проплясали. Наверное, здорово приезжать сюда, эдак, раз в год — и так я думал, гуляя широкими проспектами, и кривыми переулками, — пошляться, портвешок попить, заглянуть в глаза истощенным красавцам Эль-Греко, которые нет-нет, да возникали на улицах; поискать в толпе смешных пучеглазых девочек Веласкеса. Жить в Мадриде — а такую мысль я примеряю во всяком новом месте — я бы, пожалуй, не стал; даже если бы у меня было столько денег, как у Алексея. Праздничный город, но чужой.
— Живой? — только и спросил Алексей, когда я вошел.
— Почти, — сказал я, жалея, что не догадался купить вина — хотелось выпить, а просить у Алексея я бы не стал. Кто я ему? Никто. Чужой человек. Я знал о нем больше, чем того заслуживал, и в той свободе, с которой он мне рассказывал о себе, было еще одно свидетельство, что приятельствовать мы не станем.
— Развелись… — продолжил он вчерашнюю песню под красное вино, которое таки возникло на столе, и просить не пришлось. Ана сама захотела; говорила, что не любит его, не видит с ним будущего. — У нее все было, чего ей надо?
Требование развода было для него громом средь ясного неба. Жили-были, он ходил на работу, она сидела дома с ребенком, по выходным ездили в Мадрид, или в кино, или к ее родственникам, жившим во все том же Эль-Эскориале, или к друзьям — опять ее, жившим все там же. Жили-были, а потом развелись: Ана собрала вещи и ушла — вначале к родителям, а затем в отдельную квартиру.
— Они не понимают слова «нет». Пять раз спросила, хочу или нет, — жаловался Алексей на мать своей бывшей жены (как зовут бывших тещ?), которая все хотела угостить его паэльей. — Так достала, что я чуть матом ее не послал.
— Другое отношение к словам, — предположил я. — Сам же говорил, что они любят обещать. Не различают, наверное, где отказ, а где ожидание, что тебе понастойчивей предложат. Вот и уговаривают.
— Что я, красна девица, чтобы меня уговаривать?
— Не девица.
Я заговорил о погоде и о новых планах. Бильбао посмотрю в другой раз, а сейчас поеду на юг, где наверняка тепло:
— Сяду на поезд и поеду.
— Машину лучше возьми.
— У меня прав нет.
В его взгляде мне почудилось презрение — разве можно жить без машины? как ты вообще живешь без машины? живешь ли?
— Так почему вы развелись? — мне захотелось поставить точку в этой банальной истории.
— Не сошлись.
— Ругались?
— Ну, она-то кричала. Эти испанцы всегда кричат. Хорошо им — кричат, плохо — тем более.
— А ты чего ж не кричал?
— А чего воздух зазря сотрясать?
Ага, мысленно кивнул я, а теперь плачешься чужому васе.
На следующий день я уехал. Едва закрыл дверь подъезда и с грохотом покатил чемодан по булыжникам в сторону железнодорожной станции, как забылся и Алексей, и его жизнь, показавшаяся мне такой же сдавленной, как и его квартира.
Поездка в Испанию была спланирована на двоих, но случились служебные обстоятельства, я поехал один — и не пожалел, научившись в Кордове, прямо на площади у церкви, бывшей когда-то мечетью, танцевать фламенко. Черная, похожая на жука, испанка, плясавшая вечером на уличном, полусемейного формата, празднике, показала мне, как переставлять ноги и как крутить рукой — срываешь плод, надкусываешь его и выбрасываешь — и рука, совершив дугу, взлетает снова, за новым фруктом — яблоком, конечно, плодом запретного знания.
До Малаги я тоже добирался поездом — дорого, прав Алексей, но зато я посмотрел, как высыхает страна ближе к югу, все больше напоминая черствый хлеб — и это в начале мая.
По всей Европе шли дожди, в Москве, как прилежно докладывала по утрам телефонная трубка, даже снег шел. Меня же провяливало солнце, не теплое уже, злое, жалящее: всего раз я позавтракал на гостиничной террасе, а лицо почернело в головешку, обнаружив и намечающуюся, еще слабым мелком прочерченную, сеточку морщин — глядя на себя по утрам в гостиничное зеркало, я мог предположить, каким я буду стариком. Если я им, конечно, буду.
Десять дней показались вечностью — не потому, что было скучно, а потому что много всего произошло; я отключился от внешнего мира напрочь, и, когда вновь оказался в Эль-Эскориале, возникло чувство, что это город из сна, виденный, но как-то смутно.
В последний вечер Алексей предложил пойти на уличный праздник. Какое-то национальное меньшинство шумно праздновало какой-то свой праздник, для чего раскинуло в центре Эль-Эскориаля два больших шатра.
— Я приглашаю.
Он хотел выписать себе индульгенцию, кормить меня тем, чем он хочет. На пластиковом столе в пластиковых тарелочках появились пирог с грибной начинкой, копченые рыбешки, жареная морская мелочь. Вино — белое, кислое, в гофрированных стаканчиках.
Нравится ли, не спрашивал, и похвалы не ждал — чувствовались повадки человека, привыкшего раздавать приказы.
— Сколько на тебя народу пашет? — перекрикивая толпу, поинтересовался я.
Оказалось, что пара-тройка десятков.
Пока я отсутствовал, в гостях у него побывали родители, московские учителя. Счастливая учительская семья, как мне еще брат Алексея рассказывал: отец — физик, мать — учительница начальных классов. Уже на пенсии, но дают частные уроки на дому. Не ради денег дают, а из любви к предмету. Съездили на день в Мадрид, по лесу погуляли, встретились с Соней (дочку Алексея «Соней» зовут). Привезли ребенку русские сказки, переведенные на испанский. Разговаривали больше жестами, хотя «Соня все понимает». А еще больше играли.
— К ней домой ходили? Или у тебя?
— Нет, в парке у школы, как всегда.
На фотографиях, которые Алексей показал мне с экрана своего телефона, пожилая женщина — круглолицая, с короткой седой стрижкой и ярким румянцем — была с девочкой одна. Сидя с ней на скамейке, листала книжку или в бескрайней радости хлопала в ладоши, глядя, как девочка качается на разноцветных брусьях.
— А где твой отец? — спросил я, думая, что он-то наверняка худой, костистый и похож на невыспавшегося Дон-Кихота.
— В туалет ушел, — Алексей усмехнулся. — Он снова курить начал, тайком. Мать все знает, но молчит.
— Делает вид, что ничего не замечает, — подхватил я мысль, чувствуя уже приближение другой мысли — тянущей на открытие в этом сложном семейном многоугольнике.
Я подумал, что его родители, скорей всего, из тех супругов, которые, оказавшись в ресторане, часами могут сидеть друг напротив друга и почти не разговаривать. Раньше я считал это молчание тревожным — сигналом того, что люди живут друг с другом по нужде: ну, дети, ну, дом, ну, прошлого больше, чем будущего… Сейчас у меня такой уверенности уже нет — молчат ведь еще и потому, что понимают друг друга без слов, не спрашивает же селезенка у печени, как ей живется — она все и так чувствует.
Ты избалован счастьем родителей, вот что мне захотелось сказать Алексею, ты считаешь такое счастье единственно возможным; ты, может быть, даже не догадываешься, что счастий бывает много, нет единого на всех счастья; селезенка может быть селезнем, а печень — печкой, и один будет крякать, а другая пыхать, что тоже — как знать? — своеобразное счастье.
— Мучительно, наверное, общаться с внучкой, как в тюрьме, — сказал я, мысленно добавив, что внучка — единственная, старший-то сын живет холостяком и с родителями общается мало.
— Еще бы.
— А помириться нельзя?
— Сейчас уже нет.
— Не понимаю. Что-то не так, — вино развязало мне язык. — Вот так взяла, однажды собрала вещички и ушла. А ты ни сном, не духом. Так не бывает.
— Еще не так бывает.
Тому, что случилось далее под сводами огромного шатра, заполненного говорливым народом, я объяснения не имею — я не знаю, зачем Алексей стал мне об этом рассказывать. Может, вино виновато. А может, его никто не спрашивал. Или просто накопилось, а я оказался рядом — в общем, сидя за столом из грязного белого пластика, попивая дрянное вино и подъедая странную еду, я узнал то, что, наверное, для моих ушей не предназначалось.
Ана не только ушла от него. Она пошла в полицию и сказала, что подозревает своего русского мужа в совращении дочери. Последовали унизительные экспертизы, собеседования с психологами. Терзали его, выспрашивали дочь. Все подозрения были признаны безосновательными, но встречаться с Соней он может только под наблюдением социального работника — пока суд, «самый медлительный в мире суд», не вынесет соответствующее решение.
— Зачем?
— Что «зачем»?
— Зачем ей этот поклеп? — история не укладывалась у меня в голове: из пылкой «кармен», какой я вообразил себе Ану, получалась клиническая идиотка — ну, если, конечно, нанятые психологи в своих выводах не ошиблись. — Она дура?
Если и дура, то не без коммерческой сметки. Ана претендует на часть его фирмы, так что им предстоит еще один суд, а только за право встречаться с дочерью он уже заплатил адвокатам 15 тысяч евро. Алексей собирается теперь идти до конца, он хочет отсудить у матери ребенка, воспитывать Соню самостоятельно.
Я подумал, что он проиграет — суды всегда на стороне матерей, даже если те — клинические идиотки. Сначала девочка будет жалеть мать, позднее станет в ней сомневаться — и вот тогда-то может случиться ее новое знакомство с отцом. Оно может произойти и позже, если забор, выстроенный матерью, будет глухим и крепким.
— Она ведет себя так, будто это я хотел развода, — говорил Алексей. — Как будто это я ее бросил. Она же сама захотела!
А ты ее не остановил, подумал я. «Хочешь — уходи», — сказал ты на чужом тебе языке, не дрогнув и бровью, как это средь настоящих мужиков принято.
— Я пойду до конца, — говорил он это не ожесточенно, а как-то задумчиво, будто комментируя невидимое мне кино.
— Но ты же ее любил, — сказал я и, уловив странный блеск в глазах, поправился. — Ты же любил ее?
— Я же с ней жил, — сказал он, как будто это что-то значит.
А что ж ты не говорил ей, что живешь с ней не просто так? Почему не говорил ей каждый день, при любой возможности, что живешь с ней, потому что любишь, что она нужна тебе, чтобы цветистая испанская ее порода расцветала, чтобы она хорошела от твоих слов, набиралась самодовольства, была уверена, что ты с ней, что ты — ее, что вы навсегда вместе, и вы были бы вместе, — в тот момент, в круженьи этих мыслей я был уверен, что они — Ана и Алексей — наверняка были бы вместе, если б она поняла природу его молчания, а он помнил бы о силе слов.
Говорить, что все бабы — бляди-суки-потаскухи я не захотел. Алексей стих, не без смущения мы стали обсуждать ботинки, которые были у нас одной фирмы, только мне они обошлись дороже, а у него дискаунтер в паре минут езды на машине.
Мы доели еду, допили вино и, почти ничего друг другу не говоря, дошли до дома. Я подумал, что было, наверное, так: муж много работал, приходил поздно — такие, как Алексей, всегда много работают, они не могут жить без дела; вначале она подозревала его в измене, принюхивалась, обыскивала карманы; потом стала грозить разводом, всякий раз закручивая все сильней; ушла, но, не сумев уязвить так, как ей бы хотелось, ударила по самому больному, превратив во врага отца своего ребенка.
Она добилась своего. Зачем она своего добилась? Кто от этого выиграл? Дура, как ни крути.
— А может тебе уехать? Что тебя здесь так уж особенно держит?
— Здесь моя дочь, — сказал он.
Я улетел на другой день. Алексей подвез меня до аэропорта и, хлопнув на прощание по плечу, попросил передавать «братцу» привет. Небо над аэропортом было ясным, близким, будто рукой дотянуться можно.
Я позвонил, едва сдав багаж, шествуя налегке по длинному ярко освещенному коридору.
— Ты любишь меня? Скажи. Скажи мне, как ты меня любишь, за что ты меня любишь. Я хочу слушать твою любовь. Мне надо знать, почему ты меня любишь, я не хочу ждать и догадываться. Я не хочу бояться, что ты не любишь меня, что я придумываю себе твою любовь, а потом могу придумать и ненависть, а она, даже придуманная, бьет по-настоящему. Скажи! Сейчас мне очень нужно, — потребовал я и стал слушать, чувствуя, как по спине бегут мурашки…
ПЕЧАЛЬКА
Права у меня не было никакого. Но и выбор был небогат. Либо смотреть в ее немытую макушку, из-за длинных темных волос кажущуюся немного лысой, или на экран ее же телефона. Меня с чемоданом вжало в поручень, а за поручнем, внизу, сидела девочка-девушка. Скрючившись в ломкую кучку, она читала записки на экране своего телефона, перебирала их одну за другой. Телефон был розовый и, если б, я ее выдумывал, то счел бы эту деталь излишней.
Записки ее были не для меня предназначены, можно бы и отвернуться, или хотя бы закрыть глаза, но глупо же стоять с закрытыми глазами в поезде метро. Ты едешь, а глаза твои закрыты. Глупо. Глупее даже, чем розовый телефон у девушки-девочки.
В общем, я читал. Как толкало особенно сильно, так и утыкался в экран, и буквы складывались в слова. «Голова болит» — лезло с экрана. «Я не люблю когда мне так пишут. Я начинаю ржать», — сообщал он в другой раз. «Печалька:)», — таким было еще одно послание. Записок было много, девочка долго на них смотрела, хотя состояли они из пары слов и пары закорючек. У нее была в телефоне специальная папка — на ней было написано «Сашок». А, может быть, она только его эсэмэски и сохраняла. Все, что подруги писали, или родители, удаляла, а его записки берегла. «Печалька», — ответил ей Сашок по неизвестному мне поводу. И улыбку изобразить не забыл.
«:)».
Я попробовал не смеяться. Как только мне хочется над кем-то похохотать, я пробую — если успеваю до этой неудержимой щекотки — вспомнить, а сам-то как? а у меня? а не крива ли рожа?
Что я пишу?
«Прилетел», — пишу.
«Добрался, все ОК», — пишу.
«„Солнце светит“, пишу, или, как сегодня, например: „Дождь“:(.»
Я пишу «До встречи», «Скучаю», «Скоро буду» и «Я тебя тоже». Я много чего пишу, всякую глупость, в общем-то, которая иногда — много позднее — оказывается и не глупостью вовсе. Помню ли я свои статьи на злобу дня? Не помню. Прошла «злоба», истлела и статья. А разговор с хромоножкой во Франции записал и очень им дорожу. И тетку ту на Мертвом море хорошо помню — ох, и злющая она была. И ловкую фразу помню, которая выскочила сама собой, и была будто бы и не обо мне.
«Она думала, что он ее не любит, а оказалось, что это у него любовь такая», — записал я, не зная еще, что, походя, заглянул себе в будущее, как в карман.
Подошла моя остановка. Она была и ее остановкой. Девочка встала, из девочки-кучки став девочкой веточкой — обычный девочковый сюрприз. Она пошла впереди меня. Обычная девочка. Джинсы, пухлый стеганый жилет, длинные темные волосы.
Я подумал, что у нее сейчас одухотворенное лицо. Должно быть. А как иначе?
СМУТНЫЕ ДЕВЫ
…одна другой краше.
Первой была женщина-мумия, что сидела в кафе на самом краю Садового кольца, серо-зеленая с ввалившимися черными глазами, выпученным ртом и крутыми скулами — яркий пример нецелевых трат семейного бюджета — и я не стану думать, сколько тяжелых металлов потребила вместе с пиццей жуткая кукла, пока я ждал зеленого света светофора, переходил дорогу, спускался в подземный переход и из него выходил — к высотке МИДа, тоже жуткой в своем желании быть красивой, а там, на ветру, увидел вторую.
Вторая, юная, была в белых шортиках, похожих на купальные, в белой рубашке, похожей на мужскую, завязанной на пупке узлом, а на ногах у нее были красные туфли на длиннющем каблуке, а в руке она держала красный айпод, а к ушам ее, скрытым каштановыми кудрями, тянулись красные провода. Объективно говоря, (учитывая, например, истерический раскрас лица) она была похожа на проститутку, но шаг ее на здоровенных копытах был зыбок, круглое личико молодо, а выражение его было отчаянным. «И наплевать, я самая красивая, как из журнала», — было написано на нем, из чего следовало, что второй кожей проституционный наряд, может, и не станет; шанс на то, что поумнеет забавная барышня, еще есть.
А третьей, разглядывать которую я начал с крутой, низко посаженной задницы, уже ничего не поможет. Не будет в ней — затем обернувшейся ко мне лицом, строго на меня взглянувшей — ни той бездонной тоски прооперированной мумии, ни отчаяния неумело прихорашивающейся молодости.
— Вы куда? — спросила молодая женщина, не пуская меня в подъезд дома, где я сейчас проживаю. — В какую квартиру? Я вас не видела!
Костюмчик у нее был блескуче-синий, а сама она была похожа на спелый фрукт — румяная, круглая вся, наверное, даже красивая, если б не жестяной взгляд, и голос активистки-общественницы, какие прежде шли в комсомол, а теперь зовутся менеджерами и бизнес-леди. Сейчас яблоко, потом будет грушей. Ядовитой. Я думаю, от рождения.
— Вот и познакомились, — сказал ей я.
Услада для глаз — эти московские богачки. Вчера на аукционе (благотворительном, фотографическом) особы неясных лет скупали фотографии, кружочками с номерами трясли, вызывая оживление в толпе. Когда ушел последний лот, то аплодировали, вроде, не организаторам аукциона, придуманного для помощи детям с пороком сердца, а покупательницам, приобретавшим необязательную красоту в манере и впрямь обаятельной.
Было на аукционе много разного народу. Были сутулые высокохудожественные личности в твидовых пиджаках и длинных шарфиках; были лощеные господа в клетчатых костюмах; были старушки с аристократическими фамилиями; были женщины неизвестного рода занятий и социального статуса (вахтерши? профессорши?); были девушки в лаковых лаптях (если ножки толстые, то бескаблучная, тупоносая обувь иначе не выглядит). И были они — условно говоря, московские богачки, «смутные девы», яркие, немного изломанные.
Когда торговать еще не начали, а только потчевали шампанским, сбивались они в группки, или демонстративно друг друга обходили, косясь и позируя. Вначале рассматривал брючную брюнетку, черноглазую, во всякой мелочи выверенную. Потом блондинку, не столь тщательно одетую, но вызвавшую в этом небольшом зале наибольший ропот: она принялась показывать свой номер на картонке почти сразу после начала торгов, а к концу их, минут, эдак, через 20, стала владелицей трех или четырех фотографий Парижа (интересных, на мой дилетантский вкус, ракурсами, а вот ценности не слишком отчетливой). Брюнетка, косясь на блондинку, тоже поднимала свой номерок, на что-то претендуя, но купила ли что я, правда, не понял — мне было просто интересно следить за этим действом, где желания, жажды и вражды выложены настолько отчетливо — как на серебряном блюде. И круглолицая подружка блондинки, явно смущаясь, тянула руку с картонкой; и другая подружка, постарше, с губами в неснимаемом поцелуе, тоже интересовалась искусствами, попинывая носками туфель сумочку из кожи лилового страуса.
— Шампанского им, шампанского! — громко и несколько жестко выкрикнул один клетчатый господин, в аукционе участия не принимавший, стоявший позади стульев.
От напитков девы отказались. Моих ожиданий тоже не оправдали. Я все гадал, кому же из них достанется дивная фотография, которую, будь у меня свободные тысячи, наверное, купил бы: лицо девочки не то из 1920-х, не то стилизованной под то желтовато-белое время, в увесистой рамке из золоченой фольги, глядящей в упор, строго, немного пугающе; лицо-то раскрашено, и бусы есть, а ведь еще ребенок…
Фотографию кто-то другой приобрел, а смутных москвичек больше парижская уличная жизнь интересовала — эйфелевы башни, голуби, тротуары…