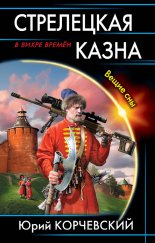Хьюстон, у нас проблема Грохоля Катажина
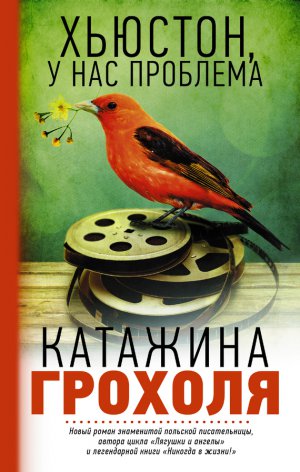
– Так оно же безалкогольное! – удивляется Ксавьер. – Одно, пожалуйста!
– Ксавьерчик, а ты тут долго еще будешь? Потому что если тебе надо поговорить с коллегой, – она понижает голос и смотрит на меня как на пустое место, – то я выскочу тут рядышком, в галерею, я там очень красивые туфли видела. Ты ведь еще побудешь здесь полчасика?
– Иди, иди, – нетерпеливо говорит Ксавьер.
И она уходит, возбужденная, покачивая бедрами, ноги ставит крест-накрест перед собой, наверно, модель или стремящаяся к этому няня.
Мы оба провожаем ее взглядом до двери: стройная, красивая девушка, приятно посмотреть. Ксавьер кладет деньги на стойку, выпивает пиво одним глотком.
– Ну, я смываюсь, – сообщает он.
Понятно. Ну да, он же не сказал девушке, что пробудет здесь еще полчаса, он ей сказал «иди, иди», а она, само собой, решила, что он ответил утвердительно.
Женщины никогда не учатся на своих ошибках. У них просто нет шансов.
Интересно, а я тоже так отвечал Марте? Не помню. Но вполне могло такое быть, потому что иногда человек хочет побыть один и вынужден что-то придумывать. А потом всегда можно сказать: «Ты меня неправильно поняла». И для пущей безопасности никогда не надо давать слишком однозначные ответы, это я понял давно.
– Ты ведь Джери знаешь? Вы вроде институт вместе заканчивали. Я помню тот его фильм о проститутках. Он классно его снял. Он тоже неплохой оператор. Как думаешь, может, у него время будет поснимать? Ну, давай, пока.
– Подожди, – я вынимаю телефон и ищу в контактах телефон Джери.
– Ты мне пошли смской, – говорит он.
– Куда? У меня нет твоего номера, – возражаю я.
– Ой, старик! – он вынимает визитку и кладет передо мной. – Ты уж впиши меня тоже в свои контакты, хотя теперь-то уж, наверно, не пригодится. Но так, на всякий случай.
И я остаюсь стоять, как идиот, с визиткой, лежащей передо мной. Стискиваю зубы – он хотел меня унизить, что ж, ему это удалось. Он только хотел надо мной поиздеваться и даже не думал звонить Джери с предложениями, но это же так приятно – тыкнуть человека в больное место зубочисткой. Подразнить тигра в клетке.
Ну ничего. Я набираю номер и посылаю сообщение с номером Джери.
А потом допиваю пиво и ухожу.
Предмет нуждается в любви
В среду утром позвонила какая-то старушка и говорит, что очень просит, что они с сестрой одни, что телефон мой ей дал некто, и тут же называет фамилию, которая мне ничего не говорит, и ссылается на этого незнакомого мне человека, который поручился за меня и так меня расхваливал, а у них не хватает смелости, но они готовы заплатить, сколько я скажу, и не могу ли я… потому что у них старый телевизор, но он для них окно в мир, и не буду ли я так любезен, потому что они уже звонили туда-сюда и уже в курсе, что не представляют интереса в качестве клиентов для фирм, которые им уже все поотказывали, а я ведь, говорят, специализируюсь именно на старых аппаратах…
Вот ни хрена не помню фамилию, но я и правда люблю иногда покопаться в каком-нибудь мастодонте, за которого уже никто не хочет браться.
Отец первый раз показал мне «Эдельвейс», о котором уже даже в его время никто не знал и не помнил, с особой гордостью. Мне было лет десять, а он мне рассказал, что это ламповый радиоприемник – лампы у него там, где сейчас диоды, показал, как снять крышку, объяснил, почему в этом приемнике Бетховен звучит особенным образом: это заслуга деревянной крышки, которая отлично резонирует, и я все это прекрасно запомнил. А в то же время он отлично справлялся с компьютером, названия которого я не помню, как будто с ним вместе родился. То есть он наглядно мне доказал, что нельзя понять современности, не поняв истории.
Я проехал по новым Иерусалимским Аллеям, свернул вправо и понял, что GPS ведет меня в знакомые мне места. И прежде чем я сообразил, что где-то здесь я чинил этот чертов кабель во владениях Актрисы и ее мужа, среди цветов и неумелых операторов, меня стал догонять красный джип, сигналящий мне изо всех сил. Я остановился – и он тоже резко затормозил, взвизгнув шинами, его даже слегка занесло вбок.
Из машины выскочил мужик – я его узнал, это был муж Актрисы – и начал мне что-то очень взволнованно кричать и махать руками.
Убежать я не мог – некуда было. Да и потом, я решил, что все-таки настало время разобраться в этой неприятной истории. Не буду же я прятаться от них все время, как ребенок, или, как страус, совать голову в песок.
Я открыл окно и стал ждать – как с полицией. И когда мужик, как его там, не помню, был уже достаточно близко, решительно заговорил, пытаясь предупредить все его возможные претензии:
– Уважаемый пан, я выполнил свою работу как положено, и вы об этом знаете. Повреждение кабеля, о котором я слышал, меня не касается, а коллега, который меня попросил его заменить, теперь имеет ко мне претензии. Может быть, кто-то из зависти его вам перерубил, может быть, дебил-садовник снова что-то не то выкопал, но мы с вами оба знаем, что моя работа была сделана безупречно. А все остальное – это я уже ни при чем.
Он хотел что-то сказать, но я не дал ему этой возможности.
– Я считаю, что такое ваше поведение недопустимо. Я ни в чем не виноват, а вы преследуете меня, как будто я вам бог знает что сделал.
– Но подождите… – начал было он, став красным, словно помидор.
– Мне неудобно об этом говорить, но все ваши претензии вы должны адресовать кому-нибудь другому. – Я нажал на газ и проехал мимо него, в зеркале заднего вида заметив, как он опять истерически замахал руками и вскочил в свой красный джип.
Идиот.
У меня было всего метров двести преимущество, а он старательно его сокращал, но я тоже поднажал. Я же ему все сказал, что мог, – вот ведь тупица!
GPS сухо проинформировал меня, что через двести метров мне нужно свернуть направо, потом налево и еще через триста метров я достигну цели путешествия.
На тротуаре толпилась детвора, на дорогу вышел мужик в желтом костюме с длинной палкой в руках, которой он собирался перегородить дорогу, чтобы дети могли перейти на другую сторону, поэтому я еще прибавил скорость и проскочил эту помеху. В зеркало заднего вида я видел, как дети широким потоком выливаются на дорогу, а в отдалении уже замаячил красный джип, который вынужден был остановиться и их пропускать.
Я был спасен.
На всякий случай я припарковался в нескольких десятках метров от дома клиентов, схватил сумку и быстро побежал в направлении дома номер шестнадцать.
Ну не будет же он ходить по домам и искать меня, не дай бог!
Я пошел по старой неровной асфальтовой дорожке, через которую кое-где пробивалась трава. По бокам дорожки росли цветы – желтые, красные, розовые, и кусты сирени несмело тянули свои ветки к прохожим. На крыльце старого частного дома ждала старушка в черном платке.
Кадр как из «Земли обетованной» Вайды.
Воздух замер, обещая знойный безветренный день.
– Приветствую вас, – сказала старушка. Топора у нее в руке не было. – Прошу за мной, сюда, пожалуйста.
Она проводила меня в дом. За столом, на котором были разложены карты и стояли чашки, сидела другая старушка, точная копия первой, единственное различие между ними заключалось в том, что у второй на платочке были какие-то цветные узоры.
– Это моя сестра. Валентина, этот тот пан, который вернет жизнь твоему телевизору.
Она сказала «твоему», не «нашему», и это меня слегка удивило. Старушка за столом в отличие от той, что встречала меня на крыльце, протянула мне руку – и клянусь, она была в митенках! Сам бы не поверил, если бы не видел собственными глазами!
Полдень, будни, а старушка развлекает себя пасьянсом. В перчатках.
Старушка номер один заметила мое удивление – я не смог, видимо, его скрыть.
– Я его на самом деле почти не смотрю, я читаю. Но у сестры слабые глаза, мы даже боялись, что это она слепнет, но потом выяснилось, что это картинка нерезкая, вы сами можете убедиться.
Я взглянул на телевизор. Старый «Нептун», помнящий доисторические времена. Я снял крышку – пыли внутри было на сантиметр, сюда никто никогда не заглядывал. Это был, конечно, полный хлам, может быть, какой-нибудь музей и обрадовался бы такому экспонату, хотя еще больше ему могла бы обрадоваться, пожалуй, та подруга Марты, у которой был книжный магазин с кофейней, у них кроме старых книжек выставлялись еще старые радиоприемники и неисправные телевизоры. Ретро.
– Он очень старый, – сказал я.
– Ну да, но мы не можем себе позволить купить новый. С нашими-то пенсиями… Так что он уж будет с нами до конца.
– А я уже утратила надежду, – обронила Старушка номер два, и так она это сказала, как будто речь шла о ее тяжело больном родственнике или в крайнем случае о любимом питомце, но никак не о куске металла.
– Я посмотрю, что можно сделать, – ответил я, чувствуя себя хирургом перед операцией.
Ну что ж, палач, исполняй свои обязанности.
Я попросил пылесос, очистил внутренности, стараясь, чтобы было как можно меньше шума и грязи. Проверил разъемы – к моему удивлению, они оказались в полном порядке. Потом бросил взгляд на проводок умножителя напряжения – и понял, что скорее всего это единственная причина того, почему «Нептун» вдруг утратил резкость изображения. Я припаял оборвавшийся проводок, включил телевизор, подождал, пока он разогреется, и, к радости обеих старушек, на экране появилась четкая, яркая картинка. Ну, насколько это было возможно, естественно.
– О боже, даже не знаю, как вас благодарить! – Старушка номер два смотрела на меня с искренней благодарностью. – Вильгельмина, сделай пану чай, у нас есть великолепное варенье из розовых лепестков, свежее, этого года, – она так улыбалась, что я просто не смог отказаться под предлогом, что спешу.
Мой телефон раззвонился как ненормальный, я бросил старушкам извиняющийся взгляд, но потом увидел, что это снова Ярек меня домогается, и сбросил звонок. Наверно, муж Артистки уже настучал ему о моем неподобающем поведении, а я вовсе не чувствовал себя ни в чем виноватым, никакого преступления не совершал, я только объяснил ему все как есть – и мы покончили с этим. Все, дело закрыто, проблема решена. Неужели так трудно это понять?!!
Старушка номер один убрала карты на край стола, строго в том порядке, в котором они лежали до этого, переложила восемь кучек открытых и одну закрытую ровненько, сохраняя даже промежутки между ними и следя за тем, чтобы это выглядело так же эстетично, как и раньше.
Потом она разложила три вышитые салфетки, вынула сахарницу, серебряный поднос и маленькую хрустальную вазочку с серебряной ручкой.
Маврикий бы очень порадовался тому уважению, с которым она обращалась с этими вещами.
Старушка номер два внесла чайничек и чашечки с золотым кантиком. И прежде, чем я сообразил, что делаю, я перевернул чашку вверх дном и прочитал название фирмы, которое ничего мне не сказало.
Взгляд обеих дам, которым они сопроводили сие мое действие, заставил меня вспыхнуть от стыда. Я отставил чашку в сторону и глупо улыбнулся.
– Ольбрих, – сообщил я, потому что именно это и было там написано.
Они обе тоже улыбнулись, как по команде.
– Ольбрих! Мы любим фарфор конца девятнадцатого века. И как же приятно иметь дело с человеком, который разбирается в искусстве!
Я промолчал. Иногда нужно просто молчать, чтобы выглядеть умнее. В моем случае это работает. Почти всегда.
Старушка номер один подняла с подноса свою чашку.
– Настоящий фарфор пропускает свет, настолько он тонкий. Фаянс не пропускает… Такой фарфор отправляли художникам, никто не печатал на нем рисунка, это изображение высшего класса, произведение настоящего мастера. И вы с первого взгляда смогли его распознать и оценить. Взгляните на этот тонкий оттенок кобальта! А еще у нас есть «Сорау», – она повернулась и вынула из шкафчика еще одну чашку.
Я молча взял ее в руки. Поднес к свету, посмотрел сквозь нее, потом вернул. Вообще ничего в этом не понимаю.
– Это сегодняшние «Жары». Владельцами были семья Карстенс. Но в сорок пятом русские разбомбили фабрику, оборудование вывезли, все кончилось. Чай из этих чашек имеет другой, особенный вкус. Вильгельмина, налей. Это фарфор из сервиза «Кавалер», голубая мимоза, – он кивнула на буфет.
– Красивый, – сказал я, чтобы что-нибудь сказать, и взял в руки свою чашку. Она была легкая и тонкая. Внутри слегка золотилась. Старухина рука с изуродованными артритом пальцами, грубая, морщинистая, даже несмотря на митенки, очень контрастировала с безупречным тонким фарфором чашки, которую держала, – очень хороший образ. Весь лишний мусор убрать, оставить в кадре только эту чашку и эту руку – потрясающий образ…
– «Тифенфурт». Мы его тоже любим.
– И «Мейсен», – брякнул я, потому что это было единственное название, которое у меня ассоциировалось с фарфором.
– Ну да, но «Мейсен» – это совсем другое. Милая, передай пану конфитюр, вы, пан, сахар не кладите, попробуйте с этим. Вы ведь наверняка знаете, что фарфор еще матовый, без блеска, отправлялся на роспись художникам, а потом его снова отправляли в печи, и уже оттуда он выходил с блеском. Каждый предмет нуждается в любви. А сегодня все поставлено на конвейер, все под копирку делается. А тут вот не найдешь двух одинаковых, различия еле уловимые глазом, практически незаметные – но они всегда есть.
Я осторожно сделал глоток.
– Сколько мы вам должны?
– Сорок злотых, – сказал я, хотя эта цена не имела ничего общего с действительностью. У этих двух старушенций, возможно, имелись обширные запасы фарфора – но у них точно не было таких обширных запасов в кошельке, это было видно невооруженным глазом.
– Минуточку, – Вильгельмина поднялась, открыла дверь в соседнюю комнату, вышла и старательно ее за собой прикрыла. Старые люди так устроены – им не хочется, чтобы всякие посторонние заглядывали к ним везде.
Она довольно долго не возвращалась, я даже начал беспокоиться, потому что за стеной слышалось шуршание, какая-то суета, удаляющиеся в глубь квартиры торопливые шаги. А потом старушка вошла, бледная как смерть, с сумкой в руке.
– Меня обокрали! У меня нет ни гроша, ни гроша!
Какое счастье, что я ни на секунду не заходил в ту комнату! Мне даже стало жарко от того отчаяния, которое звучало в ее голосе, – от этого отчаяния «Нептун» точно сам бы исправил резкость своего изображения, клянусь!
– Милая, это невозможно!
– Возможно, ничего нет, вся пенсия пропала! И нам нечем заплатить, Иисус Назарейский!
Я посмотрел на старушек.
– Что касается меня, то никаких проблем. Я заберу деньги как-нибудь при случае, когда они у вас будут.
– Это абсолютно исключено, – заявила Старушка номер один. – Дай, я проверю, – она залезла в сумку, вытащила оттуда кошелек, который помнил Вторую, а может быть, я не совсем уверен, и Первую мировую войну.
– Нет.
– Спокойно, – влез я. – А вы выходили сегодня из дома?
– Да! Я как раз с утра ходила на почту – получить пенсию!
– А потом? Потом что делала, вспоминай, что ты делала дальше, где была? – сестра наклонилась над ней с тревогой. Старушка начала плакать.
Мне хотелось убежать подальше отсюда.
– Утром я была на почте, за пенсией ходила, там очередь была, я пошла за морковкой на рынок, купила морковку, потому что захотелось морковки на обед, и половину куриной грудки, возвращалась по Блаватской, зашла в продуктовый, потому что вспомнила, что не купила молока, ой, боже мой, боже, – старушка села, прижимая сумку и кошелек к груди.
– И везде ты платила? Ведь кошелек-то у тебя остался… На рынке ты морковку у пани Янины покупала?
– Как всегда…
– Ну так она бы заметила, если бы они у тебя выпали. А на почте ты куда деньги положила?
Я поднялся:
– Спасибо большое за угощение, мне и правда уже надо уходить. Вы только не нервничайте, правда. Рад, что смог вам помочь, – и я направился к выходу.
– О боже! Подождите, прошу вас! – раздался вдруг радостный голос старушки, которая только что лила такие горькие слезы. – Я же когда была на почте – пенсии-то еще не было! Не выдавали еще! Пожалуйста, – она вскочила, как будто ей было двадцать лет. – Пожалуйста, подождите. Это все так неприятно для нас, а вы затруднились… Может быть, вы примете в знак признательности конфитюр?
Я не знал, что ответить. Отказаться было бы неприлично, они же хотели меня хоть так отблагодарить за труды, так что было делать?
Я ушел, нагруженный прошлогодним крыжовником, прошлогодней вишней, конфитюром из розовых лепестков и маленькой хрустальной солонкой с крохотной серебряной ложечкой, которую старушки старательно упаковали в какую-то бумажку.
– Это в знак благодарности и на память, о нас никто долго помнить не будет, так что не отказывайтесь, пожалуйста. Солонка, конечно, не очень-то практичная, но вдруг вам захочется поставить что-нибудь красивое на стол… За столом с любимой женщиной сидится по-другому, если на нем стоит какая-то благородная вещь…
Ну да, согласен, при условии, что никто эту благородную вещь случайно не разобьет.
Я был смущен, но двум женщинам, которые сообща что-то тебе втюхивают, отказать невозможно.
Мы мило попрощались, на этот раз обе дамы подали мне руки, я вышел в теплый светлый день и подумал, что мир устроен удивительным образом. У людей нет приличного телевизора, но при этом они пьют чай из исключительно дорогой и редкой посуды. У них нет денег, но они не могут позволить себе остаться в долгу. И возвращают этот долг с высочайшим достоинством. Я подумал, что мог бы приволочь им телевизор, – легко, часто так бывает, что при покупке нового телевизора люди не знают, как избавиться от старого, и даже просят, чтобы я его забрал. Я обычно этого не делаю, потому что у меня ведь не склад и я не торгую подержанными телевизорами, но можно было бы. Или кто-нибудь из знакомых мог бы за символическую плату свой старый телик отдать.
Что-то благородное на столе между мной и женщиной… Солонка… Это может придумать только человек, которому пятьсот лет.
Я посмотрел на телефон. Шесть неотвеченных звонков. Три от Ярека, три от матери. Яреку я звонить не стал, потому что и так понятно, он хотел ругаться, а мне не хотелось в сотый раз повторять одно и то же и выяснять, кто из нас прав. А матери позвоню вечером.
Гомо сопящий
Эти люди – вида Гомо сопящий, которые сейчас наполняют мою квартиру шумом и движением, делятся на две части: на, собственно, гомо, которое что-то такое изображает ногами перед дверями балкона, и на вторую, младшую часть, которая сопит и пытается повторять движения. Да, похоже, я закончу свои дни лучшим другом лесбиянки и девчонки, которая от горшка два вершка.
Инга лежит и с легкостью делает ножницы, свободно вытянув руки вдоль тела, а девочка сделает пять движений ногами и падает в изнеможении, издавая такие звуки, что если бы Крыся не знала Ингу – я бы побоялся показаться соседям на глаза.
– Присоединяйся! – зовет меня Инга.
У меня больше нет дома. У меня нет убежища. Маленькая машет ногами у пола, она не может держать ноги на высоте.
Ну и что?
Ответ не заставит себя ждать, разумеется. А как же.
На одно опускание ног на пол – три мощных стука снизу.
Может быть, это единственное развлечение Серой Кошмарины? В смысле – я и все то, что у меня происходит. В прошлом году она уехала куда-то на целый месяц – и это было единственное время в моей жизни, когда я не чувствовал, что за мной следят.
Отзваниваюсь матушке.
– Милый, ты же знаешь, я никогда… – начинает она, и мне становится жарко, вот только этого мне сейчас не хватало! – …стараюсь тебя не пугать, но, возможно, мне придется остаться в больнице подольше, так не мог бы ты взять Геракла?
– Я?!! – спрашиваю я с искренним изумлением, потому что матушка совершенно отчетливо не понимает, что мне предлагает. Ну и ему, естественно.
– Понимаешь, на эти первые два дня я договорилась с паном Зигмунтом, он живет недалеко, но мне не хочется слишком его нагружать, если вдруг окажется, что мне надо остаться здесь еще. Конечно, скорее всего этого не случится, но на всякий случай я хочу тебя предупредить заранее. Потому что я дала Зигмунту твой телефон, и он в случае чего тебе позвонит…
– Мама, а зачем ты вообще ложишься в больницу?
– Милый, да там какие-то пустяки, женские дела. Мне не хотелось бы об этом разговаривать с сыном, ты же понимаешь…
Я сразу, как спросил, пожалел, что спросил. Если бы она хотела – сама бы мне все сказала.
– Понятно, – говорю я. – Но Геракл же меня не выносит.
– Главное, чтобы ты его выносил, он же всего-навсего маленькая собачка, он не понимает, что происходит, он ко мне исключительно привязан, я хотела тебя уже раньше об этом попросить, но знаю, что тебе это будет не так легко, а пан профессор предложил… Я, может быть, вернусь к субботе, тогда вообще никаких проблем не будет.
– Я надеюсь, что ты вернешься, потому что вообще-то в воскресенье я пригласил вас на обед, – напоминаю я матушке.
– Нас? – в ее голосе слышится странное беспокойство.
– Да, тебя и Геракла.
– А… ну да, конечно, конечно. А что у тебя там так шумно?
– Это Инга, – говорю я, как будто это все объясняет: и шум, и смех, и визг, и стук щетки…
– О, милый, тогда не буду тебе мешать. Развлекайтесь как следует, – матушка очень довольна. – Только не приходи меня навещать, потому что это совершенно не имеет смысла. Никакого. Я дала твой телефон Зигмунту. В случае чего – пожалуйста, будь поласковее с Гераклом.
– Надеюсь, ему ты скажешь то же самое, потому что я его вроде до сих пор не грыз!
– Шутишь, милый. Ну, целую тебя.
– И я тебя целую, мам.
Ну вот. Мало мне Щетки, Лесбиянки, Малолетки – мне еще обязательно нужен Геракл! Прямо-таки необходим! Надеюсь, матушка просто истерит и через полтора дня вернется домой. Потому что я с этим уродом и полчаса не выдержу.
– Норрис! – Малолетка узнала это прозвище от Инги, которой оно кажется очень забавным и она часто меня так называет. – Норрис, иди сюда!
Они уже не делают упражнений – они открыли мои альбомы с птицами.
– Я не знала, что ты орнитолог, – говорит Малолетка с уважением.
– А я и не орнитолог, я просто люблю птиц.
– Но фотографии просто отпад! – радуется Аня, и я с удовольствием констатирую, что этот ребенок интеллектуально не по годам развит. И весьма продвинут.
– А тут у тебя что?
– Это ласточка-береговушка.
– А что она делает?
– Живет! Годами… делает гнезда, например, в нависшей над рекой стене берега, вон видишь – там дыры.
То же самое делают и стрижи, за которыми мы наблюдали с Маврикием.
Я разглядываю вместе с девчонками береговушку – и правда, отменные фотографии, а ведь их нелегко сделать, потому что эти птицы постоянно находятся в движении, так и мелькают туда-сюда.
– Меня когда-то за них наказали, – говорю я и сразу прикусываю язык, но уже поздно.
– Расскажи, расскажи! – Малолетка подпрыгивает в нетерпении, а я ведь надеялся, что она уйдет домой, потому что я ведь с Ингой разговаривал, а не с ней.
– Я был в армии на учениях, там была траншея, но поскольку время мирное – никто ею не пользовался, вот ласточки и сделали себе там гнезда и жили спокойно. Но один армейский начальник, разумеется великого ума человек, да что там – козел… решил, что траншею надо углубить и расширить.
– А что такое траншея? И зачем ее расширять?
– …Чтобы она стала шире и глубже, как положено. Был как раз май, то есть время птенцов, и поэтому я отправился к нему и сказал, что сделаю все один, но только через две недели: как раз двух недель не хватало, чтобы все птенцы научились летать…
– А откуда ты знал?
– Ну потому что знал.
Ненавижу, когда меня прерывают.
– Войны у нас нет, никто в них не стреляет, две недели особой погоды не сделают. Но этот начальник считал, что приказ есть приказ, – он же военный! А я отказался выполнять приказ, и на меня написали рапорт и довольно сильно наказали: я три дня на губе просидел.
– Вот так наказание! – вмешивается иностранка.
– Наказание как наказание, не перебивай.
– А ласточки умерли?
– Я подговорил еще пару товарищей, чтобы сделать детский дом для этих птенцов. Мы начали вытаскивать птенцов из гнезд, а у них у всех были клещи, вот у всех, поголовно, и не так чтобы один-два, а прямо тучи, поэтому сначала мы их от клещей чистили…
– А тебе не противно было?
– …а когда избавились от клещей, – я проигнорировал вопрос, – мы их посадили всех между камнями, сами особо не веря в успех своей затеи, потому что ведь стоит человеку взять в руки птенца – и ласточка уже к этому птенцу не приблизится, потому что от него будет пахнуть человеком.
– Ну, и они умерли?
– Но выхода не было. И, к моему изумлению, на этот раз взрослые ласточки не оставили потомство. И птенцы оперились, выжили и встали на крыло.
– О господи, – говорит Малолетка. – Но этот начальник просто придурок какой-то. Козел.
– Не говори так о людях.
– Ты сам так его называл!
– Называл, но я-то взрослый!
Инга смеется.
Ненавижу баб!
– То есть резюмирую – ты им немножко помог?
– Анка, дуй домой, мне надо поговорить с Ингой.
– Но ты обещал научить меня фотографировать!
– Научу, но не сегодня.
– А когда?
Я давно заметил, что если ответить женщине на один вопрос – то вопросы начинают множиться в геометрической прогрессии. А когда, а зачем, а почему не сегодня, а завтра, а почему нельзя тогда-то и тогда-то? И так далее и тому подобное. Вот у нас, у мужичков, все конкретно и просто: завтра так завтра, когда-нибудь так когда-нибудь. А тут – даже если ответишь конкретно, что завтра, – сразу последует другой вопрос: а во сколько? А ты позвонишь сначала? А после обеда? А ты не будешь голодный? А может, послезавтра? А может, лучше было бы?.. Вот так это обычно и выглядит.
– Завтра я тебе скажу.
– А во сколько?
Ну, что я говорил? Предчувствие? Случай? Фатум?
– Все, дуй отсюда, – говорю я решительно.
– А вот тебе черепашка, – она вытягивает ладошку.
Я доверчиво вытягиваю свою, а она на этот раз быстро виляет рукой в сторону, и я опять остаюсь в дураках.
– Только злая, – смеется она.
Да я уж вижу, что не добрая…
Инга стоит у открытого холодильника, оттопырив попку. Выглядит она чертовски аппетитно, но даже в такой позе она вряд ли найдет там что-нибудь интересное.
– Я голодная. Что ты вообще ешь?
Я ем то, что куплю себе поесть.
А сегодня вот я не купил ничего. У меня есть конфитюр от старушек, из розовых лепестков, и упаковка фрикаделек в томатном соусе на черный день. Возможно, с истекшим сроком годности. Я ее храню на нижней полке.
– На черный день, – говорю я.
– Что значит – черный день? Это вообще как переводится?
– Это переносный смысл, – отвечаю я, мне неохота вдаваться в тонкости перевода. Я ставлю банку в микроволновку и грею – у меня добрый нрав, я всегда накормлю голодного.
Инга прислоняется к холодильнику.
– Какой день черный? Какое-то время суток? Ночь?
– Нет, это последний день. Такой запасной день. Когда уже думаешь, что у тебя ничего, совсем ничего нет, а вдруг выясняется, что что-то есть.
– Запасной день?
– Нет, запас на черный день, да отстань, Инга, оставь меня в покое.
Инга тянется за тарелкой и вдруг машет у меня перед глазами ринграфом.
– А это что?
– Это Матерь Божья.
– Ты веришь в Бога?
О господи, я неудачник. Я есть хочу, а ее на разговоры пробило.
– В каком смысле?
– В нормальном смысле. Веришь или не веришь. Если веришь, то Матерь Божья не должна у тебя на холодильнике болтаться, а если не веришь – зачем она тебе вообще?