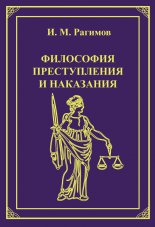Прорыв начать на рассвете Михеенков Сергей

Глава первая
Разведка доносила, что за спиной у ударной группировки 33-й армии, прорвавшейся к Вязьме, осталось много немецких войск. Командарм опасался за то, что восточная группировка армии, оставленная в районе Износок для прикрытия флангов и охраны коммуникаций, может не справиться с возложенной на неё задачей, и тогда…
Атаки на Вязьму успеха не имели. Через каждые два-три часа дивизии поднимались из снежных окопов и шли вперёд. И каждый раз повторялось одно и то же: шквальный миномётный и пулемётный огонь, десятки убитых, цепи залегали в снег и потом начинали медленно откатываться назад, на исходные, волоча за собой раненых.
Командарм метался по передовой. Он видел результаты атак. Понимал и беспомощность своих командиров дивизий, и свою беспомощность. Но Вязьму надо было брать во что бы то ни стало. И он снова гнал дивизии вперёд. Потому что понимал со всей очевидностью: спасение армии – там. Взять Вязьму и оборонять её до подхода фронтовых резервов. Командиры и комиссары полков шли в атакующих цепях.
Во время паузы, образовавшейся после одной из таких атак, Ефремов связался со штабом Западного фронта. Жуков выслушал его нервный доклад, в котором не было ничего обнадёживающего, и сказал:
– Войск вам дано много. Действуйте. Вязьма должна быть взята! Ваши атаки неэффективны. Плохо организуете атаки.
– Помогите нам авиацией и снарядами для артиллерии. Из каждых трёх наших пушек стреляет только одна! Миномёты и вовсе молчат. Атаки одной пехотой, без артиллерийской и авиационной поддержки, обречены на большие потери и, как следствие, на неуспех. – Командарм едва удерживал себя от вопроса по поводу вывода из состава ударной группировки 9-й гвардейской стрелковой дивизии.
Войск вам дано много…
Глубокой ночью со 2 на 3 февраля пришла тревожная сводка из тыла. Штаб в Износках сообщал, что противник силой до нескольких полков при поддержке танков, артиллерии и авиации атаковал боевые группы, охраняющие основание «коридора». Бой продолжается.
Утром пришло новое донесение: бой продолжается, введены последние незначительные резервы, противник нажимает.
Днём стало ясно, что «коридор» рухнул.
Первыми об этом узнали офицеры оперативного отдела.
– Заготовьте приказ Кондратьеву, – командарм сделал паузу и добавил: —…и Онуприенко о необходимости срочно расчистить тылы для осуществления коммуникации. Срочно! Пусть снимают батальоны с других, не атакованных участков и отбивают Пинашино, Савино и Захарово. Упустят время – немцы создадут оборону. Что произойдёт тогда, надеюсь, пояснять нет необходимости.
Почти одновременно был атакован фронт 113-й, 160-й, 338-й и 329-й стрелковых дивизий танками при поддержке пехоты. Днём 4 февраля, когда в шифровальном отделе обрабатывали приказ для Восточной группировки, с передовой пришли донесения: убит комиссар 160-й стрелковой дивизии полковой комиссар Зенюхов, ранен командир 338-й стрелковой дивизии полковник Кучинёв.
Из донесения штаба 338-й стрелковой дивизии:
«В 12.00 4.2.42 г. противник открыл интенсивный артиллерийский, из тяжёлых орудий, и миномётный огонь по Юрино и Ястребы и по боевым порядкам пехоты. После артиллерийской подготовки пехота противника до 300 человек со стороны ж.д. пошла в атаку в промежуток между Юрино и Ястребы. Другая колонна численностью до 500 человек атаковала Юрино со стороны Красной Татарки. Одновременно со стороны ж.д. вышли танки, которые прямой наводкой стреляли зажигательными снарядами, в результате чего деревня Юрино вся сгорела. Под воздействием огня артиллерии, миномётов и танков и большого количества атакующей пехоты 1134-й и 1138-й сп оставили Юрино и отошли в Дашковку.
Командир дивизии лично организовывал контратаку 1134-го и 1138-го сп на вклинившегося противника, но контратаки успеха не имели. Больше руководить боем командир дивизии не мог из-за ранения.
1136-й сп удерживает Кошелево, Горбы. В 15.00 4.2.42 г. 1136-й сп отбил атаку противника численностью до 40 человек на Кошелево. Из Лосьмино на Красную Татарку прошёл один танк и скрылся в лесу, что восточнее Красная Татарка. Противник продолжает удерживать Бол. Гусевка, Бесово. В Бол. Гусевка сосредоточилось противника до 80 человек с пулемётами…»
Прочитав донесение, командарм тут же попросил бумагу и начал писать приказ в дивизии:
«1. Категорически запрещаю отход и назначаю строжайшее расследование за Ваш преступный отход, – это же предательство в отношении соседей ваших слева тт. Андрусенко и Белова, которые развивают наступление на Вязьму.
2. Немедленно используйте ночь и восстановите положение с тем, чтобы в дальнейшем спешно наступать на Вязьму, это единственный наш выход из такого положения. Тяжело вам, врагу ещё тяжелее, мы у себя дома.
3. Все тылы, все канцелярии превратите в действующую силу против врага. Всё мобилизуйте, и враг будет разгромлен, враг нами окружён.
4. Трусов, предателей расстреливать на месте. Сами себя возьмите в руки, не трусьте, погибает чаще трус, а не храбрец.
5. Командиру 113-й сд восстановить положение, ликвидировать противника в лесу восточнее Дашковки, далее ударом через Червонное, Рожново наступать через Песочню на Вязьму.
Командиру 160-й сд восстановить положение и наступать через Лядо на Вязьму.
Командиру 338-й сд восстановить положение, продолжить выполнять мой приказ наступать на Вязьму.
6. КП командиров дивизий:
113-й сд – в районе Дашковка;
160-й сд – в районе Костровка;
338-й сд – в районе Горожанка.
Требую от всех понимания одного – у нас выход один – это наступление вперёд на Вязьму, и другого выхода быть не может. Трусов, отступающих, паникёров расстреливать на месте. Для наступления особенно использовать ночи. Мы у себя, враг окружён.
Свяжитесь крепче с партизанами, поднимайте наше население против врага.
Энергию проявите все большевистскую, победа за тем, кто действует, победа за нами».
Перечитал, сделал некоторые поправки, приказал размножить и срочно доставить в штабы дивизий.
Немного погодя он послал за Владимировым. Когда тот вошёл в землянку, жестом пригласил сесть за стол.
– Александр Владимирович, с этого часа переподчиняю вам все партизанские формирования. Приступайте к заготовке фуража. Поставьте всё на строгий учёт. И постарайтесь наладить обмолот зерна на муку.
– Неужто всерьёз нас отрезали, Михаил Григорьевич? – спросил Владимиров.
– Похоже, что да. Людей настраивайте на то, что это – временно. Что наши восстановят коридор и сообщение. Никакой паники. Внушать личному составу уверенность в том, что поставленная задача нам по плечу, что Вязьма должна быть нами не сегодня-завтра взята. – И, наклонившись к полковому комиссару, чтобы его не услышал никто, кроме него, сказал: – Иначе нашу армию, и нас с вами тоже, Александр Владимирович, вороны расклюют в этих полях. Отсюда нам дорога – только вперёд. А фураж и мука из-под снега могут сейчас и на ближайшее время решить для нас вопрос жизни и смерти. В буквальном смысле. И вот ещё что. Подберите надёжных людей из числа партизан, создайте три-четыре группы, поставьте их на лыжи, и пусть они попытаются отыскать проходы по маршруту Красный Холм – Износки. Маршруты и состав групп держите в секрете. Маршруты должны проходить в стороне от населённых пунктов. Вне дорог. Одновременно нужно попытаться наладить хотя бы один маршрут по второстепенным дорогам, которые не контролируются противником. Существуют ли ещё такие дороги? Пока немцы не создали сплошной линии фронта, такие дороги должны быть. Надо их найти.
Ушёл комиссар Владимиров, а командарм, вторую ночь не смыкавший глаз, прилёг на топчане, на матрасе, набитом соломой, прикрыл глаза рукой, но уснуть так и не смог. Не шёл к нему сон. Обходил стороной.
Утром начальник особого отдела армии капитан госбезопасности Камбург доложил, что ночью в районе Знаменки постовыми была задержана группа подозрительных лиц, одетых в красноармейскую форму. При задержании оказали сопротивление. Произошла короткая хватка. В результате двое убиты, один ранен и захвачен в плен. Потери с нашей стороны: один убит и трое ранены, один из них – тяжело. Во время ареста у задержанного изъяты документы на имя Сидорчука Ивана Трофимовича, связиста роты связи 338-й стрелковой дивизии. При проверке выяснилось, что рядовой Сидорчук без вести пропал три дня назад во время выхода на устранение повреждённой линии связи. Прибывший из штаба дивизии командир роты связи старший лейтенант Соловьёв факт выбытия из состава роты рядового Сидорчука подтвердил, но в задержанном рядового Сидорчука не признал. Во время допроса задержанный признался, что принадлежит к отдельной роте учебного полка «Бранденбург». Рота отдельными группами числом от трёх до сорока человек дислоцируется в районе действий 5-й танковой дивизии германской армии и 33-й армии РККА со штабом в Вязьме. Боевые задания получает из штаба по радиосвязи. До конца февраля, то есть до прорыва Западной группировки в район Вязьмы, рота учебного полка «Бранденбург» занималась проведением операций против партизанских формирований в Тёмкинском, Знаменском, Угранском и Вяземском районах Смоленской области. В настоящее время получила указание действовать против войск 33-й армии, воздушно-десантной бригады и кавалерийского корпуса, прорвавшихся в вышеозначенные районы. Характер действий – разведывательная и диверсионная работа, создание агентурной сети на территории, занятой противником, из числа местных жителей и военнослужащих тыловых частей армии противника. В составе роты офицеры и солдаты разных национальностей: немцы, чехи, поляки, русские, украинцы, белорусы, латыши, литовцы, эстонцы. Как правило, все великолепно владеют русским языком, хорошо знают обычаи местных жителей и уставы Красной Армии. Владеют всеми видами оружия. Обладают высокой степенью выживаемости в самых сложных условиях. Жестоки и безжалостны. Могут действовать под видом местных жителей, санитарных подразделений, частей Красной Армии, а также одиночных военнослужащих – связистов, фуражиров, санитаров, снабженцев и прочих. Имеют полную экипировку, вооружение и документы.
– Мои предложения, – заключил доклад Камбург, – усилить охрану всех важнейших объектов, штабов, полевых управлений, госпиталей; усилить контроль за средствами связи. Это – первоочередные меры. Затем надо будет провести проверку в госпиталях и санитарных батальонах. Составить списки партизанских формирований. Навести порядок в отрядах. Под видом партизан могут действовать и подразделения полка «Бранденбург».
– Хорошо. Работайте. Забот у вас прибавилось. Обо всём тут же докладывайте мне.
Глава вторая
Группу старшины Нелюбина снова оставили в заслоне. Вечером, когда дорога впереди слилась с синевой поля и нельзя было уже различить, где там, за перелеском, деревенские дворы, а где стога сена и кладушки дров, старшина вдруг спохватился:
– Братцы! А где наш Иванок?
Мальчишка исчез. Ещё полчаса назад Иванок крутился рядом, таскал из стога солому, ломал лапник, и вот, когда пришло время менять посты возле пулемётов, выяснилось, что его нигде нет. Решили подождать с полчаса и посылать связного в Красный лес, в отряд. Может, парень испугался, не выдержал. Вторая ночь на морозе, почти без сна… Не всякий и взрослый организм выдержит такое. Хотя Иванка на пулемётные посты не ставили, и лежать ему на снегу часами не приходилось. Да и спать в еловом лапнике и соломе, прижавшись друг к другу, было не так уже и холодно. К тому же теперь над этим лежбищем соорудили шалаш, который надёжно спасал от ветра и метели. Однако Иванок исчез.
– Ну, партизан… ёктыть… – стиснул зубы старшина и прикрикнул на остальных: – А вы почему не доглядели? Куда пулемётчики смотрели?
– Да он, может, к землянке ушёл? – ответил Губан. – Замёрз мальчонка, вот и смылся, пока мы тут с шалашом возились.
Но старшина чувствовал, что Иванок ушёл в Прудки. Когда таскали солому, мальчонка выглядывал из-за стога и подолгу наблюдал за деревней.
– Что ты всё выглядываешь, Иванок? – спугнул его раз старшина. – Цела твоя хата.
– Да не в хате дело, – загадочно ответил он.
– А в чём же?
– Да ни в чём. Так, гляжу… Пушки вон в овраге возле пруда устанавливают.
«Догляделся, ёктыть… Где его теперь искать, – с тоской и злостью думал старшина Нелюбин. – Надо посылать к Курсанту, докладывать».
И в это время прибежал второй номер пулемётного расчёта, установленного напротив лощины, и доложил, что по лощине со стороны деревни замечено движение. Старшина подхватил винтовку и побежал следом за вторым номером.
Луна в эту ночь светила не так ярко, и потому человека, идущего по лощине, они увидели не сразу. Шёл он осторожно, с остановками. Шагов за сорок снова остановился, сбросил на снег что-то тяжёлое и позвал голосом Иванка:
– Дядя Кондрат! Это я – Иванок! Помогите тащить!
Ночью наст держал. Старшина Нелюбин и второй номер пулемётного расчёта выскочили из-за сугроба и мигом добежали до перелеска, где уже начиналась лощина.
– Ты где, ёктыть, смегал? – строго спросил он Иванка.
– В Прудки ходил, – как ни в чём не бывало ответил тот. – Домой вот забежал. Сало принёс. Плохо, что ли? Теперь у нас харчей вон сколько! – И Иванок попробовал засмеяться.
Старшина Нелюбин сорвал с Иванка шапку и поймал горячее потное ухо. Мальчонка вскрикнул.
– Я т-тебе побегаю…
Иванок терпеливо снёс обиду. Молча потёр ухо и отвернулся, не желая отвечать на вопросы старшины, который не разобравшись… Чувство обиды возвращалось и начало захватывать Иванка, теснить простуженное горло, теснить непроходимым комком. Он всё так же молча наблюдал, как старшина пнул ногой мешок, потом взвалил его на плечо, крякнул, поправив мешок и умостив поудобнее, и скомандовал:
– К лесу.
Иванок, спотыкаясь и хлюпая от обиды, бежал последним. Мешок, видимо, вконец его измучил. А тут ещё старшина, не разобравшись… И действительно, мешок оказался нелёгким. Старшина бросил его на снег возле пулемёта и снова погрозил пальцем Иванку:
– Ты что же это, цыплёнок чёртов? Погубить нас хочешь! Зачем без разрешения в деревню пошёл? Там же немцы, гиблая твоя душа! А если бы попался?
– Я же не попался, – вытирая рукавом слёзы, ответил Иванок. – Что я, дурак, что ли? Я ж знаю, где пройти можно незаметно.
– Знаешь ты… Незаметно… Дисциплины ты не знаешь. Вот что. Всё, ёктыть! Отправляю тебя в лагерь. Раз порядка не понимаешь, слушаться командиров не умеешь, иди в отряд. На кухне картохи чистить будешь. Сдай винтовку, патроны и ступай.
Вот это было уже серьёзно. Сдать винтовку? Патроны? Да он, Иванок, эту винтовку в бою взял! Да он…
– Погоди, старшина…
– А ты, Михась, не влезай в приказы начальства! – резко осёк старшина Губана, пытавшегося заступиться за Иванка.
Губан ощупывал мешок и принюхивался. Наконец он радостно ахнул:
– Старшина! Это же сало! Иванок, ты что, сало припёр?
– Сало, я ж говорил. А ты, дядя Кондрат… – ответил Иванок и притих, понимая, что сейчас должно произойти самое главное, после чего старшина, возможно, или забудет свой приказ, или отменит его.
Старшина действительно шевельнулся и тоже принюхался к мешку.
– Правда, что ли? Иванок? – Голос его был уже другим.
– Сало, – ответил Иванок. – Целый кубел вывалил. Еле дотащил. Там и плетёнка лука. Хлеба вот только нет. Мать всё забрала, когда уходили.
– И как его хохлы не унюхали?
Старшина вытащил из мешка белый кусок в кулак толщиной, покрутил его перед носом и сказал одобрительно:
– Это ж, должно, пудов на семь-восемь боровок был – хороший. – И тут же спросил пулемётчиков: – У кого ножик есть?
Погодя, когда они сидели в лапнике и наворачивали сало с луком, старшина Нелюбин уже незло сказал:
– Иванок, за самовольство объявляю тебе выговор! А за проявленную находчивость, военную смекалку, а также моральную и материальную заботу о своих боевых товарищах – благодарность! Выговор, соответственно, отменяю.
Все засмеялись.
– Всё, хватит, поели и – будя, – сказал старшина, поделив последние кусочки. – Седнев, отнеси на посты, пулемётчикам. Пусть подкрепятся. А ты, Иванок, давай рассказывай, что видел в деревне. Как туда прошёл, куда зашёл, что видел, что слышал. Всё выкладывай. Считай, что я тебя посылал в разведку, и вот ты, мой разведчик, возвернулся к своему командиру и докладываешь обстановку и прочее.
– Ну, тогда слушай, дядя Кондрат.
Старшина услышал это «дядя Кондрат», поморщился, покачал головой, но на этот раз поправлять мальчонку не стал.
– Значит, так, дядя Кондрат. Прошёл я туда не оврагом, как возвращался. Это я нарочно так сделал: возвращался другой дорогой, чтобы, если кто меня заприметил, не перехватил на выходе.
– Молодец! Разведчик так и должен поступать. Разведчик, Иванок, заруби себе на носу, должен быть хитрее своего врага. И это – его главное оружие и преимущество. Ну, рассказывай дальше.
– Зашёл я от пунек. Дальше прополз по стёжке до двора тётки Пелагеи. В доме у них в это время кто-то был. Но вскоре вышел. Заходили двое. Потом в деревню въехали грузовики. Две или три машины под брезентом. Одна остановилась возле дома. И они, те двое, и приехавшие, начали разговаривать. Говорили о том, что, дескать, расквартировываться нужно отдельно от артиллерийской части. И ещё один дал приказ радисту срочно связаться со штабом.
– Постой, малый, а ты как это мог понять, про что они говорили? Ты что, немецкий хорошо знаешь?
– Да нет, дядя Кондрат, с немецким у меня в школе не ладилось. Тройка была. Чуть не двойка.
– Что ж ты мне голову тогда морочишь?
– Да они по-русски говорили!
– Как – по-русски?
– А так. Говорили по-русски. Некоторые, правда, вроде как немного с акцентом. И форма на них на многих вроде бы наша была, шинели и белые полушубки. И называли друг друга не по званию, а по фамилиям. Одного окликали Антоном Григорьевичем, а двоих других Радиным и Славским. Только радиста называли немецким именем. Я забыл, каким точно. У меня, дядя Кондрат, на эти немецкие слова ну ни какой памяти нет… Я тогда пополз вдоль изгороди к своему дому. Там никого пока не было. Я забежал в сенцы, в чулан. И в это время они зашли и в нашу хату. Посветили фонариками. Сказали, что дом выстужен. И ушли. Назвали какого-то майора Радинского или Радовского. И ушли. Я тем временем кубел и опустошил. Забежал на кухню и снял в гвоздя плетёнку лука. Только выбежал в заднюю дверь, вот они опять, слышу, на крыльце сапогами загремели. Вот бы гранату мне… Я бы их там человек пять, а то и больше, сразу бы положил. Эти уже разговаривали и по-русски, и по-немецки. Разговаривали о каком-то прорыве. Кто-то где-то прорвался в их тыл. Где-то рядом. А пушки устанавливают стволами туда, левее Андреенского большака, на север, откуда сами приехали. Так что снаряды через дорогу полетят, через противотанковый ров. Когда выходил, видел их два поста. Один стоит возле орудий. Другой на обрыве, возле лощины.
– Всё? Больше ничего не слышал?
– Слышал и ещё кое-что. Самое главное. Они говорили о партизанах. Наверное, о нас. Тот самый Антон Григорьевич приказал, чтобы всех убитых из домов вынесли и сложили в сарай возле школы. Казаков.
Старшина Нелюбин какое-то время молчал. Потом переспросил о том, что говорили о партизанах.
– В том-то и дело, что тут я плохо что понял. Говорили по-немецки. Партизанен, партизанен… И несколько раз повторили слово лес – вальд. Это слово я знаю.
– Слушай-ка, Иванок, мальчик мой. Беги сейчас же в отряд и доложи обо всём Курсанту. Скажи: в деревню тебя посылал я, на разведку. Про сало молчи. Ну, можешь сказать, что прихватил пару кусков. А матери потом отнесёшь. Утром или днём. Я тебя ещё раз отпущу. Доложишь и – мигом назад. Чтобы я знал, что ты доложил командиру отряда всё как полагается.
Воронцов с Турчиным сидели на брёвнах возле лошадей, под навесом, когда часовые привели Иванка.
Они выслушали мальчишку и оба побледнели.
– Мы однажды в октябре прошлого года встретились с таким подразделением, – сказал Воронцов. – Там, на Извери, под Юхновом. Километров тридцать отсюда. У меня кое-что сохранилось от той встречи.
Воронцов достал из кармана нож, выбросил лезвие. Турчин затянулся трофейной сигаретой, поднёс нож поближе к тлеющему огоньку и сказал:
– Десантный нож. Состоит на вооружении у войск специального назначения. Да, это тебе не пьяные казаки.
– Когда мы сможем двинуться в путь?
– Завтра утром.
– Поздно. Они прибыли сюда тоже до утра. Надо уводить людей ночью. Прямо сейчас. Поднимать и вести. С ними выслать охранение – человека три-четыре, лучше из своих. Двоих для связи. Выделите для них отдельные сани. Чтобы, в случае чего, действовали свободно. Остальные – в заслон. Старшину они обойдут. Не дураки, по дороге вряд ли попрутся. Надо предупредить, чтобы в бой старшина не ввязывался. Пусть расставит посты вдоль леса. Ночью они наверняка направят в лес разведку.
Иванок всё это время крутился возле кавалерийских лошадей, подкладывал им сено, поправлял сползшие попоны, покрытые инеем. И когда Воронцов позвал его, он тут же подбежал и с готовностью сказал:
– Слушаю!
– Иванок, – спросил Турчин, – а ты, случайно, не видел, лыжи у них были?
– Лыжи? Да не было лыж. Они ж на машинах приехали. А как по-немецки – лыжи?
– Лыжи по-немецки – ди шиер.
– Ди шиер? Это слово они повторили несколько раз. Это я точно помню!
– Значит, есть у них и лыжи. Давай, Иванок, дуй назад. Всё на словах передай старшине.
Ночью, как и ожидалось, немецкая лыжная разведка показалась на окраине Прудков, одновременно двумя группами, которые сперва выехали по расходящимся направлениям, на северо-запад и на юго-восток, а потом, пройдя по полю с полкилометра, повернули на юго-запад, в сторону Красного леса, и двинулись вдоль дороги, ведущей на вырубки. Видимо, маршрут они знали хорошо. Или их кто-то вёл.
Одеты они были в белые маскировочные куртки. Двигались быстро, почти бесшумно. И первый пост сняли так же бесшумно и быстро. Действовали ножами. Должно быть, пулемётный расчёт спал. Двинулись дальше. Но Губан, дежуривший вместе с Иванком на центральном посту у валунов, ещё издали заслышал приближение лыжников. Когда те подошли шагов на двадцать, он крикнул:
– Стой! Пароль!
В ответ полетела граната, но упала она правее, и взрыв не причинил вреда никому из расчёта. Губан открыл огонь. Трофейный МГ-34 пополам разрезал ночь и поле перед окопом. Каждая пятый патрон в ленте был заряжен трассирующей пулей. И Губан точно удерживал трассер на уровне середины корпуса, а потом, когда лыжники залегли, пытаясь организовать ответный огонь, он опустил очередь ниже и бороздил по головам залёгших до тех пор, пока там не прекратились стоны и движения.
На выстрелы прибежал старшина Нелюбин. Вскоре все собрались возле саней. Быстро, не мешкая, побросали в сани оружие, коробки с пулемётными лентами, которые Губан успел собрать в поле. Туда же сунул два автомата ППШ и сумку со сменными дисками.
– Гони! Гони! – закричал старшина на ездового, когда тот с перепугу запутался в вожжах и повалился кулем в передок.
– А где ж остальные? – погодя сообразил ездовой.
– На них вторая группа вышла. Погибли они. – И старшина Нелюбин, проглотив комок, подумал вслух: – Или в плен взяты. Просмотрели, разгильдяи…
Отъехали метров на сто. Остановились. Прислушались.
– Всё тихо, старшина, – сказал Губан. – Может, и не было второй группы? Может, одна всего была? Мы её и уделали.
– Тихо. Всем – слушать. Я других видел. Копошились возле наших ребят. Я не спал, мне не снилось. – И вдруг, пощупав вокруг себя в соломе, спохватился: – А мешок где? Где сало?
– Забыли, – охнул ездовой. – Около сосны и забыли. В снегу. Братцы, это я виноват!
– Поворачивай назад!
– Ты что, старшина? К чёрту в пасть? Побьют же!
– Поворачивай, говорю! Мальчонка жизнью рисковал, а мы…
Ездовой развернул коня.
– Так, слушай боевой приказ… – старшина взял один из автоматов. – Иванок, ты соскочишь с саней возле вон того дерева и займёшь позицию за ним. Ты, Губан, остаёшься на санях. Если встретимся с немцами, соскакивай вниз и прикрывай нас.
Сани звонко скользили по утоптанной дороге. Конь швырялся клоками пара, косил по сторонам беспокойным глазом. Иванок скатился с саней легко, как упавшая соломина, ненароком зацепившаяся за ивовую ветку. Перекатился за придорожный пень, замер. Впереди, под сосной никого не было. Сани подскочили к сосне. Ездовой начал разворачивать коня на вытоптанном кругу. И тут из-за снежного вала застучали сразу несколько автоматов. Ездовой охнул и откинулся на спину. Старшина бросил в сани мешок, выхватил из рук ездового, который хрипел и пытался перевернуться набок, конец верёвочных вожжей, с силой оттолкнул сани в сторону, чтобы конь мог свободнее развернуться и не поломал оглобли, и уже на ходу запрыгнул в сани. Трассёр пулемёта Губана хлестал по окрестным деревьям и кустам, по снежному гребню обочь дороги, по дороге и наконец упёрся в снежный вал, срезал его гребень, за которым занимали позицию автоматчики. На повороте сани занесло. И в это время очередь проскоблила рядом по прутьям кошевы. На старшину сверху кто-то навалился. Он хотел было сбросить с себя чужую тяжесть, но тут же сообразил, что это Иванок молча и мягко, как рысь, прыгнул к ним в сани.
– И-ё-окт-ты… Пош-шёл! Пош-шёл! – гнал старшина коня, боясь оглянуться назад.
Вскоре он заметил, что конь захромал и стал подбрасывать заднюю левую ногу.
– Тр-р… Коня, кажись, задело. Ногой поддаёт.
Он спрыгнул и кинулся к коню. Пуля задела лодыжку, сорвала клок шкуры. Рана кровоточила. Старшина погладил коня:
– Ранило тебя, милок мой. Ну, потерпи. Идти надо. Пошли, милок, пошли.
Конь прошёл ещё несколько шагов и опять остановился. Оглянулся на старшину, потянулся к нему верхней губой, жалобно заржал.
– Помогу я тебе, милок. Вот дойдём до места…
В кошеве лежал убитый Седнев. Он уже не мучился, не просил помощи и не обязывал живых заботиться о нём. А коня было жалко.
Губан возился с пулемётом, закладывал новую ленту и всё никак не мог справиться с приёмником. Матерился и беспокойно поглядывал за поворот, откуда вот-вот могли появиться те странные автоматчики с ППШ. Иванок стоял на коленях и напряжённо всматривался туда же, за поворот.
– Старшина, надо уходить. – Губан наконец справился с лентой, вставил её в приёмник и передёрнул затвор МГ. – Что там с конём?
– Ранен. Наверно, придётся бросить.
– А Седнева? – тут же спросил Губан.
– С Седневым нам не уйти.
– Я его понесу, – сказал Губан.
– Ты, Михась, понесёшь мешок, – сухо приказал старшина. – А я возьму твой пулемёт. Иванок – остальное оружие и коробки с лентами. Это сейчас нужнее.
Старшина взял коня за уздечку и провёл ещё шагов пятьдесят. Конь то вырывался из рук старшины, то тянул к нему свою дрожащую губу и толкал головой в плечо.
– Больно тебе, милок… Всё, ребяты, конь нам больше не помощник. Давай, Михась, твоего чёрта рогатого. Пора уходить.
Они торопливо разобрали оружие. Надели лыжи. Иванок приподнял уже закоченевшее тело Седнева, вытащил из-под него второй ППШ и сумку с дисками и сказал тихо:
– Ну, дядька Ефим, прощай. Некогда нам хоронить тебя. Вороны тебя похоронят.
– Пойдём, пойдём, – заторопил его Губан.
– Надо попрощаться, – рассудил Иванок и провёл ладонью по лицу убитого. – Холодный уже.
– Что, боишься, что живого оставим? – уже на ходу, хакая от тяжести пулемёта, сказал старшина Нелюбин. Только теперь он почувствовал вернувшуюся в подреберье тупую ноющую боль.
– Тётка Устинья спросит, что да как… Ей надо всё рассказать.
Ночью обоз ушёл по наполовину прочищенной дороге в глубину Красного леса. Где-то в этих местах, как говорили старики, он переходил уже в другой лес, в Чёрный.
Воронцов разделил отряд на пять групп. Одна ушла с обозом. Четыре остались в заслоне на четырёх завалах, которые они успели устроить с севера, северо-западной и северо-восточной стороны.
И вот они, пятеро, с пулемётом и двумя миномётами, затаились на северо-западном завале, откуда, по их предположениям, и должна была начаться первая атака.
– Владимир Максимович, я вас вот о чём давно хочу спросить, – сказал Воронцов, укрываясь второй шинелью, которую он захватил из землянки. – На нашу страну напала германская армия. А мы воюем с людьми, которые в основном говорят по-русски. То этот шкурник Кузьма со своими дружками, то казаки атамана Щербакова, то эти, в красноармейской форме.
Турчин, стиснув зубы и прикрыв глаза, молчал. Но Воронцов знал, что подполковник не спит.
– А свои хотели расстрелять.
– Эта война по своим масштабам и жестокости превзойдёт многие предыдущие. И судьбы множества людей она сломает, как соломинку. Миллионы будут похоронены вот в этих снегах. А что касается войны со своими… Самая трудная война, самая кровавая схватка – это схватка со своими единокровными. Потому что в ней, как правило, не бывает победы и победителей. И в такой войне, даже если выживешь, то погубишь душу. Вот вся цена такой победы. Вся суть её. И потом: такая война не кончается победой, в один день.
– Вас послушать, товарищ подполковник, получается, что и в нашей Гражданской победителей не было? И героев не было? А Чапаев? А Будённый?
Турчин сдержанно засмеялся. И сказал:
– А знаешь, Курсант, я тебе дам вот какой совет: пусть у тебя перед глазами стоят не те подонки, которых прудковские мужики искромсали топорами, а те две девочки, которых, слава богу, удалось отбить живыми. И пусть это видение укрепляет тебя всякий раз, когда твоё сомнение начнёт мешать твоей уверенности нажимать и нажимать на курок. Мы, Курсант, солдаты. Всего лишь солдаты. Солдат, который слишком глубоко начинает размышлять о смысле войны, очень скоро перестаёт быть хорошим солдатом. А ты хороший солдат. Береги в себе пока именно это. Настанет другое время, разбуди в себе другое. Только момент не пропусти. Жизнь меняется. Порой стремительно. И то, что ещё вчера было востребовано, сегодня уже может оказаться не просто ненужным хламом, а опасно ненужным. Сегодня мы – солдаты. И завтра тоже. Но конец наступит и этому.
– Солдаты должны драться на фронте. А мы где? За что мы дерёмся? Приказы каких генералов и каких штабов исполняем мы?
– Если мы спасём хотя бы часть этих людей, которые ушли в лес, то лично я буду вполне удовлетворён. Ты думаешь, Родина – это только территория, земля? А ты не думал о том, что вот эти люди, отход которых мы должны теперь надёжно обеспечить, и есть наша Родина?! Там старики – наши отцы. Там женщины – наши матери, сёстры и дочери. Невесты. Да, и об этом ты должен думать… Война рано или поздно закончится. И тогда наступит мирная жизнь. Люди вернутся на свои родные пепелища. И тогда они начнут не только отстраивать свои жилища, но и рожать детей. Когда на войне гибнут солдаты, вроде нас с тобой, это почти естественно. Конечно, лучше для любой армии и страны, если погибнет меньшее количество солдат. Но и в этом малом количестве жертв могут быть наши с тобой жизни… Плановые потери. Есть такой термин в штабных документах. Судьба солдата на войне – убивать или быть убиту. А вот их, ушедших в лес, мы должны отвести от гибели любой ценой. Потому что для новой жизни они нужны больше, чем мы. Ну что, давай попробуем уснуть? Мне скоро заступать на пост.
И в это время в стороне дороги пронзительно крикнула сова.
– Слыхал? Это Кондратий Герасимович голос подаёт, – обрадовался Воронцов.
Когда в стороне вырубок началась стрельба, обоз только-только скрылся в лесу. Воронцов опасался, что старшина, отходя, приведёт за собой немцев. И теперь, услышав его условный сигнал, он понял, что группа старшины оторвалась от преследования.
Воронцов ответил.
Вскоре за соснами заскрипел снег. Воронцов разглядел в темноте только троих. «А где остальные?» – подумал он с горечью, уже зная наперёд, что скажет сейчас старшина.
Атака началась на рассвете. Ночью разведка несколько раз подходила к завалам. И всякий раз её обнаруживали и отбивали. Утром начался миномётный обстрел. Пятидесятимиллиметровые мины иногда ударялись в стволы деревьев и взрывались вверху, осыпая завалы и оборонявшихся в них партизан осколками. Обстрел длился с полчаса, не причинив северо-западной группе никакого вреда.
– Тихо, ребята, не высовываться, – сказал Турчин, когда впереди появилась нестройная цепь автоматчиков в белых замызганных камуфляжах. – Если мы сейчас ввяжемся в позиционный бой, они нас перестреляют в течение часа. Вон, видите, за цепью, от сосны к сосне, передвигаются два снайпера. Они видят в нас партизан, в лучшем случае вчерашних пехотных бойцов из окопов. А мы дадим им ближний бой. Они его не ждут.
– Приготовить гранаты, – шепнул Воронцов старшине.
Старшина Нелюбин лежал в окопе, выстланном еловыми и сосновыми лапками. Когда Турчин предложил ближний бой, он переложил за пазуху «парабеллум» и расстегнул чехол сапёрной лопатки, откинул клапан чтобы, в случае необходимости, шанцевый инструмент можно было выхватить и пустить в дело одним движением. Оглянулся на Иванка, который ничего из слов начальника штаба отряда не понял и теперь вопросительно смотрел на него.
– На, примкни как следует. – И старшина кинул ему в окоп немецкий штык, который, без чехла, с той жуткой ночи в Прудках, когда отряд вырезал в домах взвод пьяных полицейских, носил в голенище валенка, подтыкая его под портянку, чтобы не мешал и не колол пятку. – Когда начнётся, сиди на месте. Если успеешь, расстреляй обойму. Целься не в передних, а вон в тех двоих. Это – снайпера. Если кто на тебя попрёт, привстань и вперёд выставляй штык. Только не сразу, а когда подбежит вплотную. Чтобы сам наткнулся. Целься штыком в живот. И ничего не бойся.
Цепь приближалась. Уже был слышен хруст снега под лыжами и упругое натренированное дыхание десятка глоток. Старшина почувствовал, как его затрясло. Зачем-то вспомнилось, как отбивались от немцев в овине и что было потом. Дёрнуло душу сомнение: «и зачем мы их так близко подпускаем?» Опять оглянулся на Иванка: тот сидел спокойно, надёжно замаскированный снегом и хвоей, которой их обсыпало во время миномётного обстрела.
Воронцов приготовил обе гранаты, которые взял с собой.
– Бросай! – крикнул Турчин и вскинул руку с пистолетом.
Обе «феньки», одна за другой, полетели под ноги замызганным белым камуфляжам. Взрывы гранат и торопливый треск автоматов слились в один сплошной рёв. Длилось это не больше минуты. Турчин перезарядил магазин своего ТТ и сделал ещё два выстрела.
– Ну, вот и всё, – сказал он. – А теперь отсюда надо уходить. Но не назад, а в глубину и правее. Иначе они нас достанут минами.
Вскочили на лыжи, побежали, выстроившись плотной цепочкой по одному, в затылок. Артиллерист и ещё четверо миномётчиков тащили миномётные трубы и плиты. Стрелять им не пришлось.
– Ты почему не стрелял? – окликнул старшина Иванка, бежавшего впереди.
– Я стрелял, – оскалился бледными бескровными губами Иванок. – Всю обойму выпалил. Другую зарядить не успел.
– Для этого держи под рукой автомат.
Трофейный ППШ подобранный на дороге, болтался у Иванка за спиной.
– Ты не показал мне, как из него стрелять.
– Сейчас добежим до новых позиций и покажу.
Подбежали к очередному завалу. Остановились. Губан начал молча устанавливать пулемёт. Никто из командиров ничего ему уже не говорил. Губан сам определил лучшую позицию для пулемёта.
– Иванок, – позвал пулемётчик, – иди сюда. Ленту будешь держать.
На новой позиции они просидели до самого вечера. Немцы так и не появились.
Со стороны северного завала вскоре после боя на их участке тоже началась стрельба. Стреляли долго, часа полтора. Бахнули две гранаты. Не наши, немецкие. И всё затихло.
В полдень поели. Каждому досталось по куску сала и по одной луковице. Хлеб не трогали. Время хлеба ещё не пришло. Вместо чая пососали снега. Никаких костров.
Вечером возле дороги, которая просматривалась позади шагах в сорока, послышались голоса. Разговаривали двое. Спорили, куда идти. Один торопливо, не оглядываясь, пошёл по дороге в глубь леса. Другой некоторое время стоял и оглядывался в противоположную сторону. Потом закричал:
– Курсант!
Воронцов отозвался.
Это был Кудряшов. Его группа держала северный завал и почти вся погибла.
К вечеру в назначенное время и в назначенное место пришли ещё двое с северо-восточного завала – лейтенант Дорофеев и кузнец дядя Фрол. Дорофеев доложил, что их группа в считанные минуты была выбита снайперами, что открытого боя не было. Соседняя группа вся вырезана ножами. Оттуда приполз раненый связной.