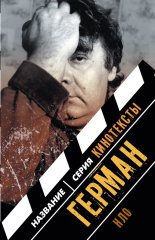Литература. 9 класс. Часть 1 Коллектив авторов
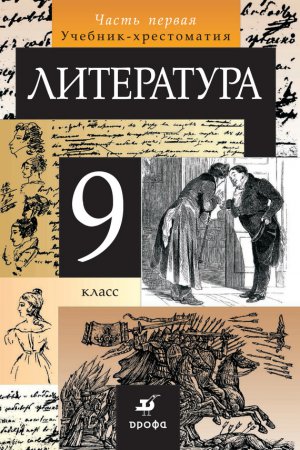
Впоследствии впечатления современников были великолепно обобщены В. Я. Брюсовым в его сонете:
К портрету Лермонтова
- Казался ты и сумрачным и властным,
- Безумной вспышкой непреклонных сил;
- Но ты мечтал об ангельски прекрасном,
- Ты демонски-мятежное любил!
- Ты никогда не мог быть безучастным,
- От гимнов ты к проклятиям спешил,
- И в жизни верил всем мечтам напрасным:
- Ответа ждал от женщин и могил.
- Но не было ответа. И угрюмо
- Ты затаил, о чем томилась дума,
- И вышел к нам с усмешкой на устах.
- И мы тебя, поэт, не разгадали,
- Не поняли младенческой печали
- В твоих как будто кованых стихах!
Светлые и трагические воспоминания оставили детские годы поэта. Родился он в Москве, но вскоре был перевезен к бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой в имение Тарханы Пензенской губернии.
«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал; ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».
Ангел
- По небу полуночи ангел летел
- И тихую песню он пел,
- И месяц, и звезды, и тучи толпой
- Внимали той песне святой.
- Он пел о блаженстве безгрешных духов
- Под кущами райских садов,
- О Боге великом он пел, и хвала
- Его непритворна была.
- Он душу младую в объятиях нес
- Для мира печали и слез;
- И звук его песни в душе молодой
- Остался – без слов, но живой.
- И долго на свете томилась она,
- Желанием чудным полна,
- И звуков небес заменить не могли
- Ей скучные песни земли.
Д. С. Мережковский был уверен, что «вся поэзия Лермонтова – воспоминание об этой песне, услышанной в прошлой вечности», что все написанное позднее это и есть воспоминание о прошлом и вечном.
Детство было омрачено ранней смертью матери, разрывом между отцом и бабушкой, рассказами о самоубийстве деда на новогоднем балу в Тарханах. Все это, несомненно, повлияло на характер Лермонтова, а следовательно, и на его творчество.
После смерти матери Елизавета Алексеевна добилась, чтобы маленький внук Миша остался на ее попечении, и ему пришлось жить в разлуке с отцом, о котором он слышал только дурное. Впоследствии он отмел все недостойные наветы на отца и отдал ему должное в стихотворении, посвященном его смерти.
Ужасная судьба отца и сына…
- Ужасная судьба отца и сына
- Жить разно и в разлуке умереть,
- И жребий чуждого изгнанника иметь
- На родине с названьем гражданина!
- ………………………………
- Дай Бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
- Того, кто был всех мук твоих причиной!
- Но ты простишь мне! я ль виновен в том,
- Что люди угасить в душе моей хотели
- Огонь божественный, от самой колыбели
- Горевший в ней, оправданный творцом?
- Однако ж тщетны были их желанья:
- Мы не нашли вражды один в другом,
- Хоть оба стали жертвою страданья!..
Бабушка заботилась о будущем внука, дала ему хорошее образование, сначала дома под руководством замечательного педагога русского и латинского языков Александра Зиновьевича Зиновьева. Он следил за новыми течениями в искусстве и литературе, питал склонность к романтизму, его воззрения повлияли на формирование поэтических взглядов юного Лермонтова. Еще с ранних юношеских лет Лермонтов тянется к поэзии и задумывается над сущностью поэтического творчества.
Поэт
- Отделкой золотой блистает мой кинжал;
- Клинок надежный, без порока;
- Булат его хранит таинственный закал —
- Наследье бранного[30] востока.
- Наезднику в горах служил он много лет,
- Не зная платы за услугу;
- Не по одной, груди провел он, страшный след
- И не одну прорвал кольчугу.
- Забавы он делил послушнее раба,
- Звенел в ответ речам обидным.
- В те дни была б ему богатая резьба
- Нарядом чуждым и постыдным.
- Он взят за Тереком отважным казаком
- На хладном трупе господина,
- И долго он лежал заброшенный потом
- В походной лавке армянина.
- Теперь родных ножон, избитых на войне,
- Лишен героя спутник бедный;
- Игрушкой золотой он блещет на стене —
- Увы, бесславный и безвредный!
- Никто привычною, заботливой рукой
- Его не чистит, не ласкает,
- И надписи его, молясь перед зарей
- Никто с усердьем не читает…
- В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
- Свое утратил назначенье,
- На злато променяв ту власть, которой свет
- Внимал в немом благоговенье?
- Бывало, мерный звук твоих могучих слов
- Воспламенял бойца для битвы;
- Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
- Как фимиам[31] в часы молитвы.
- Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
- И, отзыв мыслей благородных,
- Звучал, как колокол на башне вечевой[32],
- Во дни торжеств и бед народных.
- Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
- Нас тешат блестки и обманы;
- Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
- Морщины прятать под румяны…
- Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
- Иль никогда на голос мщенья
- Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
- Покрытый ржавчиной презренья?
1. Объясните, почему автор выбрал такое название для стихотворения.
2. Охарактеризуйте особенности композиции стихотворения.
3. Какую роль играют первая и вторая части стиха в композиции этого произведения?
1. Какой художественный прием наиболее активно используется в этом стихотворении?
2. Найдите в стихотворении наиболее яркое определение роли поэта.
1. В каких известных вам стихотворениях Лермонтов размышляет о роли поэта в обществе?
С сентября 1828 по август 1832 года Лермонтов учится в Московском благородном пансионе, а затем и в университете. Н. Ф. Вистенгоф воссоздает в своих воспоминаниях образ Лермонтова-студента. «Выделялись между нами и люди, горячо принявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Лермонтов, Ефремов…
Перед рождественскими праздниками профессора… проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие…
Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос. Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Победоносцев сначала слушал его, а потом остановил и сказал:
– Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
– Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным…
Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами…»
При этом продолжаются раздумья молодого поэта над сущностью творчества, идут напряженные поиски своего места в поэзии.
Нет, я не Байрон, я другой…
- Нет, я не Байрон, я другой,
- Еще неведомый избранник,
- Как он, гонимый миром странник,
- Но только с русскою душой.
- Я раньше начал, кончу ране,
- Мой ум не много совершит;
- В душе моей, как в океане,
- Надежд разбитых груз лежит.
- Кто может, океан угрюмый,
- Твои изведать тайны? Кто
- Толпе мои расскажет думы?
- Я – или Бог – или никто!
1. В чем вы видите основную мысль этого стихотворения?
2. Чего больше в нем – ощущения трагизма личной судьбы или уверенности в своем избранничестве?
1. Что, по-вашему, символизирует образ океана?
Уже в студенческие годы в стихах Лермонтова отчетливо звучит недовольство собственным поколением.
Монолог
- Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
- К чему глубокие познанья, жажда славы,
- Талант и пылкая любовь свободы,
- Когда мы их употребить не можем?
- Мы, дети севера, как здешние растенья,
- Цветем недолго, быстро увядаем…
- Как солнце зимнее на сером небосклоне,
- Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
- Ее однообразное теченье…
- И душно кажется на родине,
- И сердцу тяжко, и душа тоскует…
- Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
- Средь бурь пустых томится юность наша,
- И быстро злобы яд ее мрачит,
- И нам горька остылой жизни чаша;
- И уж ничто души не веселит.
В Москве юный Лермонтов испытал глубокие сердечные чувства к Варваре Александровне Лопухиной, которая была потом выдана замуж и всю жизнь прожила с нелюбимым человеком. Наталья Федоровна Иванова, к которой Лермонтова тоже влекло сильное чувство, не ответила взаимностью. Этим женщинам поэт посвятил много прекрасных стихотворений.
Исследователи отмечают особенности любовной лирики Лермонтова. В его стихах изображается не столько образ любимой женщины, не столько выражается признание в любви, сколько рассказывается о своем отношении к миру.
Нет, не тебя так пылко я люблю…
- Нет, не тебя так пылко я люблю,
- Не для меня красы твоей блистанье:
- Люблю в тебе лишь прошлое страданье
- И молодость погибшую мою.
- Когда порой я на тебя смотрю,
- В твои глаза вникая долгим взором,
- Таинственным я занят разговором,
- Но не с тобой я сердцем говорю.
- Я говорю с подругой юных дней,
- В твоих чертах ищу черты другие,
- В устах живых уста давно немые,
- В глазах – огонь угаснувших очей.
1. Подберите самостоятельно для анализа несколько стихотворений из любовной лирики Лермонтова («Я не унижусь пред тобой…», «Но я вас помню – да и точно…», «Оставь напрасные заботы…», «Прости! – мы не встретимся боле…» и т. д.).
2. Что объединяет и различает их в передаче любовного чувства, образов любящего и любимого?
В 1832 году Лермонтов переезжает в Петербург и собирается поступать в Петербургский университет. Однако случилось так, что он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Хотелось самостоятельности. Офицерская служба, казалось, давала больше возможности быть в действии, в движении. Но… поэт очутился в среде людей, которые мечтали лишь о блестящей служебной карьере и развлечениях.
В конце 1834 года Лермонтов был произведен в корнеты гусарского полка, который размещался в Царском Селе. Служба занимала немного времени. Лермонтов посещает балы, маскарады. Но больше отдается литературным занятиям. Наблюдения за нравами офицерства и светского общества отразились в незавершенном романе «Княгиня Лиговская» и драме «Маскарад».
Наступил январь 1837 года. Гибель Пушкина всколыхнула всю Россию. Лермонтов выступил с полным скорби и негодования стихотворением «Смерть поэта», был арестован и выслан на Кавказ. Имя поэта сразу стало известным в русском обществе. Его стихотворное обличение было справедливо воспринято современниками как смелое политическое выступление.
Весной 1837 года Лермонтов прибыл на Кавказ. Здесь он беспрерывно странствовал: изъездил всю линию от Кизляра до Тамани, ночевал в чистом поле, засыпал под вой шакалов. Полученные впечатления нашли отражение в поэмах «Мцыри», «Демон», романе «Герой нашего времени».
Осенью ссылка закончилась. Е. А. Арсеньевой удалось, заручившись поддержкой В. А. Жуковского, добиться возвращения внука в столицу.
Петербург встретил Лермонтова как признанного поэта. По словам писателя Муравьева, «песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду». Прочитав «Три пальмы», Белинский воскликнул: «На Руси появилось новое могучее дарование – Лермонтов».
Три пальмы. Восточное сказание
- В песчаных степях аравийской земли
- Три гордые пальмы высоко росли.
- Родник между ними из почвы бесплодной,
- Журча, пробивался водою холодной,
- Хранимый, под сенью зеленых листов,
- От знойных лучей и летучих песков.
- И многие годы неслышно прошли,
- Но странник усталый из чуждой земли
- Пылающей грудью ко влаге студеной
- Еще не склонялся под кущей зеленой,
- И стали уж сохнуть от знойных лучей
- Роскошные листья и звучный ручей.
- И стали три пальмы на Бога роптать:
- «На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
- Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
- Колеблемы вихрем и зноем палимы,
- Ничей благосклонный не радуя взор?..
- Не прав твой, о небо, святой приговор!»
- И только замолкли – в дали голубой
- Столбом уж крутился песок золотой,
- Звонков раздавались нестройные звуки,
- Пестрели коврами покрытые вьюки,
- И шел, колыхаясь, как в море челнок,
- Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
- Мотаясь, висели меж твердых горбов
- Узорные полы походных шатров;
- Их смуглые ручки порой подымали,
- И черные очи оттуда сверкали…
- И, стан худощавый к луке наклоня,
- Арап горячил вороного коня.
- И конь на дыбы подымался порой,
- И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
- И белой одежды красивые складки
- По плечам фариса вились в беспорядке;
- И, с криком и свистом несясь по песку,
- Бросал и ловил он копье на скаку.
- Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
- В тени их веселый раскинулся стан.
- Кувшины звуча налилися водою,
- И, гордо кивая махровой главою,
- Приветствуют пальмы нежданных гостей,
- И щедро поит их студеный ручей.
- Но только что сумрак на землю упал,
- По корням упругим топор застучал,
- И пали без жизни питомцы столетий!
- Одежду их сорвали малые дети,
- Изрублены были тела их потом,
- И медленно жгли их до утра огнем.
- Когда же на запад умчался туман,
- Урочный свой путь совершал караван,
- И следом печальным на почве бесплодной
- Виднелся лишь пепел седой и холодный,
- И солнце остатки сухие дожгло,
- А ветром их в степи потом разнесло.
- И ныне все дико и пусто кругом —
- Не шепчутся листья с гремучим ключом:
- Напрасно пророка о тени он просит —
- Его лишь песок раскаленный заносит,
- Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
- Добычу терзает и щиплет над ним.
1. Исследователи определяют жанр стихотворения «Три пальмы» как балладу. Согласны ли вы с таким определением жанра? Какие признаки баллады вы в нем обнаруживаете?
2. Какова основная мысль этого произведения? В каких еще поэтических текстах Лермонтова она звучит?
1. Обратите внимание на композицию стихотворения. Какова ее роль в раскрытии философского смысла баллады?
Вторая ссылка на Кавказ последовала в 1840 году после дуэли с сыном французского посла де Барантом. Направляясь к месту ссылки, поэт на несколько дней остановился в Москве и на одном литературном обеде читал отрывки из «Мцыри» в присутствии Гоголя.
Служба на Кавказе носила боевой характер. Он участвовал в кровопролитных боях, проявляя чудеса храбрости. Командование ходатайствовало о награждении поручика Лермонтова орденами и золотой саблей, но царь «не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду».
Пленный рыцарь
- Молча сижу под окошком темницы;
- Синее небо отсюда мне видно:
- В небе играют все вольные птицы;
- Глядя на них, мне и больно и стыдно.
- Нет на устах моих грешной молитвы,
- Нету ни песни во славу любезной:
- Помню я только старинные битвы,
- Меч мой тяжелый да панцирь железный.
- В каменный панцирь я ныне закован,
- Каменный шлем мою голову давит,
- Щит мой от стрел и меча заколдован,
- Конь мой бежит, и никто им не правит.
- Быстрое время – мой конь неизменный,
- Шлема забрало – решетка бойницы,
- Каменный панцирь – высокие стены,
- Щит мой – чугунные двери темницы.
- Мчись же быстрее, летучее время!
- Душно под новой бронею мне стало!
- Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
- Слезу и сдерну с лица я забрало.
1. Какие мысли и настроения владеют лирическим героем?
2. Почему Пленному рыцарю и больно, и стыдно? Испытывает ли герой чувство вины?
3. В чем смысл заглавия стихотворения? Ю. М. Лотман считает, что в нем заложено определенное противоречие: «само понятие „рыцарь“ включает в себя в нашем сознании представление о смелости, воинственности, боевых подвигах, но отнюдь не понятий плена, заключения и тюрьмы». Согласны ли вы с таким толкованием заглавия? Мотивируйте свое мнение.
4. Какие реалии жизни Лермонтова и окружающей его действительности отражены в этом стихотворении?
1. С помощью каких приемов они передаются (эпитеты, метафора, антитеза и т. д.)? Приведите конкретные примеры из текста.
2. Какие темы развиваются во второй строфе? Что подчеркивают слова «старинный», «помнить»? Какую окраску чувствам героя они придают?
3. Третья и четвертая строфы, по утверждению Ю. М. Лотмана, представляют собой развернутую метафору. Проанализируйте ее и раскройте смысл.
1. Во многих стихотворениях Пушкина и Лермонтова узник мечтает об освобождении из неволи. Здесь же герой видит свое освобождение в смерти. Почему, по-вашему, он с нетерпением ждет ее?
На севере диком стоит одиноко…
- На севере диком стоит одиноко
- На голой вершине сосна
- И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
- Одета, как ризой, она.
- И снится ей все, что в пустыне далекой,
- В том крае, где солнца восход,
- Одна и грустна на утесе горючем
- Прекрасная пальма растет.
1. К какому виду лирики вы отнесете это стихотворение – пейзажной или философской? Обоснуйте свои выводы.
2. Какую роль выполняет в этом стихотворении пейзаж? Вспомните, что мы говорили о метафорах, анализируя стихотворение «Пленный рыцарь», и попытайтесь найти метафоры в этом стихотворении и объяснить их смысл.
3. Ю. М. Лотман выделяет в стихотворении темы мечты и реальности. Как они раскрываются? Как связаны между собой?
1. Проанализируйте особенности звукописи в этом стихотворении.
1. Сопоставьте судьбы пальмы и сосны. В чем их общность и различие?
В начале 1841 года Лермонтов в столице хлопотал о своей отставке. Ему хотелось заниматься только литературной деятельностью, мечтал издавать журнал. Но выйти в отставку ему не разрешили. После кратковременного отпуска он был вынужден покинуть Петербург. Перед отъездом Лермонтов говорил об ожидавшей его скорой смерти, так как знал, что его полк назначен в самую тяжелую экспедицию. Прощаясь с Петербургом, поэт написал гневное стихотворение «Прощай, немытая Россия…».
Мрачное предчувствие, и не просто предчувствие, а видение своего будущего отразилось в стихотворении, написанном в год смерти.
Сон
- В полдневный жар в долине Дагестана
- С свинцом в груди лежал недвижим я;
- Глубокая еще дымилась рана;
- По капле кровь точилас моя.
- Лежал один я на песке долины;
- Уступы скал теснилися кругом,
- И солнце жгло их желтые вершины
- И жгло меня – но спал я мертвым сном.
- И снился мне сияющий огнями
- Вечерний пир в родимой стороне.
- Меж юных жен, увенчанных цветами,
- Шел разговор веселый обо мне.
- Но в разговор веселый не вступая,
- Сидела там задумчиво одна,
- И в грустный сон душа ее младая
- Бог знает чем была погружена;
- И снилась ей долина Дагестана:
- Знакомый труп лежал в долине той;
- В его груди, дымясь, чернела рана,
- И кровь лилась хладеющей струей.
15 июля, между 6 и 7 часами вечера, Лермонтов был убит на дуэли Мартыновым.
Роман «Герой нашего времени» состоит из повестей, имеющих собственные законченные сюжеты, объединенных образом главного героя – Григория Александровича Печорина. Это «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист». Есть в произведении два предисловия: первое – ко всему роману, второе – к дневнику Печорина.
Герой нашего времени. Фрагменты
Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.
Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых… Старая и жалкая шутка! Но видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!
Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..
Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж Бог знает!
Журнал Печорина. Предисловие
Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!
Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.
Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.
Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.
Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.
Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги. – «Да это злая ирония!» – скажут они. – Не знаю.
I. Тамань
Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем – занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок, – только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.
Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, на покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, – подумал я, – завтра отправлюсь в Геленджик».
При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина – молчат; стучу – молчат… что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.
«Где хозяин?» – «Нема». – «Как? совсем нету?» – «Совсим». – «А хозяйка?» – «Побигла в слободку». – «Кто ж мне отопрет дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.
Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто, с потерею члена, душа теряет какое-нибудь чувство.
Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?.. Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям…
«Ты хозяйский сын?» – спросил я его наконец. – «Ни». – «Кто же ты?» – «Сирота, убогий». – «А у хозяйки есть дети?» – «Ни; была дочь, да утикла за море с татарином». – «С каким татарином?» – «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».
Я вошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мною во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.
Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся Бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», – подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.
Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет; но видно это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.
– Что, слепой? – сказал женский голос, – буря сильна; Янко не будет.
– Янко не боится бури, – отвечал тот.
– Туман густеет, – возразил опять женский голос, с выражением печали.
– В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, – был ответ.
– А если он утонет?
– Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.
Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.
– Видишь, я прав, – сказал опять слепой, ударив в ладоши. – Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, – это его длинные весла.
Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.
– Ты бредишь, слепой, – сказала она, – я ничего не вижу.
Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние 20 верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла, и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги, но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.
Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого; я ему однако ж не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.
Но, увы! комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все – или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре, придет почтовое судно, – сказал комендант, – и тогда – мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.
– Плохо, ваше благородие! – сказал он мне.
– Да, брат, Бог знает, когда мы отсюда уедем! – Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:
– Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком, – был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой… уж видно здесь к этому привыкли.
– Да что ж? по крайней мере, показалась ли хозяйка?
– Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.
– Какая дочь? у нее нет дочери.
– А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.
Я вошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, – сказал я, взяв его за ухо, – говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепец заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив… с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.
Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; предо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся… Так прошло около часа, может быть, и более… Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, – но откуда?.. Прислушиваюсь – напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь – никого кругом; прислушиваюсь снова – звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.
Я запомнил эту песню от слова до слова:
- Как по вольной волюшке —
- По зелену морю
- Ходят все кораблики
- Белопарусники.
- Промеж тех корабликов
- Моя лодочка,
- Лодка неснащеная,
- Двухвесельная.
- Буря ль разыграется —
- Старые кораблики
- Приподымут крылышки,
- По морю размечутся.
- Стану морю кланяться
- Я низехонько:
- «Уж не тронь ты, злое море,
- Мою лодочку:
- Везет моя лодочка
- Вещи драгоценные,
- Правит ею в темну ночь
- Буйная головушка».
Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.
Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы… порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более 18 лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос – все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения, – и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни…
Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:
«Скажи-ка мне, красавица, – спросил я, – что ты делала сегодня на кровле?» – «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда ветер, оттуда счастье». – «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» – «Где поется, там и счастливится». – «А как неравно напоешь себе горе?» – «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». – «Кто ж тебя выучил эту песню?» – «Никто не выучил; вздумается – запою; кому услыхать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». – «А как тебя зовут, моя певунья?» – «Кто крестил, тот знает». – «А кто крестил?» – «Почему я знаю». – «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело.) «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее – нимало! Она захохотала во все горло. «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» – и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.
Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, – то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она как змея скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», – и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экий бес-девка!» – закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.
Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, – сказал я ему, – то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.
«Идите за мной!» – сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», – сказала моя спутница. Я колебался – я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» – сказал я сердито. «Это значит, – отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, – это значит, что я тебя люблю…» И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс – пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь – мы от берега около пятидесяти сажень, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя – она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости… «Чего ты хочешь?» – закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.
«Ты видел, – отвечала она, – ты донесешь!» – и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.
Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал…
На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долги усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, – сказала она, – все пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. «А где же слепой?» – сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», – был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.
– Послушай, слепой! – сказал Янко, – ты береги то место… знаешь? там богатые товары… скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! – После некоторого молчания Янко продолжал: – Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.
– А я? – сказал слепой жалобным голосом.
– На что мне тебя? – был ответ.
Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». – «Только?» – сказал слепой. «Ну, вот тебе еще», – и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку; ветер дул от берега: они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго… Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и, как камень, едва сам не пошел ко дну!
Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, Дагестанский кинжал, – подарок приятеля, – все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..
Конец первой части.
1. Исследователи определяют жанр «Тамани» как новеллу или очерк-новеллу. Вспомните жанровые признаки новеллы, отличающие ее от рассказа или повести. Можно ли считать «Тамань» новеллой? Дайте развернутый ответ.
2. Как вы оцениваете поведение и личностные качества героя?
1. Охарактеризуйте особенности языка, которым написана новелла.
1. Можно ли обвинить Печорина в том, что он разрушил жизнь «честных контрабандистов»?
2. Произведение «Герой нашего времени» в литературоведении считают реалистическим социально-психологическим романом. Можно ли это утверждение целиком отнести к новелле «Тамань»? Какие социально-психологические проблемы в ней поставлены?
3. Найдите в тексте картины и сцены романтического и реалистического планов. Как они между собой связаны?
4. Проследите, как сочетается реальное и романтическое в изображении девушки-контрабандистки («ундины»).
5. В предисловии к роману заявлено, что герой – это «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Какие же типические для всего поколения черты показаны в поведении и личности Печорина в новелле «Тамань»?
Николай Васильевич Гоголь
(1809–1852)
Гоголю трудно дались годы детства: плохое здоровье, частые болезни, сложности быта в Нежинской гимназии высших наук, где он учился с 1821 по 1828 годы… По воспоминаниям соучеников, он представляется то «красивым белокурым мальчиком, в густой зелени сада Нежинской гимназии, – любимцем своих товарищей, которых привлекала к нему его неистощимая шутливость», то подростком, который «постоянно косился… держался в стороне, смотрел всегда букою… редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каждого дня…». Много лет спустя Гоголь писал Жуковскому: «Чувствовал я временами расположение к шутливости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки; вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению».
Гимназисты увлекались театром. Как вспоминает школьный товарищ Гоголя, они сами рисовали декорации и вели подготовку к спектаклям. Зрителями, кроме учеников и наставников, были соседние помещики и офицеры расположенной в Нежине дивизии. Участник этих спектаклей вспоминает, что «…удачнее всего давалась у нас комедия фон-Визина „Недоросль“. Видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но сохранил навсегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь».
«Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, – пишет Гоголь в „Авторской исповеди“, – были почти все в лирическом и серьезном роде». Первые пробы пера не принесли гимназисту удачи.
Но вот годы учебы позади. Нужно было думать о том, как заработать на жизнь: крепостных, которые достались ему по наследству, Николай Васильевич отдал матери и сестрам.
Гоголь едет в столицу. Как пишет Андрей Белый, «не владея образованием, языками, средствами, манерами, уменьем танцевать и свободно болтать с золотой молодежью, надо было скромно усесться в угол». Но Гоголь так не поступил, он был полон жизненной энергии: служил в Департаменте уделов, занимался частным репетиторством, преподавал историю в Патриотическом институте и при этом постоянно и много читал. Маменька пишет о нем своему родственнику: «Я вижу, что Никоша не выучился еще расчетливо жить. Главный его расход – на книги, для которых он в состоянии лишиться и пищи».
Только после того, как Гоголь прожил два года в столице, стало определяться его будущее. К маю 1831 года было готово несколько повестей, составивших первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
«Сейчас прочел „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Они изумили меня, – писал А. С. Пушкин. – Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность!.. Поздравляю публику с истинно веселою книгою».
После создания этого замечательного сборника Гоголь вошел в литературу, приобрел друзей и знакомых в писательской среде, нашел помощь и поддержку Пушкина и Жуковского. Гоголь заявил о себе как писатель чрезвычайно яркого дарования, но впечатления от его личности и поведения были очень часто самые противоречивые.
Вот как описывает его Тургенев: «Был одет в темное пальто, в зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. Казался худым и испитым… Заостренный нос придавал… нечто… лисье; невыгодное впечатление производили… одутловатые, мягкие губы… когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий, бархатный, черный галстук».
Но что значило это впечатление по сравнению с тем, как ярко выявлялся его талант, его художественное чутье и умение увидеть и передать окружающий мир с необыкновенным блеском и в слове написанном, и в слове произнесенном? По воспоминаниям современника, «читал Гоголь так превосходно, с такой неподражаемой интонацией… что слушатели приходили в восторг…». Великий комик Щепкин сказал так: «Подобного комика не видел и не увижу!» Жуковский утверждал, что его собственные стихи нравились ему более всего тогда, когда их брался читать Гоголь.
Писатель безукоризненно ощущал комические ситуации, подмечал все смешное и при этом, что бывает очень редко, был способен видеть забавное и в своем собственном облике. Оцените, например, фрагмент письма, адресованного девушке, которую он мечтал видеть собственной невестой: «…можно сказать, что до Франкфурта добрался один только нос мой да несколько костей, связанных на живую нитку жиденькими мускулами, но дух бодр».
После выхода «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Миргорода», а затем «Арабесок» В. Г. Белинский провозгласил Гоголя «главою литературы».
В 1835 году писатель приступает к главному делу своей жизни – созданию поэмы, в которой покажет всю Россию. В октябре он пишет Пушкину: «Начал писать „Мертвых душ“. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе…
Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но чисто русский анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию». Пушкин исполняет его просьбу.
Создание комедии отвлекло Гоголя от работы над поэмой «Мертвые души». Только после триумфа «Ревизора» Гоголь едет за границу и там завершает работу над первым томом своего главного произведения. О создании «Мертвых душ» рассказывает друг Гоголя, который записывал под его диктовку рукопись поэмы. Писатель очень эмоционально переживал все этапы своей работы. Когда ему показалось, что очередная глава удалась, то, прогуливаясь по улицам Рима, «…он пустился в пляс и стал вывертывать зонтиком… такие штуки, что ручка осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону».
Но вот первая часть задуманного труда завершена. Хлопоты по его изданию окончены. В мае 1842 года выходит из печати первый том «Мертвых душ». Белинский писал, что это «…творение чисто русское, национальное… необъятно художественное по концепции и выполнению… и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое…».
Успех был необычайный, но радость и заботы не проходят даром: Гоголь вновь болен. За рубежом проходит шесть кочевых лет. Все трудней даются новые страницы, все сложней он справляется со своими болезнями и неудачами.
В 1845 году Гоголь сжигает написанные главы второго тома «Мертвых душ». В эти же годы он работает над книгой «Выбранные места из переписки с друзьями». Книга вызвала шквал самой ожесточенной критики. «Здоровье мое потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги», – пишет он П. В. Анненкову.
Работа над вторым томом «Мертвых душ» продолжалась, но шла медленно. Гоголь смотрел на поэму, как на что-то, что лежало вне его, ему казалось, что он должен раскрыть какие-то заповедные тайны. «Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественной ясностью. А если я прочитаю написанное еще не оконченным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это испытал много раз. Уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет не созревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет».
В ночь на 12 февраля 1852 года Гоголь вновь сжег написанные главы своей последней поэмы. Физически он слабел все более и более: не выходил из своей комнаты, перестал есть, не принимал лекарства. При этом на все уговоры у него был один ответ: «Ежели будет угодно Богу, чтобы я жил еще, буду жив!»
21 февраля 1852 года Гоголя не стало.
Мертвые души. Том первый. Фрагменты
В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, – словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным: только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет!» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.
Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода; ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.
Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик, красного дерева, с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и может быть так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.
Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы – всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю, тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висячих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу, те же картины во всю стену, писанные масляными красками, – словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель верно никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно, в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии, по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым – наверное не могу сказать, кто делает, Бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой по обыкновению отвечал: о, большой, сударь, мошенник. Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, – словом, не пропустил ни одного значительного чиновника, но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках, сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии, повальных горячек, убийственных каких-нибудь лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело однако ж ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой нумер, где прилегши заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям. Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Домы были в один, два и полтора этажа с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику. Расспросивши подробно буточника, куда можно пройти ближе, если понадобится к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее с узелком в руке, и еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма Г. Коцебу, в которой Ролла играл Г. Поплёвин, Кору – девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны, однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом переворотил на другую сторону, узнать, нет ли и там чего-нибудь, но не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.
Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. <…>
<…> С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротиньке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлахбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок, или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные, проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:
– Маниловка, может быть, а не Заманиловка?
– Ну да, Маниловка.
– Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так прямо направо.
– Направо? – отозвался кучер.
– Направо, – сказал мужик. – Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный в два этажа, господский дом, в котором то есть живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь, и не было.
Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления», пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в англицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.
– Павел Иванович! – вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. – Насилу вы таки нас вспомнили!
Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ, и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей – эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.
Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает, что такое!» и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков – словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало, и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать»; – «Да, недурно», – отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да именно недурно», – повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать», – «Ступай», – говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход, или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14-й странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольскою шелковою материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: не садитесь на эти кресла, они еще не готовы. В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его… впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек, и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно было легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни; фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, т. е. вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова… но признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.
– Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пойду после, – говорил Чичиков.
– Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, – говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.
– Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, – говорил Чичиков.
– Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.
– Почему уж образованному?.. пожалуйста, проходите.
– Ну, да уж извольте проходить вы.
– Да отчего ж?
– Ну, да уж оттого! – сказал с приятною улыбкою Манилов.
Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.
– Позвольте мне вам представить жену мою, – сказал Манилов, – душенька, Павел Иванович!
Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна; одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее, не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем.
– Да, – примолвил Манилов, – уж она бывало все спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» – «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение, майский день, именины сердца…
Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.
– Вы все имеете, – прервал Манилов с тою же приятною улыбкою, – все имеете, даже еще более.
– Как вам показался наш город? – примолвила Манилова. – Приятно ли провели там время?
– Очень хороший город, прекрасный город, – отвечал Чичиков, – и время провел очень приятно: общество самое обходительное.
– А как вы нашли нашего губернатора? – сказала Манилова.
– Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек? – прибавил Манилов.
– Совершенная правда, – сказал Чичиков, – препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.
– Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатес в своих поступках, – присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.
– Очень обходительный и приятный человек, – продолжал Чичиков, – и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.
– А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? – сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза.
– Очень, очень достойный человек, – отвечал Чичиков.
– Ну позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?