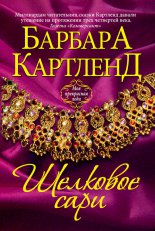Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы Щеглов Юрий

На следующей ступени редукции прямая речь превращается в косвенную с союзом что. Союз что или как (особенно повторенный несколько раз, как, например, в классическом пушкинском: «Он верил, что душа родная…») способен обессмысливать высказывание или, во всяком случае, подчеркивать отмежевание говорящего от его содержания. Это тоже очень частый способ передачи разговоров у Добычина:
«Они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово и что вообще хорошо бы распродать все и выехать» (58); «Маман разъясняла мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди» (55); «Дамы поговорили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия и именитые женщины не собираются вместе и не щиплют ее» (54); «Седобородые, они <гости> беседовали про изобретенную в Соединенных Штатах говорящую машину и про то, что электрическое освещение должно вредить глазам» (38).
Слыша вокруг себя лишь затертые и плоские слова, герой-рассказчик Добычина и сам не отличается яркостью фантазии в передаче окружающей реальности. Надо, впрочем, отдать должное добычинскому подростку: он не слеп и не глух, многое замечает вокруг себя и охотно пускается в описания, где представлены и природа, и город, и люди, и вещи. Нельзя отрицать, чт в повести присутствует и детская пристальность зрения, и любопытство, и даже удивление при виде мира – иначе зачем было бы ему фиксировать всю эту маловыразительную жизнь с такой подробностью? Чего совершенно нет у юного рассказчика Добычина, это той праздничной и артистической оригинальности увиденного, которая часто и без достаточных оснований считается непременным свойством детского восприятия, впоследствии утрачиваемым. Стоит сравнить непритязательные картинки из жизни города Эн хотя бы с полным чудес миром Пети в повести Катаева «Белеет парус одинокий», которая совпадает с книжкой Добычина по времени выхода в свет и по изображаемой эпохе и представляет собой полный ее антипод в целом ряде других отношений. (Сопоставление этой пары советских повестей о детстве было бы интересной темой для отдельной статьи.)
Мир, увиденный добычинским подростком, состоит из элементарных, всем известных предметов; ведут они себя вполне обычным и очевидным образом и описываются сухо, «как-то голо» (как выразился Л. Н. Толстой о пушкинской прозе), простым называнием, без метафор или каких-либо иных живописных аксессуаров. Крайняя, почти базовая (basic) простота языка и образности делает прозу Добычина легко переводимой – качество, которое, скажем мимоходом, должно благоприятствовать его будущей известности на Западе. Типичный пример: «Пахло снегом. Вороны кричали. Лошаденки извозчиков бежали не торопясь. С крыш покапывало…» (24) и т. д. Неустанное фиксирование подобных очевидностей на протяжении всей книги наводит на мысль, что именно эта абсолютная, не боящаяся бедности и тусклости, фотографичная неприкрашенность и выступает у Добычина в роли того свежего, первозданного взгляда на мир, каковой, по общепринятому мнению, отличает ребенка от взрослого. Предметы как таковые, в своих наиболее будничных, сто раз отмеченных проявлениях, настолько приковывают внимание юного героя, что для занимательных подробностей и остраняющих ракурсов в манере Олеши просто не остается места. Именно способность видеть эти серенькие, какие-то безрадостные и начерно набросанные вещи как новые, слышать в них тайную «музыку» спасает добычинского ребенка от скуки и банальности взрослого мира, вносит поэтическую струю в его полуподпольное существование. Как небо от земли, далека от Добычина метафорическая стихия писателей «одесской школы», у которых те же повседневные вещи, рассматриваемые с помощью особых оптических ухищрений, пленяют красотой и экзотичностью (известно, что автор «Города Эн» не любил орнаментализма и прозу Бабеля находил «парфюмерной» – см. Ерофеев 1989: 5). Нарочитая прозаичность и неяркость добычинского письма близко родственна, на наш взгляд, живописи таких его современников, как Д. Даран, С. Расторгуев, Т. Маврина и другие художники «группы 13», запечатлевавших заведомо заштатные и «неинтересные» углы действительности в небрежных, как бы неотделанных и полудетских, но поэтичных и многозначительных этюдах.
Этой эмоциональной нагруженности будничного и очевидного способствует у Добычина своеобразный синтаксический прием, наблюдаемый в типичных для него фразах:
«<Отец Федор> отслужил молебен. Александра Львовна Лей и инженерша с Сержем присутствовали» (29); «Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл» (56); «Плот, скрипя веслом, плыл. За рекой распаханные невысокие холмы тянулись» (35–36); или: «На щите над входом всадник мчался» (47).
Конструкция эта примечательна тем, что глагол оголен от постпозитивных обстоятельств и уточнений и в таком нарочито тривиализованном виде вынесен в конец предложения, в позицию логического сказуемого, обычно занимаемую наиболее новыми и содержательными элементами высказывания. Нормальным порядком слов в русском языке было бы: «Плот плыл, скрипя веслом», «За рекой тянулись невысокие холмы»; «Играл погрузившийся вместе с нами оркестр»; «На щите над входом мчался всадник» и т. п. Добычинская фраза с инверсией странновата и выглядит бедно, причем бедность эта не столько настоящая, сколько демонстративная, искусственно созданная и разыгранная. В самом деле, во всех процитированных предложениях необходимые для их смысловой полноты слова, как правило, налицо, хотя и задвинуты в малозаметную позицию и приглушены по сравнению с семантически полупустым глаголом, выдвинутым на роль главного компонента сообщения. В подобных случаях – а они весьма многочисленны – добычинский принцип приоритета элементарного и очевидного предстает в наглядном виде.
Собственная эмоциональная жизнь юного рассказчика в начальной стадии повествования еще очень примитивна, но, как уже говорилось, в ней имеется некий внутренний тайник, почти герметически изолированный от вмешательства взрослых. В этом укрытии формируется индивидуальное душевное и интеллектуальное хозяйство подростка; процесс этот протекает кропотливо, на ощупь, со всеми странностями, порождаемыми темнотой, изоляцией, скудостью и случайностью подручных «стройматериалов». Обходя готовые приспособления мира взрослых, герой опирается на данные своего личного опыта, а они еще весьма мизерны и накапливаются медленно. Неудивительно, что во внешних отношениях с окружающими он соблюдает безупречный конформизм, да и внутренне ощущает себя частью коллектива («мы посмеялись», «мы поболтали» и т. п.).
В эмоциональном плане для юного героя характерны безотчетные переживания простейшего, нерасчлененного типа:
«Приятно стало» (34), «Я рад был» (25), «Приятно и печально было» (38), «Я был тронут» (26), «Я был польщен» (18), «Я негодовал на них» (18), «Мне завидовали» (33), «Я, радостный, слушал его» (91).
Наплывы непонятных чувств находят выражение в кратких однообразных вскрикиваниях, как если бы герой впервые учился говорить (а в плане его эмоционального развития именно это и имеет место).
« – Миленький, – с любовью думал я» (19; о наклеенном на стену ангеле); «С извозчика я увидел Большую Медведицу. – Миленькая, – прошептал я ей» (97–98); «Кто-то щелкнул меня по затылку <…> – Голубчик, – подумал я» (24).
Типичны места, где герой мысленно взывает к имени предмета чувства, гипнотизирует себя этим именем, как бы высекает эмоцию из его повторения: «Серж, Серж, ах Серж, – повторял я» (26); «Натали, Натали, – думал я» (58); «Карл, – хотел я сказать» (82).
Характера своего отношения к Сержу, Натали или Васе (гимназисту, щелкнувшему мальчика по затылку и надолго ставшему героем его фантазий) рассказчик нигде не поясняет, и мы об этом ничего определенного сказать не можем; причиной этому на сей раз не его обычная скрытность, или умолчание «с подтекстом», или что-либо в этом роде, а зачаточный, эфемерный и неяркий характер самих этих переживаний. Конечно, они дороги герою, от них, выражаясь его словами, «приятно становится». Но они остаются невысказанными, да и в интимных мыслях героя не идут дальше соображений о том, какое имя больше подходит знакомой девочке: Туся? Натуся? Натали? (71) – или праздных игр фантазии, подставляющей ту же героиню в разного рода житейские ситуации: «Я представил себе <при виде похорон на улице>, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали» (90) и т. п.
Мышление добычинского рассказчика развивается ассоциативно, связывая вновь встречаемые факты с немногочисленными, ранее полученными впечатлениями. Следует отдать должное цепкости, с какой юный герой удерживает подмеченные моменты жизни и применяет их к новым фактам ради ориентации в хаосе мира. В то же время понятно, что подобные произвольные и субъективные сцепления идей могут давать довольно причудливые результаты. Предметы сплошь и рядом вступают в ассоциации по тривиальным, несущественным признакам. Многие сопоставления работают явно вхолостую, ведут в тупик, никак не способствуя сколько-нибудь информативному освещению явлений. Перед нами какое-то «броуново движение» понятий, их беспорядочное блуждание и столкновение друг с другом; в лучшем случае это своего рода пробные шары, наугад запускаемые героем в разные стороны в поиске связности мира. Эту связность он готов строить только из сырых материалов собственного опыта, в каком бы скудном количестве те ни поступали, а не из готовой, категоризированной действительности, в которой столь комфортабельно живется взрослым.
Редкая деталь описываемого добычинским героем мира не встречается хотя бы дважды: в первый раз – как непосредственное наблюдение, во второй, третий и т. д. – как материал для сравнений, противопоставлений, реминисценций, обобщений, гипотез и иных мысленных конструкций. Может показаться, что мы имеем дело с поэтикой лейтмотивов. Однако, в отличие от лейтмотивов в традиционном смысле слова, повторяющиеся элементы у Добычина сплошь и рядом совершенно случайны, не несут тематической функции, утверждаются в памяти паразитически, без достаточных содержательных оснований. Эти повторяющиеся тривиальности важны не сами по себе, а как демонстрация мышления, которое при виде нового непроизвольно выуживает из памяти известное и виденное, пусть нерелевантное, но имеющее хоть какую-нибудь точку соприкосновения с этим новым. Несколько примеров:
Герой покупает в книжной лавке «Священную историю» (19). Потом к отцу приходят гости: «Бородатые, как в “Священной истории”, они сели за карты» (25). Семья получает пасхальные открытки, а затем наступает утро – «солнечное, с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую <…> прислала мадмазель Горшкова» (33). В Севастополе дети катаются на татарской лошади Караате (75); позже, на улице города Эн, герой видит знакомого на дрожках: «Он правил. Я вспомнил, как правил иногда Караатом» (82). Рассказчик замечает в знакомом доме книгу Ницше с пометками хозяина на полях: «Как для кого!», «Ого!» и т. п. (35). Много спустя на детском балу «мне подали с “почты амура” письмо. В нем написано было: “Ого!” – и я вспомнил заметки Кондратьева на “Заратустре”» (95).
Если какой-то объект или человек особенно заинтересовал рассказчика, он входит в светлое поле его сознания и начинает активно замешиваться в восприятие всего нового. Именно по этому признаку, а не из каких-либо эксплицитных признаний героя узнаем мы об интересе его к данному объекту или лицу.
Маман сообщила, что завтра придет в гости знакомая дама с мальчиком по имени Серж, и «послала нас с нянькой гулять. Пахло снегом. Вороны кричали <…> – Вдруг это Серж, – говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам» (24).
Такова вся линия Васи Стрижкина. Гимназист Вася, как-то поддразнивший героя («Кто-то щелкнул меня по затылку. В пальто с золочеными пуговицами, это был ученик» (24)), затем несколько раз встречается ему на улице (идет, посвистывая (31), сидит на скамейке, поглаживая вербовую веточку (32), и т. д.). Герой узнает от других отдельные детали Васиной жизни (закурил сигарку в классе и был высечен (30)). Все эти случайные черточки фокусируются в единый образ Васи, который отныне способствует ассимиляции новых понятий, придавая им эмоционально окрашенную конкретность. «Маман <…> читала мне Евангелие. “Любимый ученик” в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке» (33); «Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал» (40).
Фантазируя о малознакомом Васе, игнорируя реального Васю, который служит в полиции (51), рассказчик постепенно начинает видеть в нем какого-то ангела-хранителя, приносящего счастье: «Я помолился ему. – Васенька, – сказал я и перекрестился незаметно, – помоги мне» (46). В столь же фантастическую фигуру, но враждебного плана, вырастает учитель чистописания, которого герой мечтает уничтожить (58, 59, 68, 69 и др.).
Одним из заметнейших отличий героя «Города Эн» от «обывательской армии», в которую зачисляет его Ерофеев, является жадность к чтению: он потрясен Достоевским (68, 72), увлекается Мольером (99, 104), сравнивает себя с лермонтовским Демоном (83). При этом одно литературное произведение играет в его жизни роль своего рода «основной книги», текста на все случаи жизни – это «Мертвые души». Реминисценции из гоголевской поэмы проходят сквозной нитью через повесть «Город Эн», начиная с ее заглавия. И типичная для нашего героя манера использовать объекты «не по назначению», по тривиальным, неспецифическим признакам, проявляется в обращении с «Мертвыми душами» как нельзя более наглядно. Видимо, на каком-то этапе они были единственной прочитанной героем книгой и превратились для него в универсальную точку отсчета, в некую парадигму жизни. Для юного читателя Чичиков и Манилов вовсе не какие-то одиозные гоголевские типы, а представители человечества вообще, своего рода Everyman’ы, и притом с достаточно позитивным и даже романтичным знаком. С ними связываются, например, такие приятные ассоциации, как дружба, путешествия, сельская природа, гостеприимство. Созданные, как и Вася Стрижкин, фантазией добычинского героя, они становятся объектом его мечтаний и прибежищем от реальности:
«Я думал о том, что нам делать с этим <воображаемым> выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн <…> Я подружился бы там с Фемистоклюсом и Алкидом Маниловыми» (23); «Я пожал Сержу руку: – Мы с тобой – как Манилов и Чичиков. – Он не читал про них» (26); «Распростившись с гостями, я слушал с крыльца, как шуршали по песку их шаги. Я стоял как Манилов» (60); «Экипаж встретил нас у железной дороги. <…> Мужики боронили. <…> Я представил себе путешествия Чичикова» (62); «Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силился угадать, кто писал» (74).
Даже инженерша Карманова чем-то напоминает добычинскому подростку героя «Мертвых душ»: «Нас обогнала внушительная дама <…> Ее смуглое лицо было похоже на картинку “Чичикова”» (17; показательно присутствие этого эмблематичного примера на первой же странице повести). Надо полагать, что сходство дамы с Чичиковым могло быть лишь достаточно отдаленным, но дело в том, что в багаже добычинского рассказчика не так уж много разных координат для отсчета и фигур для сравнения, и среди них Чичикову выпало одно из самых видных мест.
Гоголевский лейтмотив играет роль своего рода экрана, хорошо видимого из любой точки повести, на который в виде ярких пояснительных символов проецируются ее главные темы и коллизии. Противостоящий герою взрослый мир на этом экране представлен тоже – в училище празднуют столетие Гоголя. Реакция рассказчика построена по обычной для него схеме: с должной вежливостью отозвавшись о юбилейных манипуляциях, он спешит уйти в свой внутренний мирок и там лелеет своего Гоголя.
«Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. <…> директор, цитируя “Тройку”, сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки. <…> Я был тронут. Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство» (99).
Вполне естественно, что героя не удовлетворяет казенная обличительная трактовка гоголевских персонажей: «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов – мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим» (72–73). Ерофееву здесь видится конгениальность добычинского героя названным персонажам, свидетельствующая о его обывательских наклонностях. Между тем весь фокус рассмотрения прозы Добычина должен, очевидно, быть иным. Перед нами не критика определенной социальной среды (т. е. она здесь есть, но в этом отношении «Город Эн» никак не выделяется из общего потока литературы тех лет), а в первую очередь запись «неофициальных», черновых и ассоциативных процессов мысли и внутренней речи. В данном случае эти процессы мотивированы незрелостью формирующегося сознания. Но и безотносительно к этой особой ситуации они являются одним из главных предметов интереса писателей XX века. Как известно, настоящей энциклопедией этих неподцензурных форм мышления является Дж. Джойс, и поэтому с ходу отводить автора «Улисса» в качестве важной координаты при обсуждении прозы добычинского типа, как это делает Ерофеев, вряд ли целесообразно139.
Кстати говоря, вовсе не случайно, что в «Мертвых душах» добычинский рассказчик больше всего любит и цитирует именно маниловский эпизод. Психология Манилова – и его склонность тяготиться действительностью и уходить в мир мечты, и его праздная, прихотливая ассоциативная мысль (наиболее, так сказать, «джойсовская» во всей поэме) – близка подростку Добычина. Гоголевский лейтмотив «Города Эн» обладает, таким образом, повышенной эмблематичностью, отражая тему повести (структуру души и механизмы мысли юного героя) сразу на двух уровнях. С одной стороны, принцип обращения героя с жизненным материалом наглядно демонстрируется трансформациями, которые претерпевает в его версии общеизвестный литературный сюжет (та же, в сущности, процедура, что и в популярном жанре пародий, показывающих, как тот или другой автор стал бы обрабатывать такой-то заданный ему классический мотив). С другой стороны, указанный принцип находит отражение и в исходном характере самого сюжета, выбранного для подобной демонстрации (эпизод с Маниловым, а не Собакевичем или Ноздревым).
Пример с Гоголем позволяет видеть, что внешняя ориентация на примитив и нехудожественное повествование хорошо уживается у Добычина со вкусом к символу, лейтмотиву, изящному совмещению функций и другим атрибутам развитой литературной техники. Вся эта художественная арматура, однако, успешно камуфлируется на всем протяжении повести и обнажается лишь под самый занавес в броской символичной концовке. Повзрослевший рассказчик, случайно посмотрев через пенсне товарища, обнаруживает свою близорукость и понимает, что «до этого все, что я видел, я видел неправильно». Обзаведясь собственным пенсне, он начинает воспринимать мир по-новому: «За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу <…> Я увидел узор из гвоздей на калитке <…> я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи» (123–124). Прозрение, падение пелены с глаз – символ и вообще емкий по значению, и в данной повести едва ли сводимый к одной исчерпывающей интерпретации. Но мы едва ли ошибемся, усмотрев в заключительных строках «Города Эн» знак отхода от той замкнутости и варки в собственном соку, которая помогала герою уберечься от господствующей пошлости, но при этом существенно искажала все перспективы и пропорции в его мире. В последних строках книги, как это обычно бывает в повестях о детстве, рассказчик показан стоящим на пороге новой жизни. В его случае это не в последнюю очередь означает новое зрение, расширенный кругозор, готовность всматриваться в мир и компетентно разбираться в нем.
Нам, читателям и исследователям Добычина, по-видимому, тоже предстоит еще не раз и не два посмотреть свежим взглядом на его произведение, корректируя фокус и обращая внимание на другие аспекты, о которых в этих заметках почти ничего не говорилось, – в частности, на крепкую, точно продуманную тематическую и композиционную структуру повести, скрытую за тысячей мелочей ее фабулы и за хаотично-фотографическим потоком впечатлений. Но это, конечно, уже предмет для других статей и исследований.
«Город Эн» – последнее произведение Леонида Добычина, и в нем его искусство приобретает зрелые формы. Вместе с большинством художников авангарда и модернизма Добычин в 30е годы двигался в сторону компромисса с классической традицией, смягчая вызывающую левизну и остроту стиля, свойственную его рассказам 20х годов. Тот же процесс шел в плане содержания: зарисовки абсурда и хаоса советской жизни, представленные в рассказах, сменились более безопасной дореволюционной тематикой, в отношении которой ироническая и оглупляющая трактовка была прочно установившейся традицией. Пронизывающее повесть модернистское отношение к миру и ко внутренней жизни человека подверглось несомненной адаптации в целях удобоваримости для широкого (а не только просвещенного) читателя. Состоит она, вопервых, в том, что техника «неофициального» ассоциативного мышления – главный объект художественного исследования в «Городе Эн» – продемонстрирована на уменьшенной модели, чуть ли не в игрушечном масштабе. Детство, небольшой город, коротенький перечень впечатлений, обозримый круг лиц и событий, к которым рассказ снова и снова возвращается, – все это обязывает добавлять по меньшей мере частицу «мини-» к любым мысленным сопоставлениям добычинской прозы с «Улиссом» или чем-либо подобным. Основные операции, действующие внутри данной модели, также очень ясны и легко перечислимы, и не случайно каждая из них повторяется десятки раз (см. их обзор выше). Многократно возвращаясь к одним и тем же формулам и ходам мысли своего героя, автор как бы сигнализирует о том, что «в его сумасшествии есть метод», что перед нами не абсурд и заумь, а очень четко работающий тип сознания, за закономерностями которого в состоянии уследить каждый читатель (нелишняя забота в дни, когда художникам предъявлялось обвинение в «сумбуре»).
Вовторых, указанная адаптация проявилась в заботе автора о том, чтобы и для этих завихрений человеческой психологии, тщательно отобранных и «управляемых» конструктором модели, подыскать традиционно-реалистическую мотивировку, приемлемую для большинства читателей. Удобной мотивировкой оказалась, конечно, та же сфера детства, детского сознания, где всегда с умилением дозволялись отклонения от «нормальной» логики и от культурных канонических форм поведения и мысли; где всегда, в известных пределах, в юмористической трактовке и в понимании их временного возрастного характера, признавались права подсознания, инстинкта и (да!) варварства… Читатель, который с негодованием отпрянул бы от Джойса или его советского варианта, получал возможность снисходительно улыбаться глупостям и чудачествам подростка (к тому же воспитывавшегося при прежнем строе) без каких-либо применений к себе или к человечеству в целом. (Обращение к детству, видимо, можно считать довольно типичной тактикой писателя с неприемлемой темой: ср. хотя бы сказки Е. Л. Шварца.)
В данном случае камуфляж не помог: советский художник, имевший несчастье не угодить идеологическим инстанциям, не мог выйти из спора с ними иначе как виноватым, и Добычин, хотя в общем и избежал обвинений в буржуазном упадочном психологизме, был решительно заклеймен по другой статье («обывательство»). Но синтез различных жанров и установок, осуществленный в повести, – каковы бы ни были мотивы автора – оказался художественно убедительным и органичным, сделав «Город Эн» одним из тех избранных произведений словесного искусства, которым обеспечен успех у любых читательских аудиторий, независимо от возраста, литературной подготовки и эстетических убеждений.
КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ БАЛАГАН ЭРДМАНА
В культуре 1920–1930х годов есть фигуры, чье значение, несмотря на их давнюю и заслуженную популярность, проясняется далеко не сразу. Так, лишь весьма постепенно выдвинулся в фокус нашего внимания уникальный феномен авангардной драматургии – комедии Николая Робертовича Эрдмана (1900–1970). Известную фотографию, где совсем еще молодой Эрдман стоит рядом с В. В. Маяковским и В. Э. Мейерхольдом, надо воспринимать как достоверное иконическое обозначение его ранга на театрально-литературном олимпе XX века. Мало кто станет в настоящее время оспаривать место автора «Мандата» и «Самоубийцы»140 среди наиболее ярких фигур модернистского театра в России и классиков отечественной драматургии (в которой, к слову сказать, давно уже наметился ряд имен, прославленных одной-тремя пьесами: Д. И. Фонвизин, А. С. Грибоедов, А. В. СуховоКобылин).
Современной критике еще предстоит полноценно прочесть текст Эрдмана, раскрыть секреты его столь поражавшего современников смеха141. На театральных подмостках Эрдману сопутствовал неизменный успех: постановки обеих его пьес в СССР и во многих странах Запада начались в середине 20х годов и продолжаются до сих пор. Насколько это приближает нас к пониманию Эрдмана – другой вопрос. Ведь для успеха спектакля, вообще говоря, отнюдь не требуется, чтобы сценическое решение исходило из объективного прочтения замысла драматурга (эта оговорка касается даже идеально близкого автору театра, каким был для «Мандата» мейерхольдовский театр) или из правильного восприятия поэтичской структуры текста (чего едва ли можно ожидать от зарубежных постановщиков и зрителей). Расставить в этих вопросах надлежащие вехи, отделив, насколько возможно, Эрдмана как такового от «отсебятины» бывших и будущих режиссерских интерпретаций, – дело историков литературы и театра. Приходится признать, однако, что эти дисциплины пока делают лишь первые пробные шаги в поиске формул художественного своеобразия «Мандата» и «Самоубийцы».
Как это часто бывало в прошлом, писатель был извлечен из полузабвения и опубликован – в оригинале и в переводе – значительно раньше на Западе, чем на родине. Сильной стороной западных славистов, несомненно, является всесторонняя философская и культурно-эстетическая контекстуализация фигур новейшей русской литературы, коль скоро их ценность кем-то авторитетно засвидетельствована и рекомендована их вниманию. Слабее обстоит дело с умением впервые заметить какое-либо яркое инокультурное явление, самостоятельно диагностировать его как значительное и достойное внимания. Эту операцию западная славистика почти никогда не в состоянии выполнить без подсказки извне, со стороны автохтонной читательской аудитории и критики или, в отдельных случаях, Нобелевского комитета. Пока эти инстанции молчат или посылают неясные сигналы, это обычно сказывается в виде лакун и превратных мнений на соответственных участках западной славистики.
Не располагая однозначными авторитетными указаниями в отношении Эрдмана, первые публикаторы на Западе проявили почти анекдотическую слепоту и наивность в оценке его поэтики. В их предисловиях и статьях автор «Мандата» покровительственно характеризовался как писатель, хотя и заслуживающий внимания (главным образом благодаря «оппозиционной» тематике, столь ценившейся политизированным литературоведением тех лет), но в художественном отношении заведомо второстепенный:
«Хотя и ясно, что в печатном виде ни та ни другая пьеса Эрдмана не может претендовать на то, чтобы быть великой литературой, обе доказали свою жизнеспособность на театральной сцене. “Самоубийца”, при надлежащей постановке, может даже считаться значительным явлением театра – благодаря своему пронзительному выступлению в защиту маленького человека», – писала Марджори Хувер (Хувер 1972: 432).
«Пьеса едва ли отличается искусностью построения или глубиной социального обличения. Но ее комизм живет и сегодня, и она имеет право на свое место в русской литературе», – заключал свое предисловие к «Мандату» Вольфганг Казак (Казак 1976: 8).
За четверть века, прошедшие после смерти Эрдмана, в публикациях, статьях и воспоминаниях о драматурге не могли, конечно, не появиться и более проницательные отзывы о его творчестве. Помимо содержательных аспектов интерес критиков все более привлекают специфические для комедий Эрдмана приемы поэтического «плетения словес». По меткой формуле автора недавнего предисловия, «эрдмановский диалог – это причудливые композиции слова, изощренная словесная икебана» (Свободин 1990: 15). Да и само содержание ищется на более глубоком и абстрактном уровне, нежели простая сатира на советские порядки. Так, в новейшей американской монографии темы Эрдмана формулируются в таких терминах, как «ложное величие Слова» и «деструктивная сила превратного употребления языка» (в «Самоубийце»), как «подчинение героев соблазнительной пустоте лозунгов» и их «реакция на неопределенный, непостижимый и меняющийся мир» (в «Мандате») – Фридман 1995 а: XVII–XVIII. Автор «Мандата» и «Самоубийцы» получает посмертные почести как «умнейший из современников» и «великий писатель» (Этуш 1990: 391).
Настоящая статья – еще один пробный шаг в том же направлении. Ее целью является уяснение поэтического мира драматургии Эрдмана на фоне типологически родственных ей явлений театра. На этой основе будет сделана попытка указать место «Мандата» и «Самоубийцы» в литературе 20х и 30х годов, – в частности, в том созвездии произведений (включающем «Хулио Хуренито» И. Г. Эренбурга, рассказы М. М. Зощенко, романы и фельетоны И. Ильфа и Е. Петрова и исторические новеллы Ю. Н. Тынянова), где был прозорливо выдвинут ряд формул и мифологем, оказавшихся релевантными для понимания всей советской истории, ментальности и культуры.
Для ответа на последний вопрос, казалось бы, естественнее всего обратиться к тематической стороне эрдмановской драматургии, проанализировать высказывания персонажей, выявить заключенные в пьесах идеологические «сообщения». В этом отношении из двух комедий более многообещающей заведомо представляется вторая, традиционно более уважаемая и цитируемая ученой критикой, более ценимая интеллигентными читателями и любителями театра, чем «Мандат»142. Последний в общем пользуется репутацией легковесного фарса, хотя и в нем, как известно, отражены достаточно важные черты эпохи (нэп, обывательство, неопределенность положения «бывших людей» и проч.). Зато «Самоубийца» не только содержит идеи самого серьезного калибра, но даже, можно сказать, перенасыщен ими143. Кажется, что если драматургии Эрдмана суждено когда-нибудь завоевать признание со стороны высоколобой теории и критики, то именно благодаря второй комедии, являющей собой непочатый край поводов для философско-этических, психоаналитических и компаративных построений.
В самом деле: в «Самоубийце» затрагивается широкий спектр тем, общим знаменателем которых является, пожалуй, лишь актуальность и частая встречаемость в тогдашней литературе. В лице Аристарха Доминиковича, например, узнается тип интеллигента, отстраняемого от участия в новой жизни и превращающегося в озлобленного обывателя (ср. Кавалерова и многочисленных героев этой категории). Притча Аристарха о наседке-интеллигенции, которая высидела пролетариат и теперь принимает от него свою погибель (ЭП: 130; С: 58), находит соответствие в «Роковых яйцах» и «Собачьем сердце» М. А. Булгакова.
Представлены в пьесе и другие известные феномены и типажи советского общества: журналист с марксистским жаргоном, священник, приспосабливающийся писатель, пестрая коллекция обывателей обоего пола… В линии главного героя пьесы, Семена Подсекальникова, отражен целый ряд знакомых тем, как, например, идея о том, что в тоталитарном обществе свобода слова, совести и свобода от страха возможны лишь в крайних ситуациях смерти, тюрьмы или сумасшедшего дома: «В настоящее время <…> то, что может подумать живой, может высказать только мертвый»; «Что хочу, то и сделаю. Все равно умирать. Никого не боюсь» (ЭП: 108, 133; С: 35, 61; ср. пребывание Швейка и бухгалтера Берлаги в психиатрической больнице; духовную свободу в тюрьме, обретаемую героями «В круге первом» А. И. Солженицына и т. п.). Кое-где в драме Подсекальникова проглядывает – с очевидным намеком на советские условия – чеховский мотив талантов, погубленных средой: «С самого раннего детства я хотел быть гениальным человеком <…> Жизнь моя, сколько лет издевалась ты надо мной» (ЭП: 134; С: 62). Видную роль играет идущий от Достоевского мотив чьего-то самоубийства, используемого другими в своекорыстных политических целях (Верховенский и Кириллов в «Бесах»). Почти под занавес вводится в «Самоубийце» патетическая декларация любви к земному бытию как таковому, утверждение права личности на неучастие в революциях, вызывающая апология быта, телесного существования и житейского тепла: «Перед лицом смерти что же может быть ближе, любимей, родней своей руки, своей ноги, своего живота…» (ЭП: 161; С. 87–88) – еще одна заметная тема XX века, к которой обращаются персонажи и лирические герои у столь разных авторов, как О. Э. Мандельштам, Ю. К. Олеша, М. А. Шолохов, Б. Л. Пастернак («Доктор Живаго»)… Наконец, проходящая через всю пьесу линия невидимого комсомольца Феди Питунина, который взаправду кончает жизнь самоубийством в финале («Подсекальников прав. Действительно, жить не стоит»), по-видимому, воспроизводит еще одну характерную тему Достоевского – власть усвоенной извне мечты или абстрактной идеи над молодым, не имеющим твердой почвы сознанием, способность идеи полностью подчинить себе и даже убить человека («помечтал, да и сделал») (см.Энгельгардт 1924: 83–84).
Как связаны между собой эти темы? Какая из них должна быть выделена как главная? Можно ли говорить об оригинальном эрдмановском угле зрения, объединяющем их в органичное целое? Ответ на эти вопросы труден и чреват опасностью гиперинтерпретации, попросту говоря – чрезмерного мудрствования, которое, кстати сказать, давно уже расцвело пышным цветом в соседней с Эрдманом области булгаковедения144. Иными словами, мы далеко не уверены в том, что предпочтение «Самоубийцы» «Мандату» по линии «проблематичность vs легковесность» ведет к правильному прочтению драматургии Эрдмана. Да, вторая комедия содержит пестрый ряд зарисовок советского общества, касается широкого круга историко-философских вопросов, полна остроумных выпадов и смелых намеков на современность. Однако ее видимая энциклопедичность лишена единого фокуса – начать хотя бы с явного отсутствия единства личности у главного ее героя Подсекальникова, который сбивает с толку окружающих сменами настроения, выступает с лозунгами самого различного толка и проявляет себя в одних сценах как ограниченный обыватель, а в других – как прозорливый наблюдатель жизни, стоящий на уровне передовых идей века. Короче говоря, при всей своей формальной стройности, «Самоубийца» представляется едва ли не менее пестрой и разбросанной пьесой в тематическом плане, чем «Мандат» – в плане сюжетно-композиционном.
Этот идейный эклектизм «Самоубийцы» едва ли следует считать изъяном, подлежащим изжитию в сценических или литературно-критических интерпретациях. Подобного рода жонглирование популярными темами типично для эстрадно-сатирического обозрения – жанра, бывшего для Эрдмана в полном смысле слова родной стихией, из которой он вышел и в которую в конечном счете вернулся. Оно характерно также для авангардной поэтики, связь с которой обеих комедий несомненна. Как известно, искусству авангарда, во всяком случае в его российском зрелищно-агитационном и сатирическом ответвлении (Мейерхольд, Маяковский, Эйзенштейн, Хлебников, Ильф и Петров и др.), был свойствен вкус не к углублению в неизведанные темы, а к внешней разработке уже готовых тематических заданий с помощью фейерверка формальных приемов, включая как обязательный компонент клоунаду и эксцентрику. Родство эрдмановского «Самоубийцы» с этой традицией чувствуется в любой сцене – чего стоит хотя бы каскад комических словесных трюков (gags), в которые переработана в монологах Подсекальникова гамлетовская дилемма «быть или не быть»!145
Учитывая это, мы не будем в нижеследующих заметках говорить о «Мандате» и «Самоубийце» под углом тех категорий, которые в них обсуждаются более или менее открыто (мещанство, интеллигенция, марксизм, старый режим, советская власть и т. п.). Хотя эта явная тематика, несомненно, играет в комедиях отведенную ей роль, оригинальный вклад Эрдмана в современный театр, как представляется, заключен не в ней, а в более абстрактной модели мира, лежащей в основе эрдмановской «человеческой комедии», – другими словами, не в «сообщении» пьес, а в том, что можно вольно называть их «кодом». В это понятие нами включаются, с одной стороны, поэтический строй текста, а с другой – парадигмы, управляющие поведением персонажей: их ментальный облик, их представления о пространстве, времени и каузальности, то, как они классифицируют и категоризируют действительность, характер их реакций на слова и события и т. д. Вполне вероятно, что в авангардных комедиях типа «Мандата» и «Самоубийцы» именно указанные аспекты – в большей степени, чем фабула, зарисовки социальной среды или политические аллюзии, – являются сферой прозрений и формул, фиксирующих глубинные черты советской эпохи.
Такой сдвиг исследовательского интереса позволит даже в наиболее фарсовых сценах Эрдмана увидеть не просто «монтаж аттракционов» по готовой, с миру по нитке собранной тематической канве, но и явление искусства в собственном смысле, как оригинального отображения и творческого осмысления действительности. И при таком подходе «Мандат», где откровенно царят эксцентрика и слэпстик, окажется, может быть, не менее серьезной комедией, чем «Самоубийца» с его многогранной проблематикой и литературными реминисценциями.
Сказанное можно пояснить аналогией, например, с фильмами Ч. Чаплина. Среди них, как известно, есть идейно непритязательные «комические» ленты, основанные на беготне, падениях, швырянии пирожных и т. п., и есть большие вещи с социальным содержанием, как «Новые времена» [«Modern Times»], хотя и последние (как «серьезный» «Самоубийца» Эрдмана) никогда не обходятся без физических трюков традиционного типа. На примере Чаплина особенно видна ненадежность сравнения произведений по социально-философской ценности их тематики и сюжета. Нетрудно видеть, что вся чаплиновская продукция составляет континуум, в котором достаточно условно не только разделение лент на серьезные и легковесные, но и самое их разграничение как отдельных текстов, изъятие из того создаваемого by installments эпоса, частями которого они являются. Первичным, инвариантным для всего цикла измерением является, конечно, сам чаплиновский герой, его своеобразная психология, положение в мире, взаимоотношения с вещами и людьми и т. п. В качестве манифестаций этого инварианта «чисто развлекательные» моменты приключений героев не менее показательны, чем социально нагруженные. Лишь на этом уровне, отвлекаясь от конкретных фильмов, можно говорить о глубинной тематике художника (в отличие от тех актуальных проблем, которые могут служить сюжетом отдельных лент и которые решаются у Чаплина вполне банально: вносит ли, например, «Великий диктатор» [«The Great Dictator»] что-либо оригинальное в понимание тоталитаризма?) и ставить вопрос о ее соотношении с магистральными идеями и культурно-философскими парадигмами своего времени.
Как мы увидим, способы моделирования мира и человека в эрдмановском театре находятся в безупречной гармонии с его жанровотипологическими и языковыми особенностями. Именно с последних мы считаем нужным начать наш обзор «источников и составных частей» драматургии Эрдмана.
Очевидно родство эрдмановской драматургии с балаганной фольклорной комедией, с приемами ее учеников Мольера и Фонвизина, а также с той разновидностью сценического балагурства, которая представлена в диалогах шекспировских шутов (не раз переписывавшихся Эрдманом для современных постановок Шекспира) и в репризах цирковых клоунов. Основа этих жанров – бесшабашная и безответственная логическая акробатика на языковой подкладке: псевдодоказательства, псевдосиллогизмы и дефиниции, глумливые дискуссии, задачки и ответы, построенные целиком на жонглировании словами, на их наглом передергивании и переворачивании.
Балаганная эстетика играла, как известно, немалую роль в искусстве символизма и авангарда (см. Гаспаров 1977; Келли 1990; Клэйтон 1994). Из репертуара народного театра ближайшие параллели к Эрдману обнаруживаются в кукольных сценариях о Петрушке и в комических диалогах барина со слугой. Отголоски этих фольклорных жанров налицо уже в списке действующих лиц и в вещественном реквизите эрдмановских комедий.
В «Мандате», например, есть такие персонажи, как Шарманщик, Барабанщик и «Женщина с попугаем и бубном», наделенные определенными ролями в эксцентрических замыслах семьи Гулячкиных. Шарманщик (музыкант) – обязательный участник кукольных представлений, наперсник Петрушки; бубен и попугай – его известные атрибуты (ФТ: 252, 261, 279, 294, 304; НТ: 284). По ходу действия Петрушка (Ванька), нуждаясь в аккомпанементе для похорон или танцев, велит музыкантам: «Играйте камаринского», «давай барыню» (НТ: 259, 295) – ср. «Мандат», где Варвара, пытаясь выжить неугодного жильца Ивана Ивановича, без конца побуждает Шарманщика и его спутников играть, петь и танцевать. Параллель идет и дальше. Музыкант торгуется и договаривается с Петрушкой о плате, но последний нарушает договор: «Музыкант: А мне на чай забыл, Ванюша? Ванька: Я тебе вексель вышлю по радио» (НТ: 295–296, 439). В том же духе мада Гулячкина, получив от Шарманщика и компании весь установленный сервис, отказывается выставить обещанные кулебяку и водку, чем навлекает на себя их гнев (ЭП: 57, 60; М: 62, 66).
В народном театре вообще обычны сцены, где Петрушка заказывает разным профессионалам (Доктору, лошаднику-цыгану) те или иные услуги, по получении которых он вместо платежа бьет партнера палкой и вынуждает уйти ни с чем (НТ: 253).
Нередким элементом балаганных комедий являются шутовские похороны и гроб, мешок или ящик, в который запихивается и откуда потом появляется (если ему удается остаться в живых) кто-то из героев (ФТ: 48, 171, 187, 267, 310). Не исключено происхождение этого контейнера от ящика с куклами, из которого в некоторых сценариях вылезает Петрушка, крича: «Вот я и приехал сюда – не в тарантасе-рыдване, а… в дубовом ящике» (НТ: 284). Подобного рода предмет фигурирует на центральном месте в обеих комедиях Эрдмана. Персонажи «Мандата» без конца перетаскивают сундук, в котором поочередно находятся платье царицы, новоявленная претендентка на престол Настя и сосед Иван Иванович. В «Самоубийце» часть действий четвертого и пятого развертывается вокруг гроба, где лежит мнимый покойник Подсекальников; его «воскресение», спровоцированное суетой живых вокруг тела, близко напоминает эпизоды со вскакивающими из гроба Аникой-воином, Гусаром и т. д.
В текстах драматурга можно найти и ряд других цитат и отголосков из народных пьес. Так, намерение Гулячкина уехать в другой город, чтобы спастись от якобы грозящего ему ареста:
Павел Сергеевич: Мамаша, я уезжаю в Каширу.
<…>
Надежда Петровна: Зачем уезжаешь?
Павел Сергеевич: Потому, что за эти слова, мамаша, меня расстрелять могут (ЭП: 27; М: 19) —
становится понятнее в свете нередких заявлений балаганных героев: «поеду в такой-то город»: «Петрушка: Поеду в Варшаву. Музыкант: Зачем? Петрушка: За картошкой» (ФТ: 309). «Завтра поеду в Петербург и куплю салопы, башмаки, чулки и туфли» (НТ: 229). Мотивом отъезда, как и в «Мандате», часто бывает конспирация. Петрушка, боясь рекрутчины, скрывается при приближении Капрала, прося Музыканта: «Скажи ему, что я уехал в Париж», или «Уезжаю… в Вязьму, на Валдай, да ты никому не болтай», или «Если он… станет спрашивать меня, так ты ему скажи, что я уехал в Еривань» (НТ: 279, 283, 288).
Лейтмотив жильца Ивана Ивановича в «Мандате» – постоянные угрозы обратиться в милицию, ее призывание («Милиция, милиция, милиция!») – сохраняет дух тех сцен кукольного театра, где Петрушку волокут в «полицу» (ФТ: 283).
Опасения Гулячкина, что его как при старом, так и при новом режиме могут «мучительской смерти предать» (ЭП: 49; М: 48), напоминают об угрожающих формулах из «Царя Максимилиана»: «Не испугала ли тебя предстоящая мучительная смерть?.. Сейчас же повелю злой смерти предать…» и т. п. (ФТ: 149–150, 196–197). Военные команды, которые подает бывший генерал Автоном Сигизмундович племяннику Анатолию и денщику Агафангелу (М: 72), имеют прототип в сценах Петрушки с Капралом (ФТ: 268–269, 278, 284–286 и др.).
Параллели с народным театром постоянно прослеживаются на уровнях тематики, сюжетных мотивов и фарсовых трюков. Так, разговорам Автонома Сигизмундовича с Агафангелом (М: 68–71) соответствует популярный жанр диалога барина (помещика, офицера) со слугой (старостой, денщиком), в котором барин справляется о состоянии какого-то имущества, порученного попечению слуги: коня, леса, поля, усадьбы и т. п., например: «Барин: Афонька-малый!.. Коней-то ты поил?.. В моем поле был?.. Ну что, хлеба хороши?» и т. д. (ФТ: 58). Чаще всего из расспросов выясняется, что по тем или иным причинам (например, из-за варварского обращения слуги) опекаемую собственность постигла беда (ФТ: 69, 75)146. В «Мандате» таким объектом забот барина является дореволюционный журнал:
Автоном Сигизмундович: Где мои «Русские ведомости»?
Агафангел: Так что погибли, ваше превосходительство.
<…>
Автоном Сигизмундович: Ну, так, может быть, <ты> как-нибудь по-небрежному с ними обращался?
Агафангел: Никак нет, ваше превосходительство. Каждое утро мокрой тряпочкой вытирал (М: 68–69).
Автоном Сигизмундович: Где же он <портрет бельгийского короля Альберта из «Всемирной иллюстрации», находившийся в уборной. — Ю. Щ.>?
Агафангел: Так что не досмотрел и использовал, ваше превосходительство.
Автоном Сигизмундович: Истинно можно сказать – король-страдалец (М: 70).
«Брычками и пинками переполнена вся <народная> комедия, они составляют самую существенную и самую смехотворную часть для зрителей», – замечает Д. А. Ровинский (ФТ: 305). Отголоски фольклорных оплеух, раздаваемых направо и налево без видимого повода, можно встретить и в пьесах Эрдмана. Как «Петрушка сидит и поет, тут неизвестно кто вдаряет его по затылку палкой» (ФТ: 312), так и персонажи «Мандата» нечаянно опрокидывают на голову партнеров горшки и бьют друг друга по уху (ЭП: 25; М: 17, 89).
Еще более массовый характер в театре фольклорного типа имеют пинки словесные – всякого рода дерзкие каламбуры, насмешки и намеки, часто в диалоге нижестоящего с вышестоящим. Как правило, они сходят безнаказанно, маскируясь простотой или ошибкой говорящего, либо тем, что он лишь передает слова других, либо тем, что слуга подлаживается к барину, отвечая ему в рифму (типа: «Афонька-малый [вариант: новый]! – Что прикажешь, барин пьяный [вариант: голый]?»), либо недогадливостью и глухотой самого адресата. Часто фраза бывает настолько замысловатой, что адресат вынужден переспросить, в ответ на что партнер либо дает своим словам невинное толкование, либо повторяет их в отредактированном, безобидном варианте (так сказать, каламбур в диахронии, когда два возможных прочтения подаются последовательно).
Староста: Здорово, барин-батюшко… Я был на Нижегорочкой ярмонке, видел свиней вашей породы, да вашу барску шкуру продал…
Барин: Что ты, дурак, разве бывает свинина барской породы?
Староста: Вашего завода (ФТ: 65).
Шутки этого типа встречаются у Фонвизина:
Митрофан: <…> Ночь всю такая дрянь в глаза лезла.
Г-жа Простакова: Какая же дрянь, Митрофанушка?
Митрофан: Да то ты, матушка, то батюшка.
Г-жа Простакова: Как же это?
Митрофан: Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку («Недоросль», действ. 1, явл. 4).
У Эрдмана фольклорная схема несколько изменена. Словесный щелчок – не исходная реплика, перетолковываемая затем в невинном духе, а, напротив, заключение диалога, его комическая pointe:
Павел Сергеевич: А вдруг, мамаша, меня <в партию> не примут?
Надежда Петровна: Ну что ты, Павлуша, туда всякую шваль принимают (ЭП: 27; М: 20).
Павел Сергеевич: Это Уткин раз в разговоре сказал: «Теперь, говорит, всякий дурак знает, что такое Р. К.П.».
Варвара Сергеевна: Как же, Павлушенька, ты не знаешь? (ЭП: 44; М: 41)
Надежда Петровна: А уж Варя моя, Олимп Валерианович, из-за вашего сына аппетита лишилась. Если она за обедом, Олимп Валерианович, Валериана Олимповича вспомнит, так у ней даже самый вкусный кусок поперек горла становится. Мамаша, говорит, много я видела на свете ужасно красивых людей, но Валериан Олимпович всех ужасней (М: 81–82).
Олимп Валерианович: Какому же, простите за выражение, идиоту он хочет такие вещи доказывать?
Надежда Петровна: Вам, Олимп Валерианович, вам (М: 81).
Надежда Петровна: <…> тебе за такое геройство каменный памятник высекут…
Павел Сергеевич: Высекут?
Надежда Петровна: За такое геройство обязательно высекут. В назиданье потомству (ЭП: 48; М: 48).
Маргарита: Пожалуйста, не прикидывайся. Сознавайся, с какою ты шлюхой сидел.
Александр: Да, наверно, с тобой, Маргарита Ивановна.
Серафима: С вами, с вами (ЭП: 116; С: 44).
Словесная оплеуха может быть ненамеренно обращенной на самого говорящего:
Сын: В Париже все почитали меня так, как я заслуживаю. Куда бы я ни приходил, везде или я один говорил, или все обо мне говорили… Где меня ни видали, везде у всех радость являлася на лицах, и часто, не могши ее скрыть, декларировали ее таким чрезвычайным смехом, который прямо показывал, что они обо мне думают (Фонвизин. «Бригадир», действ. 3, явл. 3).
Настя: …Вы, пожалуйста, из-за этого чего не подумайте.
Иван Иванович: Я, Анастасия Николаевна, никогда ничего не думаю (ЭП: 37; М: 33).
Варвара Сергеевна (глядя в зеркало): …Мне улыбка очень к лицу, только жалко, что она в этом зеркале не помещается (ЭП: 43; М: 40).
Олимп Валерианович: <…> Валериан.
Валериан Олимпович: Я, папа.
Олимп Валерианович: Ты почему же не напеваешь?
Валериан Олимпович: Моя песенка спета (М: 60)
или направленной в огород каких-то престижных понятий, лиц, институтов:
Мария Лукьяновна: Что случилось?
Серафима Ильинична: Егорка до точки дошел.
Мария Лукьяновна: Что ты, мамочка, до какой?
Егорушка: До марксистской, Мария Лукьяновна (ЭП: 114; С: 42).
Аристарх Доминикович: Нужно прямо сознаться, дорогие товарищи, что покойник у нас не совсем замечательный. Если б вместо него и на тех же условиях застрелился бы видный общественный деятель <…> это было бы лучше, дорогие товарищи.
Семен Семенович (в гробу): Это было бы просто прекрасно, по-моему (ЭП: 149–150; С: 77–78).
Валериан Олимпович: Этот сундук? А что в нем такое?
Тамара Леопольдовна: Молодой человек, я вам открываю государственную тайну. В этом сундуке помещается все, что в России от России осталось.
Валериан Олимпович: Ну, значит, не очень тяжелый (ЭП: 59; М: 65).
Автоном Сигизмундович: Вот тоже еще патриарх Тихон также в России от России остался.
Валериан Олимпович: Он-то, дядюшка, от России остался, зато в нем, дядюшка, от России ничего не осталось (М: 74).
Всем эрдмановским героям в равной мере свойственна эта склонность к словесным «брычкам и пинкам», щедро раздаваемым ими во все стороны, безразлично к родственным и политическим пристрастиям говорящего, к тому, «с кем он» в расстановке сил пьесы. При этом самые недалекие персонажи, как правило, отпускают и самые остроумные замечания, словно становясь пассивными передатчиками авторского ума и юмора. Текст пьесы сплошь состоит из блестящих афоризмов и каламбуров, имеющих характер случайных обмолвок и не замечаемых ни самим невольным шутником, ни кем-либо другим из находящихся на сцене. И чем удачнее, ярче сентенция, тем более странно выглядит ее неосознание говорящим, тем полнее его идиотизм и очевиднее факт его использования автором в качестве некой чревовещательной куклы для собственного голоса.
Такой характер имеют все цитированные выше выпады героев против самих себя, своих близких и ценностей «своего» круга, – как, например, последние два примера (о России и о Тихоне) или высказывания о монархии и старой культуре в невольных каламбурах закоренелого монархиста и сторонника «старого времени» Автонома Сигизмундовича:
Подумать только, что раньше таких людей вся Россия переносила, теперь только пять человек переносят (ЭП: 65; М: 78; о «великой княжне» Насте, которую поднимают и несут четыре монархиста).
Люди <в старой России> были великие. Ну вот, скажем, к примеру, Сытин. Печатал газету «Русское слово», и как печатал. Трехэтажный дом для газеты построил и во всех трех этажах печатал. Зато, бывало, мимо проедешь, сейчас же подумаешь: «Вот оно – оплот Российской империи, трехэтажное “Русское слово”» (ЭП: 69–70; М: 69).
Обязательным элементом балаганных диалогов было передразнивание всякого рода авторитетной речи: брани, угроз, приказов и т. д. Нижестоящий делает вид, что недослышал или недопонял слова вышестоящего:
Городовой: А вот я пойду на тебя просить… в полицу.
Петрушка: Что такое? В больницу? Я здоров, я не пойду в больницу.
Городовой: Не в больницу, а в полицию (ФТ: 283).
Капрал: Слушай!
Петрушка: Скушаю.
Капрал: Не кушать, а слушай. Держи ровно!
Петрушка: Что такое Матрена Петровна?
Капрал: Не Матрена Петровна, а держи ровно! Какая тебе Матрена Петровна? Какой ты бестолковый! (ФТ: 285).
Данный прием Эрдман, видимо, считал слишком примитивным для пьес, но обильно использовал в интермедиях и юморесках: «выражали – вы рожали», «съезд – съест» (ЭП: 184, 192), а также в скетчах военного времени о солдате Шульце – немецком варианте Швейка. Этот персонаж перевирал слова патриотического «письма с фронта», диктуемого ему офицером, записывая «мы не раз биты» вместо «мы не разбиты», «Гитлер паразит» вместо «Гитлер поразит <весь мир>», «Геббельс пишет с водки» вместо «пишет сводки» и т. п. (ЭП: 357)147.
Стихия словесных «брычков и пинков» – одна из важных линий типологического сходства героев «Мандата» с фигурами кукольной комедии, шекспировскими шутами и цирковыми клоунами. Как известно, общей чертой подобных персонажей является легковесность и безответственность, позволяющая безнаказанно уязвлять любых лиц, задевать сколь угодно щекотливые темы. Поймать, репрессировать скомороха или клоуна нелегко – и не только из-за его защитной дурашливости и социального аутсайдерства. Цензура балаганных острот затрудняется их увертливой и летучей композицией, отсутствием связной тематической линии, которая поддавалась бы уловлению и разгрому. Персонаж шутовского типа свободно носится на волнах языковой стихии, острит оппортунистически, «ради красного словца», и, запустив очередную словесную стрелу, перебегает на новое место, прежде чем кто-нибудь успел опомниться. Эта нарочитая прерывность балаганного дискурса тесно связана с другой, уже упоминавшейся стратегией «заметания следов», – универсальным разбросом объектов шутки, отсутствием постоянной мишени. Мир рассматривается шутом как идиотичный насквозь, состоящий из дураков всех мастей, и объектом «пинков» могут быть, как мы видели, не только престижные институты, но и кто угодно, включая самого шутника и его окружение. Подобная нивелирующая установка шутовской речи, естественно, в какой-то мере камуфлирует ее более рискованные моменты148.
В условиях современной культуры идеальной рамкой для словесного озорства данного типа являются конферанс, интермедия, скетч, обозрение и другие эстрадно-цирковые разговорные жанры, в которых Эрдман был непревзойденным мастером. Пересадка их стиля и приемов в литературную, сюжетную драму была интересным экспериментом Эрдмана. После двух экскурсов в полновесную драматургию писатель, по-видимому, не столько трагически замолчал (согласно распространенному мнению), сколько вернулся в родную ему стихию эстрадной сатиры, где, как показывают недавно опубликованные тексты, он много и плодотворно работал до конца жизни, хотя и эта область подвергалась жестокому контролю и принесла драматургу немало неприятностей и разочарований.
Плут народного театра – слуга, Петрушка – нередко говорит загадками, ставя партнера в тупик и вынуждая требовать объяснений: «Барин: …У наших крестьян и посев хороший бывает?.. Староста: В полосу зерно, в борозду друго, и посев весь. Барин: Что ты болтаешь, ничего не поймешь! Староста: Каждый крестьянин по семь кулей высевает» (ФТ: 67; вся пьеса построена на таких зашифрованных ответах слуги и переспрашиваниях барина). Этот же стиль разговора характерен для шекспировских шутов: «Шут: Жаль, что у меня нет двух колпаков и двух дочерей. Лир: Для чего, дружок?» или «Шут: Дай мне яйцо, дяденька, а я дам тебе за то два венчика. Лир: Какие это такие два венчика?» («Король Лир», действ. 1, сц. 4; перевод Пастернака). Герои Эрдмана постоянно – хотя и отнюдь не всегда с ироническим умыслом, как в приведенных примерах, – вызывают своих партнеров на расспросы шокирующими заявлениями, непонятными из-за пропуска целой серии смысловых звеньев:
Надежда Петровна: Он, Павлуша, за нашей Варенькой в приданое коммуниста просит.
Павел Сергеевич: Что? Коммуниста?
Надежда Петровна: Ну да.
Павел Сергеевич: Да разве, мамаша, партийного человека в приданое давать можно? (ЭП: 24; М: 16).
Шарманщик: …я в жилом помещении играть не согласен.
Варвара Сергеевна: Но поймите, что мы выживаем.
Шарманщик: Я вижу, что выживаете. Нынче очень много людей из ума выживают. <…>
Варвара Сергеевна: Мы совсем не из ума выживаем, а жильца.
Шарманщик: Ах, жильца, ну это дело другое. За что же вы его, сударыня, выживаете?
Варвара Сергеевна: За то, что он хулиган. Можете себе представить, он из меня девушку до конца моей жизни делает.
Шарманщик: Да ну?! Как же он из вас, сударыня, девушку делает?
Варвара Сергеевна: …я невеста. Ну а брат мой, Павел Сергеевич, нынче утром на этого жильца ультиматум поставил. Если ты, говорит, из квартиры его не выживешь, ты у меня из девического состояния не выйдешь (ЭП: 40; М: 37).
Серафима Ильинична: Где же выход?
Александр Петрович: В трубе, Серафима Ильинична.
Серафима Ильинична: Как в трубе?
Александр: Есть такая труба <…> геликон, или бейный бас, и в этом басе весь выход его и спасение.
Мария Лукьяновна: Для чего же, простите, ему труба? (ЭП: 98; С: 24)
Персонажи народного и шекспировского театра часто прибегают и к загадкам в собственном смысле слова: «Шут: Можешь ли ты сказать, отчего нос на лице человека посередине? Лир: Нет. Шут: Чтобы иметь по обе стороны от себя по глазу. Чего не разнюхает нос, то глаза досмотрят» («Король Лир», действ. 1, сц. 5). Прием прямой загадки или головоломки (quiz) мы встречаем и у Эрдмана:
Павел Сергеевич: …вы мне <…> скажите, мамаша: что, по-вашему, есть картина?
<…>
Павел Сергеевич: …теперь картина ни что иное, как орудие пропаганды.
Надежда Петровна: Орудие? Это как же так? (ЭП: 22; М: 14)
Автоном Сигизмундович: <…> Анатолий.
Анатолий: Я, дядюшка.
Автоном Сигизмундович: Кто царь птиц?
Анатолий: Орел, дядюшка… (М: 90)
Павел Сергеевич: …Да, кстати, ты не знаешь, Варенька, что такое Р. К.П.?
Варвара Сергеевна: Р. К.П.? Нет, не знаю. А тебе зачем? (ЭП: 44; М: 41)
Загадки и недоразумения – часть общей стратегии недоговаривания, переспросов, выдавливания информации «по капле», с помощью которой в народной комедии и в театре Эрдмана строится диалог:
Ответчик: …Откуда ты, Ванечка?
Ванька: Я пришел из Берлина, из самой Германии.
Ответчик: Чего ж ты приехал сюда, Ванюша?
Ванька: Я приехал сюда жениться.
Ответчик: Хорошее дело… А там, в Германии, разве не мог себе невесту найтить?
Ванька: Нетути.
Ответчик: А кого ж ты берешь себе в невесты?
Ванька: Попову дочь.
Ответчик: Так, так. А сколько ты приданого за нее берешь? и т. п. (НТ: 294)
Автоном Сигизмундович: Валериан.
Валериан Олимпович: Я, дядюшка.
Автоном Сигизмундович: Для чего ты сюда притащил эту штуку?
Валериан Олимпович: Ничего подобного.
Автоном Сигизмундович: Что ничего подобного?
Валериан Олимпович: Я ее, дядюшка, не притащил, а спас.
Автоном Сигизмундович: Как спас?
Валериан Олимпович: Вы, дядюшка, все равно ничего не поймете.
Автоном Сигизмундович: Почему не пойму?
Валериан Олимпович: Потому что я сам ничего не понимаю.
Автоном Сигизмундович: Как же ты, Валериан, не поймешь того, что ты сам делаешь? (М: 73)
Клеопатра Максимовна: Вот.
Олег Леонидович: Что – вот?
Клеопатра Максимовна: Здесь.
Олег Леонидович: Что здесь?
Клеопатра Максимовна: Здесь его похоронят,
Олег Леонидович: Кого похоронят? (ЭП: 154)
Функцией вопросов и переспросов является, таким образом, разбитие информации на ряд смысловых квантов, подаваемых с расстановкой (сукцессивно) и крупным планом; другими словами, подчеркнутая артикуляция любых важных сообщений и заявлений. Коммуникативная ясность и четкость – непременная черта балаганного театра. Слово, несущее сюжетно важный смысл, стилистически нейтрализовано, очищено от индивидуальных и локальных оттенков, шероховатостей и излишеств, свойственных живой речи (что, разумеется, не исключает вкраплений выисканных и выразительных слов, чья лексическая окраска лишь эффективно оттеняется нейтральностью фона). Высказывание сводится к своему информационно-логическому костяку, стремится к лаконизму и выделенности смысловых членений. Логическая схема сообщения скандируется путем окликаний, откликов, анонсов, переспрашиваний, повторов, неторопливо выдвигающих в поле внимания поочередно все ее главные элементы, начиная с таких преамбул, как привлечение внимания адресата (всегда образующих отдельную реплику) и указание модальности предстоящего обращения (новость, вопрос, приказ и т. п.).
Петрушка: Музыкант, а музыкант!
Музыкант: Что такое?
Петрушка: А знаешь что?
Музыкант: Что такое?
Петрушка: Я тебе новость скажу.
Музыкант: Какую?
Петрушка: А вот <какую>: сколько ни волочиться, задумал, брат, жениться…
Музыкант: На ком же ты, Петрушка, жениться задумал?.. и т. д.