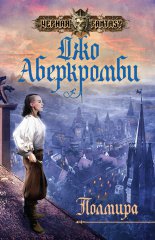Паутина судьбы Stenboo Doc
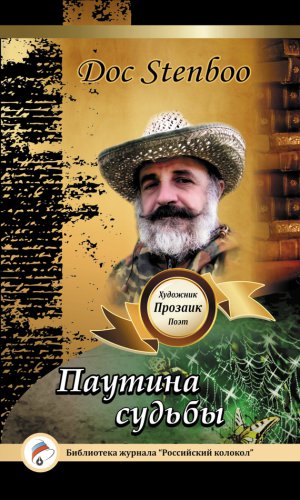
© Пушкин В.А., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
* * *
Любое совпадение с реальными событиями случайно, произошло не по вине автора, и последний не намерен нести за это никакой ответственности.
I
Началось это с ним, когда еще не обрушился Союз.
А до того было всякое: служил в армии, учился в музыкально-педагогическом институте на вокальном отделении… О славной карьере певца-солиста со временем мечтать перестал, ибо, как сказала ему одна примадонна: «Ничего не поделаешь, если Бог тебя не поцеловал». И он поступил в хор оперного театра.
Двадцати пяти лет случайно женился. Жил с семьей долго и несчастливо. Росли две дочери; он старался быть хорошим отцом. Но в конце концов с женой все-таки развелся. Переселился в коммуналку, выхлопотав комнату через театр. Старшая дочь превратилась в бизнес-леди – уже в наши дни. Вторая претендовала стать художницей, однако оказалась патологической лентяйкой. Вместо стояния у мольберта она предпочитала посещать ночные клубы. Средства для этого отпускала мамаша, сдавая заработанную бывшим мужем кооперативную квартиру.
Кстати, не забудем назвать имя человека, о котором с самого начала зашла речь: Валерьян Александрович Морхинин. С приближением рыночной эпохи он покинул театр и устроился в Дом народного творчества (Домнартвор), курируя, по своей должности, несколько самодеятельных коллективов, занимавшихся хоровым пением.
Так вот, как-то в голову Морхинину поступил первый импульс, побудивший его посвятить свою жизнь совершенно другому делу: а именно – литературе. Произошло это следующим образом. После обеденного перерыва Валерьян заглянул в соседнюю комнату.
– Ну, как вчера? – спросил сидевший здесь Обабов, имея ввиду переговоры с руководителями хоров Морхинин застенчиво взял сигарету из пачки на столе Обабова, щелкнул его зажигалкой и пустил белесый дымок. (Он не курил, но «постреливал» изредка у знакомых.).
Выслушав подробное сообщение Морхинина, его сослуживец удовлетворенно кивнул.
– Впечатляюще, – заявил крупный чернокудрявый Обабов. – Тебе, Валерьян, всевышний дарование обеспечил. Ишь какой словарный запас! Надо бы с лекциями выступать о японской кулинарии. Сейчас модно. Или, например, историческое… про инков, ацтеков, про Шамбалу или чашу Грааля. А вообще тебе бы писать…
И это искренне советовал компетентный человек. Признаться, ухо Обабова профессионально слышало качество изложенного текста. Он учился когда-то в университете на филологическом. Погубили его два сильных увлечения: лошади и женщины. Со студенческих лет Обабов азартно и часто посещал ипподром. А пристрастие игрока дополнялось склонностью к полным блондинкам, имеющим уступчивый нрав. После трех разводов и нескольких сокрушительных проигрышей на бегах солидный Обабов превратился, как и Морхинин, в сотрудника той организации, где обосновались многие специалисты творческих профессий, чаще всего так и не окончившие университетов.
Словом, может быть, благодаря обабовским похвалам Морхинин и начал постепенно мудрить.
Оказавшись вечером дома, в своей комнате, он задумался. Посмотрел в глубину зеркала, перед которым обычно брился, и убедил себя, что еще не стар, довольно-таки миловиден и хотя не брюнет, однако и не блондин, и производит впечатление серьезного мужчины, упорно размышляющего над проблемами жизни. А все вместе, возможно, создаст благоприятное впечатление, особенно если редактор или издатель окажется женщиной.
Сейчас идут изменения в государстве, говорил себе Морхинин. Что-то новое хотят выстроить. Перестройка. И вот уже возникли никому не известные люди, располагающие миллионами американских долларов. А еще появилась в Москве категория почтенных на вид граждан, копающихся по утрам в мусорных контейнерах…
«Избитая тема! – воскликните вы. – Надоело!»
Морхинину тоже надоело. Об этом он писать не будет. О чем же бывший хорист расскажет в своих литературных начинаниях?
Он положил лист писчей бумаги на единственный в его комнате стол. Писательского стола у него не было. Морхинин припомнил реалии окружающей жизни с магазинными очередями, представил свой не особенно сбалансированный быт, и ему стало тошно. Он решил не воспевать современность, а осуществить свое писательское дарование (буде оно проявится) в области истории.
Морхинин посоветовался с Обабовым.
– Ты, Валерьян, начни с рассказа, а не с романа, – сказал Обабов.
– Почему? А Бальзак? А Дюма-отец?
– Это французы девятнадцатого века. А ты русопятый россиянин советского производства. Ты живешь по своим приемам выездки и обгона.
Обабов, видимо, возродил в душе впечатления ипподрома и рысистых испытаний.
– А Дрюон? – продолжал жалобно настаивать Морхинин. – Но у нас-то, в русской истории, все занято: от Великого Новгорода до Великой Отечественной. Даже бунтари охвачены романистами. Например, есть «Степан Разин» Злобина, а есть «Разин Степан» Чапыгина. «Емельян Пугачев» Шишкова с пушкинской «Капитанской дочкой» спорят и…
– Ты, Валерьян, человек глубоко начитанный, – перебил его Обабов, вдохновенно закурив «Честерфильд» (доставал где-то по большому блату). – Вот и найди мне из… скажем, восточной истории какой-нибудь неиспользованный сюжет. Представь: Средневековье, монгольские степи, узкоглазый воин на низеньком косматом коне, завоевавший полмира… Является в эту кровавую красочную эпоху Марко Поло, венецианский купец… Понял? Валяй неизведанное для литературного рынка, а не раскроенное и перешитое в многочисленных романах.
– Не пойдет. Про монголов – вне конкуренции: «Чингизхан», «Батый» Василия Яна. А про Марко Поло написал американец Генри Харт.
– Ну и что! Ты другое раскопай, – настаивал Обабов, зацепившийся почему-то за монгольские завоевания. – Были ведь и другие путешественники, добиравшиеся в этот период до кочевой империи. Ищи, брат, ищи. Со временем приспособишься и посыплется, как из мешка.
И вот Морхинин сидел над чистым листом бумаги с шариковой ручкой в щепоти неуверенных пальцев. В воображении его возникали бескрайние степи, заросшие полынью и ковылем, гладкие солончаки ослепительно сверкали под азиатским солнцем, желтели безводные пески. Лишь орел в бледном небе да сутулая каменная баба с чашей у живота нарушали однообразие вольно раскинутого плаща Вселенной.
Морхинин представил шествие пыльного каравана верблюдов под размеренное бряцанье бубенцов; а на смирном осле – человека в длинной одежде, взирающего из-под капюшона на нескончаемый путь, на высочайшие горы, на ужасные, будто входы в преисподнюю, пропасти…
Валерьяна нервно передергивало от узорчато-переплетенной экзотики ушедших столетий, но он продолжал. Табуны монгольских коней, несчитаные отары овец, бешеные скачки скуластых удальцов в синих халатах и рысьих малахаях предваряли невиданный город посреди дикой степи, состоящий из тысяч войлочных юрт, – столицу сына Чингизха, великого властелина Мункэ…
Упорный Морхинин писал не о Марко Поло, счастливом венецианце, ставшем министром хана Кубилая, китайского императора-чингизида; он не писал о тверском купце Афанасии Никитине или о португальском флотоводце Васко да Гама, отыскавших пути в Индию. Он сочинял роман о бесстрашном монахе из Флоренции Плано Карпини, первым побывавшим в те далекие времена в центре огромной неизведанной Азии.
Морхинин обложился грудой справочников и солидных исторических книг. Он несколько раз посещал музей восточных культур. Он просматривал близкие этой теме романы, но хотел написать по-своему. Он не высыпался, потому что живописал хождения своего монаха московскими зимами, угрюмо притихшими перед государственной катастрофой.
Валерьян Александрович похудел, оттого что зарплата уменьшалась, а продукты в магазинах понемногу исчезали. Он напряженно раздумывал, как ему существовать дальше. На работе в «Домнартворе» Морхинин старался присутствовать возможно меньше, выклянчивая в поликлинике больничные листы. Но, исключая общие волнующие изменения, жизнь его не нарушалась срывами или бедами, и он, увлеченный писательством, в общем, чувствовал себя спокойно.
Но однажды с ним произошло неприятнейшее событие. Заговорившись как-то с Обабовым, Морхинин возвращался домой довольно поздно. И, хотя свой роман за полтора года он вчерне закончил, в голове его еще продолжался какой-то творческий беспорядок. Он почти не обращал внимания на происходящее вокруг, что в наступившую эпоху было непростительным легкомыслием.
Беда подстерегла его совершенно неожиданно, на Москворецком мосту среди уже сгустившегося ночного мрака. Фонари на мосту светили тускло и не все – лампы на некоторых были разбиты. Внезапно он услышал топот. Сначала бежал словно бы кто-то один. Затем послышался стук подошв (более тяжелых и уверенных) еще двух-трех человек и крик: «Стой! Стой, гад!»
Морхинин вздрогнул и, отпрянув к гранитному парапету, увидел кого-то, несущегося прямо на него. Валерьян Александрович испугался. Вспомнил, что с собой в кармане пиджака у него находился складной нож: носил-таки на всякий случай. Нож в руке Морхинина блеснул лезвием.
Неизвестный, подбежавший к начинающему писателю, отчаянно хрипел:
– Ты че? На перо меня насадить хочешь?
– А тебе чего надо?
– Мне ничего. Облава. Бежим вместе, а то загребут, – предложил, запаленно дыша, замызганный и всклокоченный мужик примерно одинакового с Морхининым возраста. – А нож выкинь… Если менты тебя поймают при ноже… хана тебе… Кости переломают!
– Почему я должен бежать от милиции? Я ничего не сделал, – проговорил тревожно Морхинин, однако почему-то прибавил шаг рядом с неизвестным, а потом и побежал следом.
– Так и я ничего не сделал, – прохрипел мужик. – Они всех заметают, для плана.
На нем был косо застегнутый изжеванный плащ, а в руке он сжимал вязаную спортивную шапку.
– Выкидывай нож, я тебе говорю, – снова сказал незнакомец, – хуже будет…
Не споря, Морхинин отшвырнул нож за парапет, и тот канул в реку. Оба бежали, оглядываясь и задыхаясь.
– А может быть, просто объяснить… – начал Морхинин, однако в ту же секунду различил рядом с собой молодых людей в куртках из болоньи, схвативших под руки его, а также и его случайного спутника.
– Да че, че? При чем я? – вырываясь, загалдел всклокоченный и тут же получил кулаком в нос.
– Попались, козлы драные, – тоже шумно дыша, злорадствовал один из людей в «болонье».
– Я пенсионер по выслуге лет! – крикнул Морхинин. – Кто вам дал право?
Его ударили ребром ладони по шее, отчего он щелкнул зубами и замолчал. Случайный напарник тоже молчал, хрюкая и втягивая кровавые сопли.
Мигнули фары милицейского УАЗа, вышел офицер в форме.
– Взяли? – спросил он бодро у догонявших. – Тех самых?
– Да вроде тех, товарищ капитан.
– В машину их и – в управление. Там разберемся. А вы с Крупниковым просмотрите набережную с той стороны.
Задержанных запихнули в УАЗ и повезли. Потом так же грубо их втолкнули в небольшое грязное помещение с темным потолком. Разило тяжелым смрадом, паршивыми сигаретами, чем-то рвотным. Человек в рваной телогрейке лежал на полу, прислонившись к стене. От него и исходил этот удушающий запах. Всклокоченный молчал, рукавом унимая кровь из носа.
На скамье, опершись на приклад «калашникова», сидел широкоскулый милиционер с погонами сержанта. Вошел небольшого роста лейтенант и кивнул на бомжа в телогрейке:
– А этот урод чего тут воняет?
– Говорит, бывший фотограф из Агентства печати «Новости». С работы турнули, он и начал квасить. Пил, пока из дома не выгнали. Вот и докатился.
– Чего ж держать? Пусть убирается на помойку.
Бомж закатил подбитые глаза, застонал. Потом из его пьяных глаз потекли обильные слезы.
– Зачем били? – надрывно и тонко крикнул он и зарыдал.
– Зачем били? – повторил вопрос фотографа лейтенант.
– Да он выручку у продавщицы из «Мороженого» попер, – ухмыльнулся широкоскулый. – Она его прихватила и ведром по башке… хэ-хэ… Ну тут мы с Зубовым подоспели, тоже потолкали его немного и – сюда. Теперь он пойдет в учет раскрываемости. Продавщица заявление на него накатала.
– Я заслуженный фотограф, у меня выставки были в Доме журналиста, – плакал бомж. – Я иностранных послов снимал…
– Заткнись, пока я тебе каблуком по почкам не саданул, – внезапно рассердился сержант. – Скажи, важный какой, не тронь его…
Поодаль открылась дверь, вышел милиционер без кителя, с засученными рукавами.
– Документы на проверку. Быстро, – хмуро приказал он.
Всклокоченный, с разбитым носом протянул какую-то бумажку. Морхинин отдал пенсионную книжку, указывающую, что обладатель ее пользуется льготами по выслуге лет. Удостоверение ветерана оперного театра и корочку Домнартвора он пока оставил во внутреннем кармане.
– А ты? – спросил бомжа милиционер с засученными рукавами.
– У меня нету теперь ничего, – вытирая слезы, признался бывший фотограф. – Все потерял в жизни, все…эх!
– Гуменников – кто? – Милиционер без кителя грозно оглядел задержанных.
– Я это, я… – лебезя, хрипанул всклокоченный в изжеванном плаще.
– Кликуха – Птичник? В заключении был?
– Нет у меня никаких кликух. И не отбывал я никогда…
– А ну зайди к капитану. Вперед, быстро.
Бежавшего через мост увели в отдаленный кабинет. Через некоторое время из-за двери послышались вскрики и глухой шум. Еще минут через двадцать дверь распахнулась. Милиционеры выволокли всклокоченного – с окровавленными губами и рассеченной правой скулой. Он стоял, качаясь и держась обеими руками за живот. Изжеванный плащ тоже был испачкан кровью.
– Нашли чего-нибудь? – заинтересованно приподнялся сержант с автоматом. – Или глухо?
– Нашли, нашли. Он наркоту в пояс зашил, ловкач. Значит так, этого и вонючего фотографа задержать. Завтра их в изолятор. Теперь этого… – Милиционер без кителя обратил грозный взгляд на Морхинина. – Пенсионер? Что-то не похож… – он иронически скривил губы.
– Да я по выслуге лет… – начал было Морхинин и подавился от толчка в спину.
Оказавшись в кабинете капитана, где допрашивали задержанных, он остановился у двери. С ним вошел милиционер без кителя.
– Подойдите ближе, не смущайтесь, – насмешливо произнес сидевший за столом капитан. – Ну? Где прячете кокаин? Или что там у вас? Признавайтесь. Вы же интеллигентный человек.
– Никогда в жизни не держал в руках наркотики, товарищ капитан, – прижимая руку к сердцу и словно предчувствуя ужас избиения, взволнованно сказал Морхинин. – Никогда. Только по телевизору, в криминальной хронике.
– Почему же вы убегали от наших сотрудников, как нашкодивший кот? Если у вас ничего не было припрятано, чего вы боялись?
– Да просто так получилось, – приступил к убеждению милиционера бывший оперный хорист. – Этот… который в плаще… бежал и мне говорит: «Бежим… Облава…» Я не понял, что за облава, по какому поводу…
– Но побежали вместе с ним… Просто так… И вы не знали, что он прожженный уголовник-рецидивист, наркоторговец, которого мы давно ищем?
– Я не знал, – печально сказал Морхинин.
Внезапно раздался свирепый рев милиционера с засученными рукавами:
– А ну к стене! Руки на стену, ноги расставить! Па-аскуда!
Морхинин распластался, упираясь грудью в стену, подняв руки и широко расставив ступни, по которым лупил сапогом помощник капитана. У него вытащили из карманов оставшиеся документы, забрали и деньги – немного, по нынешним временам рублей шестьсот.
– Наркоту успели скинуть?
– Не было у меня никаких наркотиков, поверьте мне, товарищ капитан, – еле сдерживаясь из-за незаслуженной обиды и трясясь от страха перед возможной тюрьмой, простонал Морхинин.
– А вот допрашиваемый перед вами наркодиллер Птичник заявил, будто вы выкинули в реку упаковку кокаина.
– Врет он. Нарочно. Почему вы верите ему, а не мне, бывшему артисту оперного хора и в настоящем времени служащему Дома народного творчества? Я буду жаловаться.
Тень от лампы с желтоватым абажуром шарахнулась – так быстро встал из-за стола капитан.
– Жаловаться? – переспросил он и резко ударил Морхинина кулаком в живот.
Потеряв дыхание, бывший оперный хорист едва удержался на ногах и почти минуту корчился, пока удалось вздохнуть. Наконец он сумел распрямиться, на глазах его выступили невольные слезы.
– Так будешь жаловаться? – еще раз поинтересовался капитан, сел и положил на стол кисти рук – широкие, жилистые, с мускулистыми толстыми пальцами.
Из-за всего происшедшего на теле Морхинина выступил ледяной пот, его затошнило.
– Нет, – без голоса, почти прошипел он в ответ. – Не буду.
– Вот и хорошо, – неожиданно мягко заключил капитан. – Не то старший лейтенант Хатьков проведет с тобой в соседнем кабинете дополнительную работу. И тогда тебе придется написать чистосердечное признание о хранении и распространении наркотических средств. А это до пятнадцати лет заключения в лагере строгого режима. Ты не хочешь таких последствий?
Морхинин безвольно стоял перед столом капитана и мотал головой.
– Старший лейтенант, проводи задержанного Морхинина. Он свободен. Возьмите ваши документы, Валерьян Александрович. Можете идти.
Капитан вежливо вручил Морхинину его пенсионную книжку, удостоверение ветерана оперного театра и корочку сотрудника Домнартвора. Деньги исчезли. Морхинин с трудом добрался до дома в эту ненастную неприятную ночь.
Надо сказать, приведенный выше случай долго не выходил из головы нашего героя, вызывая тяжелое состояние бессильной ярости и отчаяния. Однако Валерьян постепенно вошел в привычную колею своей скромной жизни, обратив мысли к новому пристрастию своего существования – к литературе.
Некая симпатичная, приятно упитанная дама, приходившая к нему в гости и даже остававшаяся иногда ночевать, посоветовала ему две полезные вещи. Чтобы поддержать материальное положение – пойти петь в церковный хор. А с написанным романом представиться одному из видных литературных чиновников, сидевших в кабинетах Центрального дома литераторов.
В отношении церковного хора поначалу сладилось не совсем удачно, хотя у Морхинина сохранился вполне приличный баритональный бас, да и читать с нотного листа он тоже не разучился.
В субботу вечером перед всенощной Валерьян явился в выбранный храм. Женщина-регент предложила ему занять место на клиросе в последнем ряду между двумя солидными мужчинами – седовласым и лысым. Те оказались басами, и один воспринял Морхинина как нежелательного конкурента.
– Опять инородца подсунули на нашу шею, – произнес седовласый, обращаясь к своему коллеге.
– Почему же инородца? – миролюбиво удивился слегка помятый, полноватый гражданин лет пятидесяти. – Всегда ты, Матюша, придумаешь что-нибудь.
– Так ты, Викентий, ничего не замечаешь, что ли? Посмотри в профиль, все сразу станет ясно, – продолжал бесцеремонно седовласый с мрачным выражением на красноватой физиономии. – Меня не обманешь: сотоварища пригласили нам от избранного народа.
– Ну как тебе не стыдно, Матюша, – огорченно прошептал полноватый с добродушным лицом. – Он же не виноват…
– Да что вы тут городите?! – вмешался наконец Морхинин. – Я не имею никакого отношения ни к избранным, ни к каким-то другим. Дед и отец у меня с Рязанщины. Может, паспорт предъявить?
– Анекдоты насчет паспортов мы знаем, – не унимался седовласый. – А вот нос-то никуда не денешь.
– Нос у меня нормальный, – начиная по-настоящему злиться, досадливо перекосился Морхинин. – А кое-кому самому могу нос поправить, чтобы не совал куда не просят.
– Басы, перестаньте разговаривать, – сердито заметила строгая регент в черном бархатном платье. – Приступаем. – Она перекрестилась.
Служба началась. В перерывах песнопений сварливое бурчание со стороны седовласого продолжилось. Морхинин опечалился слегка, но нашел выход:
– Всенощную закончим, идем в магазин. Я беру «Московскую», три пива и три сырка «Волна».
Как он и предполагал, бунт со стороны седовласого Матвея Савельевича Буркова мгновенно прекратился. Когда они после службы выпили водки и прихлебнули пива, Бурков даже подмигнул Морхинину:
– Как я тебя разыграл, новокрещенец? Ха-ха-ха… Если хочешь знать, мой лучший друг был Аркашка Кигель, шикарный бас. Мы с ним лет двадцать пели по храмам – неразлейвода. Октава у него звучала редкостно: бархат… Да, прекрасный парень был, умер недавно. Спился, царствие ему небесное и мир душе.
Морхинин подружился со своими коллегами по церковному хору, и время от времени они освежали перемирие уже в складчину.
II
В Центральный дом литераторов, который имеющие к нему отношение называли фамильярно «Цэдээл», Морхинин отправился наугад, прихватив роман, перепечатанный за немалые деньги рассеянной машинисткой из служебного машбюро. Как только автор осмеливался вставить для выразительности китайское или персидское словцо, она обязательно делала ошибку – дурацкую до изумления, но перепечатывать заново бесплатно отказывалась, и Морхинин беленьким «штрихом» и ручкой с черным стержнем, потея и шепча проклятия, часами исправлял напечатанное.
Поднявшись на третий этаж ЦДЛ, новоявленный автор увидел в приемной женщину, взглянувшую на него неодобрительно.
– К Ивану Фелидоровичу? По какому вопросу? – резко спросила она.
– Видите ли… по личному.
– А, это вы покупаете у него старую машину?
– Я написал роман.
Лицо женщины изобразило не просто неодобрение, а почти отвращение. Она встала и заглянула в кабинет, находившийся в трех шагах от нее. Дальше Морхинин слышал только ее ответы:
– На этот раз мужчина. Думаю, настырный. Нет, не стихи. Роман!.. Впустить? Зайдите, – с презрением сказала секретарша Морхинину, – но побыстрее. У Ивана Фелидоровича масса неотложных дел.
Морхинин достал из портфеля, сунул под мышку довольно объемистую папку с «Плано Карпини» и перешагнул через порог кабинета, испытывая чувство благоговения.
За небольшим столом, заваленном пачками печатных листов, сидел коротковатый и слегка седоватый литературный чиновник с бородкой (что, кажется, указывало на его патриотизм) и зачесанными за уши гладкими волосами. Он приподнялся и вежливо протянул руку. Морхинин расшаркался, представившись как бывший артист оперного театра. То, что литначальника звали Иван Фелидорович, он уже усвоил от секретарши, а фамилию «Ковалев» различил на дверной табличке.
– Я решился побеспокоить вас по поводу… – начал Морхинин.
– Повод мне известен, – остановил его Ковалев. – Но, сами понимаете, я не смогу тут же ознакомиться с ним. Объем весьма внушительный. Такие вещи мы передаем нашим рецензентам. А уж, исходя из их мнения, приступаем к обсуждению.
– Я только собирался спросить совета… – почтительно сказал автор.
Однако Ковалев задержал его душеизлияния и продолжил:
– Вот если бы вы предоставили нам небольшой рассказ… Тогда бы я, возможно, взял на себя первое знакомство с вашим произведением. Или, например, если бы вы оказались девушкой, молоденькой, хм… То есть, поймите меня правильно, принесшей свежие юные стихи… Прочитав три-четыре стихотворения, опытному человеку сразу станет понятно, имеет ли автор дарование.
– Да, жаль, что у меня не рассказ и не стихи, – расстроенно проговорил Морхинин, – и что я не девушка…
– Не волнуйтесь. Я сделаю все, что в моих возможностях, – успокаивающе поднял аккуратные ладони Иван Фелидорович. – Верочка, – вызвал он секретаршу, – направьте рецензентам один экземпляр романа. Через месяц будет ответ. У вас с собой сколько экземпляров? – обратился он затем к Морхинину. – Два? Замечательно. Со вторым вам придется пройти в Гнездниковский переулок. Там у нас отдел для работы с начинающими. И хотя вы, так сказать, не столь молоды для начинающего, однако я напишу записку нашему сотруднику. Он вам поможет. Всего наилучшего, – закончил этот воспитанный и приветливый человек.
Передав секретарше напечатанный на машинке экземпляр, который она мрачно зарегистрировала в похожей на гроссбух книжище, Морхинин собрался в Гнездниковский переулок.
– Вы знаете, сколько прозаиков официально состоит в Союзе писателей Москвы? – внезапно спросила его секретарша. – Нет? Три тысячи. А во всем Союзе знаете сколько? Двадцать пять тысяч. Понимаете?
– М-да, – неуверенно и встревоженно произнес Морхинин.
– А приносят регистрировать и рецензировать каждый год сто тысяч романов, повестей и рассказов. Я уж не говорю про стихи, – сверля побледневшего Морхинина негодующими зрачками, изливала горькую информацию секретарша любезного Ковалева.
– И… что же? – растерянно поинтересовался Морхинин.
– Не ходите с запиской в Гнездниковский. Не ходите. Толку не будет.
Но, вдохновленный обнадеживающими словами Ковалева, Морхинин поспешил было по указанному адресу, однако чуть не сбил с ног элегантную черноглазую девушку в кожаном плаще. Из-под синей вельветовой кепки ниспадали пряди бесцветных, как платина, волос. Открытые в улыбке зубы и чуть подкрашенные большие глаза сияли. Отброшенные полы плаща показывали ножки, просто убивающие стройностью и стремительностью походки. Девушка казалась неотразимо очаровательна.
Войдя в приемную, она спросила небрежно:
– Веруша, шеф у себя?.. Так че ты сидишь, а не докладываешь, что пришла Баблинская собственной персоной, как договаривались? – Баблинская рассыпала серебристый смешок, распахивая и закрывая за собой дверь.
– Кто она? – шепотом поинтересовался Морхинин.
– Поэтесса и хамка, – шепотом же пояснила секретарша, лицо ее при этом исказилось от ненависти. – Редкая сволочь, – добавила она, наклоняясь к оторопевшему Морхинину, – и дешевая, прости господи…
Надо сказать, до аудиенции к Ковалеву Морхинин давал читать своего «Плано Карпини» одному журналисту-международнику, который жил с ним в одном подъезде в отдельной «трешке» с женой и дочерью, девушкой лет шестнадцати, страдавшей психическим отклонением на сексуальной почве. Эта ее особенность проявлялась, когда родители-журналисты улетали за рубеж, а школьница оставалась наедине с вожделениями юности. У нее постоянно собирались компании молодежи, веселящейся под грохот входящего в моду хардрока, переливчатый визг и взрывы подросткового хохота.
Нечаянно, сумрачным вечером, дочь международников (звали ее Матильда или Матя) приблизилась к возвращающемуся после церковной службы Морхинину.
– Пойдемте ко мне, Валерьянчик, – пьяненьким голоском с сипотцой предложила Матя. – Мне как раз требуется что-то вроде валерьянки.
– Нет уж, детка, обойдись как-нибудь без меня, – отказался усталый Морхинин, представляя реакцию ее родителей по поводу такого альянса. – И вообще мне бы не желалось наблюдать из-за тебя небо в квадратах.
– Ну почему, дядь Валь? Мне скоро шестнадцать. Опять придется дворника звать, – захныкала Матя. – Вы красивый и чистенький, а от него пахнет…
Глаза Мати были круглы и глупы, как у нерпы. Морхинин удалился от нее с поспешностью морально безупречного гражданина.
Ее отец, журналист-международник по фамилии Крульков, был крепыш маленького роста, ходивший по вечерам играть в теннис, заканчивающийся потом бутылкой водки пополам с партнером. Как раз таким «теннисным» вечером Морхинин и столкнулся с Крульковым на улице. Погода портилась, под порывами ветра летели крупные капли дождя, и журналист выглядел немного хмурым. Тем более что он проиграл своему сопернику все сеты подчистую.
– А, хэлло, Валерьяша, – оживился он, увидев Морхинина. На его энергичной физиономии возникла мимическая фигура удивления. – Ей-богу, не ожидал. То есть, я хочу сказать, не ожидал от твоего романа такого впечатления. Ну, думаю, подсунул певчий какую-нибудь графоманскую муть. Начал читать и, знаешь ли, зачитался. Все есть. Слог, язык кинематографический. Проглотил с удовольствием. Надо позвонить в издательство «Передовая молодежь» одному типу. Фамилия его Дунаев. Вообще-то он скот и просто так ни для кого делать ничего не будет. Но я попрошу тебя принять. Держи его телефон.
Морхинин несколько раз звонил Дунаеву безрезультатно. Правда, тот ободряюще сказал, что если уж Крульков хвалит, то, наверно, роман чего-то да стоит. Но сам он, Дунаев, занят по горло и не имеет ни секунды свободного времени.
– Впрочем, стремитесь к своей цели, – закончил последний телефонный разговор Дунаев. – Раз вы талантливы, не хочу вам помогать. У меня такой принцип.
– Талантливым нужно помогать, бездари пробьются сами, – изрек затасканную банальность кто-то рядом с Дунаевым.
На том конце провода вспыхнуло яркое матерное ругательство, и Морхинин понял, что здесь надежды оказались напрасными.
Теперь же, после разговора у приветливого Ковалева, с его запиской в кармане, Морхинин явился в Гнездниковский переулок.
В первой же комнате его встретил молодой человек приятной наружности. У него была живописная шевелюра в сочетании с большими пышными усами. От этого молодой человек казался загримированным опереточным казаком, только одетым в свитер и джинсы.
– Микола Лямченко, – прочитав записку Ковалева, тенорком представился молодец с усами. – Сейчас передадим вашу рукопись Федору Симигуру.
Они вошли в следующую комнату, где проводился, по-видимому, литературный семинар. Несколько унылых юношей и девушек сидели перед столом, за которым курил трубку желтовато-смуглый человек восточного типа.
Лямченко подошел к столу и сказал:
– Хведя, вот Иван Фелидорович прислав хлопца з романом. Прочти. И безпрецедентно изъяви свое мнение.
Восточный человек взял папку Морхинина, взвесил в руке, положил на стол перед собой. Потом пристально посмотрел на автора:
– Кирпичи производите? Не одобряю. Поначалу следует тонкие лаваши испекать, почти прозрачные. Чтобы качество угадывалось на просвет. Через неделю получите ответ. Мрачный и беспощадный. Так вот я и говорю, Данте… – Симигур перевел черные выпуклые глаза на унылых слушателей.
Похожий на опереточного казака молодец с большими усами намекающе улыбнулся Морхинину:
– Приходите через неделю в это же время. Вместо водки принесите две бутылки портвейна. Хведор больше портвейн уважает. До свиданки, дорогой гость нашей молодежной организации, хотя вы похожи больше на дядьку, чем на парубка, гы-и…
Погода менялась, то становясь почти зимней, то затяжными дождями возвращаясь к слякотной осени. Морхинин с нетерпением дожидался, когда пролетит неделя. Он пел на церковных службах. При перерывах в церковном священнодействии Валерьян иногда улыбался, даже запускал легонькие комплименты высокой стройной девушке Юле с короткой стрижкой и превосходным сопрано.
Через неделю после знакомства с Ковалевым, Лямченко и Симигуром, купив две бутылки «Таврического» портвейна, он прибыл в Гнездниковский переулок. Лямченко и смуглокожий Симигур его ждали. Симигур загадочно потирал руки. Папка с морхининским романом была при нем.
– Гы-и… хороший человек, – ласково посматривая на Морхинина, достающего бутылки, изрек Микола.
Когда выпили по стакану, Симигур встретил томным восточным взглядом глаза Морхинина, жаждущие оценки.
– Удивлен, – произнес он. – Проза пестрая, насыщенная массой всяческих дряхлоазиатских сведений и этакой драчливой возни: мечи, стрелы, саадаки, иноходцы-текинцы, барабаны-наккары на слонах, шум, гам, тарарам… Это прямо-таки слышно. А видно – голубоватые холмы монгольских степей и скрипучие повозки, волокущие белые юрты, а еще сторожевые башни и стремительные конные караулы, рассыпающие в ночной тьме искры смоляных факелов… Краснощекие монголки с косами до пяток и нежные китаяночки, пахнущие жасмином, и этот хитрый, умный, отважный католический монах… Скажу прямо: роман изрядный. Автору ужасно интересно было его писать, а потому и читателю интересно его читать. Разливай пойло, Миколка. А через три дня, Валерьян, попремся к одному троглодиту пробивать издание. Может быть, выгорит.
– Не, если бы тема была отечественная, – вмешался Лямченко, – то на раз плюнуть в «Совписе» бы толкнули. А так… придется поскрипеть. Китай этот да еще монах, хрен бы его батьке… Но ничого, не сумовайся, Симигур не такое издавал, – констатировал в финале усатый молодец в джинсах.
Спустя три дня Морхинин при галстуке и с романом в портфеле стучался в комнату Лямченко. Тот вышел скучный и прикрыл за собой дверь. Из-за двери донеслись женское хихиканье и чей-то басовитый сытенький гоготок.
– Все пока отменяется, – развел руками Лямченко. – Симигур умер. Так шо ничого не поделаешь, жди случая.
– Как умер?! – ужаснулся Морхинин, вытаращив глаза.
– Да взяв сегодня ночью и того… перекинувся на тот свет, – пожал плечами Лямченко. – Ладно, пиши, заходи, приноси, не забувай знакомства.
Ошарашенный Морхинин, разочарованный и задумчивый, побрел совещаться с Обабовым.
– Я же тебе говорил, мон ами, начинать нужно с рассказа. Рассказ подавай и тыкайся по журналам, – назидательно разглагольствовал тот.
– Где ж я возьму рассказ? – огрызнулся расстроенный Морхинин. – Я не умею писать рассказы.
– А ты полистай свой романчик. Найди какой-нибудь подходящий эпизод, не связанный с кардинальной линией. Подсуетись с началом и с концом. Вот тебе и рассказ.
III
Когда проходила рождественская ночная служба, все было замечательно, как всегда. Полыхали в руках прихожан десятки свечей. Клир служил в белом торжественном облачении. Кадила, взмахивая, исторгали клубы фимиама. Хор пел старательно и возвышенно. Оживленно поблескивающие взгляды отражали, кроме православного торжества, предвкушение праздничного разговения.
Однако к часу ночи все уже приустали. Тем более что в десять утра предстояла литургия. Хор, как и духовенство, по окончании ночной службы потянулся к трапезной, где дожидались столы, уставленные всевозможным угощением, винными бутылями и даже прозрачными водочными графинчиками.
Направляясь следом за другими, Морхинин заметил среди покидающих храм прихожан высокую Юлю, спешившую в противоположном от трапезной направлении. Он быстро догнал девушку и коснулся ее локтя:
– Юлечка, а вы почему бросаете собратьев? Поднесли бы к губам рюмку-другую ради Рождества Христова…
– Нет, Валерьян Александрович, я не в состоянии после бессонной ночи петь утром. Поэтому я никогда не остаюсь на трапезу, а мчусь домой, чтобы поспать хоть часа четыре.
– Но вы можете не успеть на метро. В два закрывают. Берете «бомбиста»? А это не опасно ночью для очаровательной девушки?
– Меня подвезет на машине двоюродная сестра. Она была на службе. У нее и переночую.
– Эх, жаль! – искренне воскликнул Морхинин, имевший намерение после разговения пофлиртовать с хорошенькой Юлей. – Хотя мне, собственно, тоже деваться некуда. Певчим настоятель помещение для отдыха не предоставляет. Мыкайся до утра где хочешь.
– Тогда поехали. Уж устроим вас как-нибудь на ночь, – сказала Юля. – Если, конечно, вы не станете сожалеть о выпивке и закуске. Так что же?
– Еду, – заявил Морхинин.
За рулем белой «Волги» сидела, ожидая сестру, стройная особа в легкой куртке и норковой шапочке. Из-под шапочки струились по плечам светлые пряди. Удивленно взглянули темнеющие даже в полумраке черные глаза и блеснули весело открытые зубы:
– О, Юлька, да ты с кадром? Лихо!
– Наш лучший бас Валерьян Александрович, – представила Морхинина слегка покрасневшая Юля. – Это он солировал, когда пели «С нами Бог». А это моя сестра Кристина. Христя, мы решили…